РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Ольга Донцова
В науке с трех лет
В науке с трех лет
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Ольга Донцова
В науке с трех лет
В науке с трех лет
- Разговоро том, почему рибосома такая особенная и важная, где и зачем нам искать новые антибиотики и почему теломеразе не суждено стать эликсиром молодости
- ГеройОльга Донцова, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ, профессор Сколтеха, академик РАН
- СобеседникЕлена Кудрявцева, журналист
- Беседовалив октябре 2022 г.
— Ольга Анатольевна, как вас воспитывали, был ли шанс пойти работать не в науку?
— Наверное, не было. Мой отец был известным химиком. С его помощью была разработана теория гетерогенной вулканизации, благодаря которой удалось создать технологию шинной промышленности, вулканизации резины. К сожалению, он рано умер. Но он всегда был фанатом науки. Мне в 3 года объясняли, как мир устроен. Мы с отцом были очень близки. Он со мной много времени проводил, много гулял. В качестве сказок пересказывал мне научно-фантастические произведения братьев Стругацких. То есть с детства у меня в жизни наука и научная фантастика. Мама была руководящим органом в семье и тоже известным человеком. Она была главным химиком Советского Союза по пленкам, в том числе пленкам спецназначения. Куда такому ребенку, как я, было деваться? Окончила 171-ю школу, естественно. У меня было 4 по сочинению и 3 по поведению за то, что не любила ходить в юбках, ходила в штанах.
— А когда поступали, уже понимали, чем хотите заниматься?
— Я хотела что-нибудь понимать про жизнь. Я много читала, но особенной для меня была книга Уотсона «Двойная спираль», прямо в душу запала. На биофак поступить было без шансов, так как биологию я не знала вообще. На химфаке мне понравилась кафедра энзимологии и кафедра химии природных соединений, куда я пришла на первом курсе. Как я сюда пришла, так тут и осталась. Е.К.: Вы много лет занимаетесь изучением рибосомы, отвечающей за синтез белка, и поиском новых антибиотиков. Что тут самое интересное? О.Д.: Эта область интересна тем, что здесь можно открыть совершенно новые, необычные процессы. Например, совсем недавно Пётр Сергиев и его аспирант в Сколтехе Тинаше Принс Мавиза открыли совершенно новый способ борьбы бактерий с токсинами, который вносит разрыв в цепи РНК. Таким образом бактерии уходят от атаки и выживают. Это очень интересная, совершенно новая работа, по которой в этом году была опубликована первая статья. Сейчас это направление активно развивается.
— В чём состоит главная проблема разработки новых антибиотиков?
— Основная проблема с новыми антибиотиками — откуда их взять. То, что лежало на поверхности, отработано. Поэтому мы ищем ученых, которые работают с нетипичными источниками: морскими микроорганизмами, термофилами Камчатки, почвами и т. д. Но я бы не сказала, что мы открыли много совсем новых антибиотиков. Как правило, речь идет об антибиотиках, уже внесенных в базу, но про которые не было понятно, как они действуют. Для нескольких таких антибиотиков нам удалось понять механизм действия. В редких случаях обнаруживаются новые молекулы, неизвестные ранее. Для одного из таких соединений мы смогли понять, как оно связывается с рибосомой, а это оказался совсем другой механизм действия, отличный от всех других антибиотиков.
— Наверное, не было. Мой отец был известным химиком. С его помощью была разработана теория гетерогенной вулканизации, благодаря которой удалось создать технологию шинной промышленности, вулканизации резины. К сожалению, он рано умер. Но он всегда был фанатом науки. Мне в 3 года объясняли, как мир устроен. Мы с отцом были очень близки. Он со мной много времени проводил, много гулял. В качестве сказок пересказывал мне научно-фантастические произведения братьев Стругацких. То есть с детства у меня в жизни наука и научная фантастика. Мама была руководящим органом в семье и тоже известным человеком. Она была главным химиком Советского Союза по пленкам, в том числе пленкам спецназначения. Куда такому ребенку, как я, было деваться? Окончила 171-ю школу, естественно. У меня было 4 по сочинению и 3 по поведению за то, что не любила ходить в юбках, ходила в штанах.
— А когда поступали, уже понимали, чем хотите заниматься?
— Я хотела что-нибудь понимать про жизнь. Я много читала, но особенной для меня была книга Уотсона «Двойная спираль», прямо в душу запала. На биофак поступить было без шансов, так как биологию я не знала вообще. На химфаке мне понравилась кафедра энзимологии и кафедра химии природных соединений, куда я пришла на первом курсе. Как я сюда пришла, так тут и осталась. Е.К.: Вы много лет занимаетесь изучением рибосомы, отвечающей за синтез белка, и поиском новых антибиотиков. Что тут самое интересное? О.Д.: Эта область интересна тем, что здесь можно открыть совершенно новые, необычные процессы. Например, совсем недавно Пётр Сергиев и его аспирант в Сколтехе Тинаше Принс Мавиза открыли совершенно новый способ борьбы бактерий с токсинами, который вносит разрыв в цепи РНК. Таким образом бактерии уходят от атаки и выживают. Это очень интересная, совершенно новая работа, по которой в этом году была опубликована первая статья. Сейчас это направление активно развивается.
— В чём состоит главная проблема разработки новых антибиотиков?
— Основная проблема с новыми антибиотиками — откуда их взять. То, что лежало на поверхности, отработано. Поэтому мы ищем ученых, которые работают с нетипичными источниками: морскими микроорганизмами, термофилами Камчатки, почвами и т. д. Но я бы не сказала, что мы открыли много совсем новых антибиотиков. Как правило, речь идет об антибиотиках, уже внесенных в базу, но про которые не было понятно, как они действуют. Для нескольких таких антибиотиков нам удалось понять механизм действия. В редких случаях обнаруживаются новые молекулы, неизвестные ранее. Для одного из таких соединений мы смогли понять, как оно связывается с рибосомой, а это оказался совсем другой механизм действия, отличный от всех других антибиотиков.
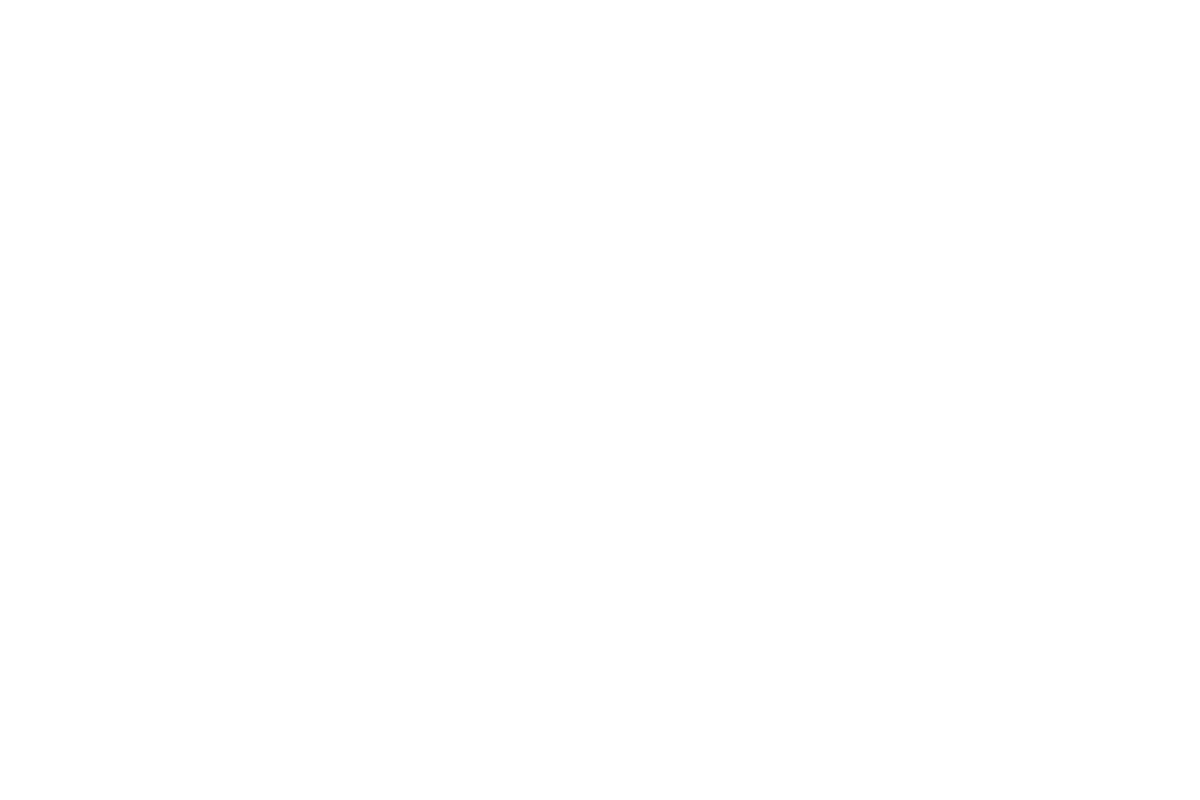
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— В чём заключался этот механизм?
— В рибосоме есть масса участков, где эти антибиотики блокируют ту или иную стадию трансляции. Один наш антибиотик заблокировал стадию трансляции, которую до него еще никто не блокировал. В этом его преимущество. Но оказалось, что он убивает не только бактерии, но и клетки человека. На самом деле главная проблема с антибиотиками в том, что мы что-то открываем, а дальше нужен хороший коллектив химиков-органиков, которые на основании наших исследований делали бы библиотеки для поиска наиболее эффективного соединения, которое сможет стать лекарством. Это, к сожалению, пока вне сферы нашей компетенции. Но думаю, что когда-нибудь мы к этому подойдем. Вот сейчас у нас в работе совершенно новый антибиотик: и формула новая, и механизм действия, и участок связывания с рибосомой новый — вообще всё.
— Он синтезированный или из природного источника?
— Из природного источника. Но я пока об этом не должна говорить по юридическим причинам: патент публикации и т. д. Но тем не менее и в достаточно изученной теме антибиотиков можно найти что-то новое. Проблема актуальна.
— Насколько была популярна тема антибиотиков и изучения рибосом в начале 1970-х, когда вы пришли в науку?
— Она и тогда была чрезвычайно актуальной. В той же Америке нобелевские лауреаты, которые получили премию за структуру рибосом, первыми открыли компанию, которая занималась разработкой новых антибиотиков на основе структурного дизайна. Какие-то успехи у них есть, но не так всё просто. Проблема остается. Успехи, я надеюсь, немаленькие есть и у нас. В Сколтехе несколько аспирантов и студентов развивают рибосомную тематику разного типа.
Вообще, тема эта историческая. Наши учителя Алексей Алексеевич Богданов и Александр Сергеевич Спирин внесли огромный вклад в понимание структуры рибосомы, трансляцию. Она интересная, но и достаточно разработанная. Но, несмотря на это, ее развивают многие молодые люди.
— Почему, несмотря на все усилия ученых, последний новый класс антибиотиков был открыт в 1984 году?
— Они открываются, но до клиники доходит очень мало. С этим связано много проблем.
В первую очередь нужно добиться, чтобы новые препараты убивали кого надо. Нам же с вами не хочется, чтобы убивали нас? Второе, нужно учесть токсичность веществ как таковых. И потом, многие бактерии используют одни и те же платформы — с модификацией. Вроде бы соединение новое, но платформа та же, поэтому механизм устойчивости к антибиотикам это соединение воспримет. Действительно новые препараты — вот что важно. Есть очень интересный подход — создавать разнонаправленные типы соединений в коктейле. Сейчас существует много типов антибиотиков. Например, проще иметь дело с рибосомными, потому что к ним тяжелее вырабатывается устойчивость, но тоже есть свои проблемы. С клеточной стенкой — тяжелее, они сами по себе более сложны технологически. Но должны быть разные подходы. Мне кажется, что скоро на первый план выйдут антибиотики, про которые когда-то забыли, а теперь на их основе в комбинации с чем-то может получиться что-то интересное.
— В рибосоме есть масса участков, где эти антибиотики блокируют ту или иную стадию трансляции. Один наш антибиотик заблокировал стадию трансляции, которую до него еще никто не блокировал. В этом его преимущество. Но оказалось, что он убивает не только бактерии, но и клетки человека. На самом деле главная проблема с антибиотиками в том, что мы что-то открываем, а дальше нужен хороший коллектив химиков-органиков, которые на основании наших исследований делали бы библиотеки для поиска наиболее эффективного соединения, которое сможет стать лекарством. Это, к сожалению, пока вне сферы нашей компетенции. Но думаю, что когда-нибудь мы к этому подойдем. Вот сейчас у нас в работе совершенно новый антибиотик: и формула новая, и механизм действия, и участок связывания с рибосомой новый — вообще всё.
— Он синтезированный или из природного источника?
— Из природного источника. Но я пока об этом не должна говорить по юридическим причинам: патент публикации и т. д. Но тем не менее и в достаточно изученной теме антибиотиков можно найти что-то новое. Проблема актуальна.
— Насколько была популярна тема антибиотиков и изучения рибосом в начале 1970-х, когда вы пришли в науку?
— Она и тогда была чрезвычайно актуальной. В той же Америке нобелевские лауреаты, которые получили премию за структуру рибосом, первыми открыли компанию, которая занималась разработкой новых антибиотиков на основе структурного дизайна. Какие-то успехи у них есть, но не так всё просто. Проблема остается. Успехи, я надеюсь, немаленькие есть и у нас. В Сколтехе несколько аспирантов и студентов развивают рибосомную тематику разного типа.
Вообще, тема эта историческая. Наши учителя Алексей Алексеевич Богданов и Александр Сергеевич Спирин внесли огромный вклад в понимание структуры рибосомы, трансляцию. Она интересная, но и достаточно разработанная. Но, несмотря на это, ее развивают многие молодые люди.
— Почему, несмотря на все усилия ученых, последний новый класс антибиотиков был открыт в 1984 году?
— Они открываются, но до клиники доходит очень мало. С этим связано много проблем.
В первую очередь нужно добиться, чтобы новые препараты убивали кого надо. Нам же с вами не хочется, чтобы убивали нас? Второе, нужно учесть токсичность веществ как таковых. И потом, многие бактерии используют одни и те же платформы — с модификацией. Вроде бы соединение новое, но платформа та же, поэтому механизм устойчивости к антибиотикам это соединение воспримет. Действительно новые препараты — вот что важно. Есть очень интересный подход — создавать разнонаправленные типы соединений в коктейле. Сейчас существует много типов антибиотиков. Например, проще иметь дело с рибосомными, потому что к ним тяжелее вырабатывается устойчивость, но тоже есть свои проблемы. С клеточной стенкой — тяжелее, они сами по себе более сложны технологически. Но должны быть разные подходы. Мне кажется, что скоро на первый план выйдут антибиотики, про которые когда-то забыли, а теперь на их основе в комбинации с чем-то может получиться что-то интересное.
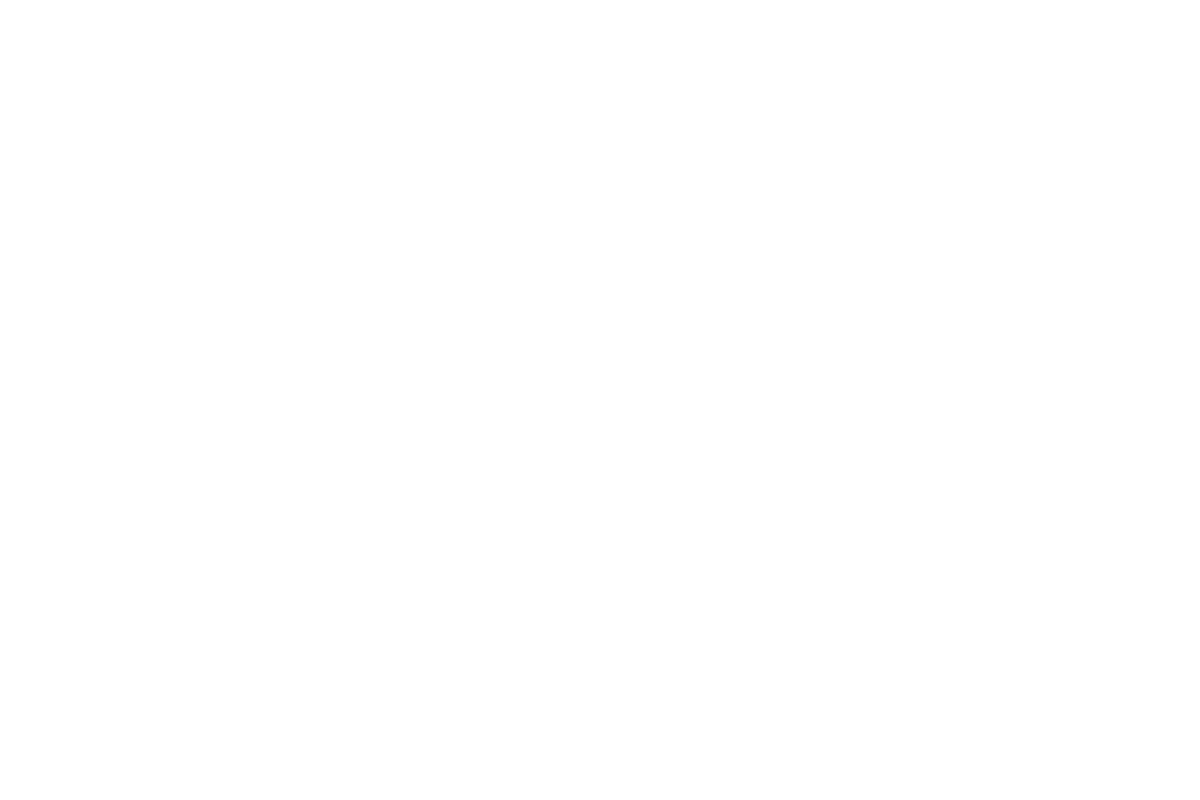
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Кто в мире сейчас успешен в этой области? Не страны, а именно люди. Есть у нас гении поиска новых молекул?
— Многие из них — наши коллабораторы, выпускники. Александр Манькин, например, наш бывший выпускник. Вообще, антибиотическая работа не очень благодарная. Создавать компании — очень дорого, а лекарства стоят потом копейки. Вот почему даже перспективные разработки не всегда доходят до клиники. Сейчас, когда актуальны ковид, осложнения больничных инфекций и страшилки с супербактериями, в первую очередь должны работать компании. Мы должны давать основы, а дальше уже этим должны заниматься точно не ученые.
— В Америке в 60-е годы прошлого века в биотехнологических компаниях была традиция: каждый сотрудник из отпуска в экзотическом месте должен был привезти кусок грязи.
— Да, у нас сейчас тоже такое есть. В рамках проекта «Гражданская наука», который делает Дмитрий Лукьянов с Новосибирском, добровольцы ходят в самые разнообразные места нашей страны и собирают образцы. Затем выделяют из полученного материала необычные микроорганизмы, бактерии, которые могли бы служить базисом для чего-то. Там и северные пути, и южные, и высокогорья.
— Кажется, что мы узнали о рибосоме почти всё. Но наверняка это дилетантский взгляд. На чём сейчас сконцентрирован ваш основной интерес?
— Мы, конечно, уже много знаем. Известны базовые принципы. Основной интерес сейчас — регуляция, необычные факторы, необычные ситуации, стрессовые условия бактерий или человека, механизмы освобождения из стрессов и т. д. Вся регуляторная наука уже принципиально не та, что была 20 лет назад.
Лично мной благодаря Говарду Хьюзу был получен потрясающий грант, лучший в моей жизни. На тот момент это были довольно приличные деньги, сравнимые со стандартным грантом РНФ на группу. А главное, единственным условием гранта была публикация статей и трата денег на науку. Благодаря этому мы смогли с нуля начать работать с теломеразой. Мы написали много хороших статей по теломеразе, по дрожжевой модели и структуре теломер дрожжей как модели — это последние статьи в eLife.
Наиболее интересна, на мой взгляд, работа профессора Марии Рубцовой. Ее работа — пример смелости в науке. Дело в том, что теломеразная РНК входит в состав теломеразы, которая удлиняет концы теломер. В стволовых клетках она активна, а в соматических у человека отключается. Но оказалось, что выключается только синтез каталитической субъединицы, а РНК есть всегда. И вот Машу заинтересовал вопрос: зачем же она там нужна? И оказалось, что там есть открытая рамка считывания, то есть может кодироваться белок. Мария решила посмотреть, действительно ли этот белок существует, и если да, то зачем он нужен. Интересно, что на одной из конференций мы озвучили идею нобелевскому лауреату Томасу Чеку, на что он сказал, что это бесполезное занятие. Несмотря на это, Мария решила попробовать и действительно синтезировала отдельно этот белок, получила с коллегами антитела и убедилась, что у него важная роль. Мне кажется, нужна большая смелость делать то, что тебе интересно, даже когда все говорят, что тебе не надо этим заниматься.
— Многие из них — наши коллабораторы, выпускники. Александр Манькин, например, наш бывший выпускник. Вообще, антибиотическая работа не очень благодарная. Создавать компании — очень дорого, а лекарства стоят потом копейки. Вот почему даже перспективные разработки не всегда доходят до клиники. Сейчас, когда актуальны ковид, осложнения больничных инфекций и страшилки с супербактериями, в первую очередь должны работать компании. Мы должны давать основы, а дальше уже этим должны заниматься точно не ученые.
— В Америке в 60-е годы прошлого века в биотехнологических компаниях была традиция: каждый сотрудник из отпуска в экзотическом месте должен был привезти кусок грязи.
— Да, у нас сейчас тоже такое есть. В рамках проекта «Гражданская наука», который делает Дмитрий Лукьянов с Новосибирском, добровольцы ходят в самые разнообразные места нашей страны и собирают образцы. Затем выделяют из полученного материала необычные микроорганизмы, бактерии, которые могли бы служить базисом для чего-то. Там и северные пути, и южные, и высокогорья.
— Кажется, что мы узнали о рибосоме почти всё. Но наверняка это дилетантский взгляд. На чём сейчас сконцентрирован ваш основной интерес?
— Мы, конечно, уже много знаем. Известны базовые принципы. Основной интерес сейчас — регуляция, необычные факторы, необычные ситуации, стрессовые условия бактерий или человека, механизмы освобождения из стрессов и т. д. Вся регуляторная наука уже принципиально не та, что была 20 лет назад.
Лично мной благодаря Говарду Хьюзу был получен потрясающий грант, лучший в моей жизни. На тот момент это были довольно приличные деньги, сравнимые со стандартным грантом РНФ на группу. А главное, единственным условием гранта была публикация статей и трата денег на науку. Благодаря этому мы смогли с нуля начать работать с теломеразой. Мы написали много хороших статей по теломеразе, по дрожжевой модели и структуре теломер дрожжей как модели — это последние статьи в eLife.
Наиболее интересна, на мой взгляд, работа профессора Марии Рубцовой. Ее работа — пример смелости в науке. Дело в том, что теломеразная РНК входит в состав теломеразы, которая удлиняет концы теломер. В стволовых клетках она активна, а в соматических у человека отключается. Но оказалось, что выключается только синтез каталитической субъединицы, а РНК есть всегда. И вот Машу заинтересовал вопрос: зачем же она там нужна? И оказалось, что там есть открытая рамка считывания, то есть может кодироваться белок. Мария решила посмотреть, действительно ли этот белок существует, и если да, то зачем он нужен. Интересно, что на одной из конференций мы озвучили идею нобелевскому лауреату Томасу Чеку, на что он сказал, что это бесполезное занятие. Несмотря на это, Мария решила попробовать и действительно синтезировала отдельно этот белок, получила с коллегами антитела и убедилась, что у него важная роль. Мне кажется, нужна большая смелость делать то, что тебе интересно, даже когда все говорят, что тебе не надо этим заниматься.
— Чем эта работа продвинула нас в знаниях о клетке?
— Если вы начинаете поливать клетку какой-то гадостью, которая вызывает клеточную смерть — апоптоз, то повышенная экспрессия теломеразной РНК способствует защите. Причем сама РНК не нужна, а нужен именно белок. То есть белок, кодируемый теломеразной РНК, помогает клеткам выживать при встрече с чем-то агрессивным. Так вот, этот белок, что исследовалось позже, регулирует процесс аутофагии. Мы еще не всё знаем, но уже можем утверждать, что это пролиферирующая клетка использует теломеразу для удлинения теломер и сигнальная молекула из ключевого элемента теломеразного комплекса необходима для того, чтобы координировать этот процесс с условиями окружающей среды. Соответственно, если сделать нокаут этого белка, то получим очень большой эффект на компоненты клетки, в том числе на митохондрию, то есть данный белок может быть неким глобальным регулятором. Мне кажется, что за последние годы это одно из самых интересных наших исследований, и оно продолжается.
— Если вы начинаете поливать клетку какой-то гадостью, которая вызывает клеточную смерть — апоптоз, то повышенная экспрессия теломеразной РНК способствует защите. Причем сама РНК не нужна, а нужен именно белок. То есть белок, кодируемый теломеразной РНК, помогает клеткам выживать при встрече с чем-то агрессивным. Так вот, этот белок, что исследовалось позже, регулирует процесс аутофагии. Мы еще не всё знаем, но уже можем утверждать, что это пролиферирующая клетка использует теломеразу для удлинения теломер и сигнальная молекула из ключевого элемента теломеразного комплекса необходима для того, чтобы координировать этот процесс с условиями окружающей среды. Соответственно, если сделать нокаут этого белка, то получим очень большой эффект на компоненты клетки, в том числе на митохондрию, то есть данный белок может быть неким глобальным регулятором. Мне кажется, что за последние годы это одно из самых интересных наших исследований, и оно продолжается.
— Давайте теперь поговорим о теломерах. Когда их открыли в 70-е годы, казалось, что сейчас мы научимся контролировать продолжительность жизни, что-то качественно изменится в жизни человека. Почему этого не произошло?
— Активная теломераза — это палка о двух концах. У вас есть стволовые клетки, у которых активная теломераза, они живут в нишах, защищены, и по мере старения эта активность падает. А теперь представьте, что в нормальной клетке активировали теломеразу, то есть она приобрела способность к бесконечному делению: на нее светит солнце, воздействуют разные другие факторы, что приводит к появлению мутаций, которые позволяют не слушать запрещающие деление сигналы организма, а значит, вероятность возникновения опухолевого процесса возрастает на порядки. Теломеразу можно включать очень ограниченно. Такие работы были: в Испании научная группа сделала аденовирус, содержащий ген теломеразного белка, который при попадании в клетку активирует теломеразу на некоторое время, поскольку вирус живет в организме ограниченное время. Мыши, которых таким вирусом заразили, значительно увеличили продолжительность жизни — на 25 %. Такие исследования провели с парой женщин-добровольцев, но результатов еще нет.
— Активная теломераза — это палка о двух концах. У вас есть стволовые клетки, у которых активная теломераза, они живут в нишах, защищены, и по мере старения эта активность падает. А теперь представьте, что в нормальной клетке активировали теломеразу, то есть она приобрела способность к бесконечному делению: на нее светит солнце, воздействуют разные другие факторы, что приводит к появлению мутаций, которые позволяют не слушать запрещающие деление сигналы организма, а значит, вероятность возникновения опухолевого процесса возрастает на порядки. Теломеразу можно включать очень ограниченно. Такие работы были: в Испании научная группа сделала аденовирус, содержащий ген теломеразного белка, который при попадании в клетку активирует теломеразу на некоторое время, поскольку вирус живет в организме ограниченное время. Мыши, которых таким вирусом заразили, значительно увеличили продолжительность жизни — на 25 %. Такие исследования провели с парой женщин-добровольцев, но результатов еще нет.
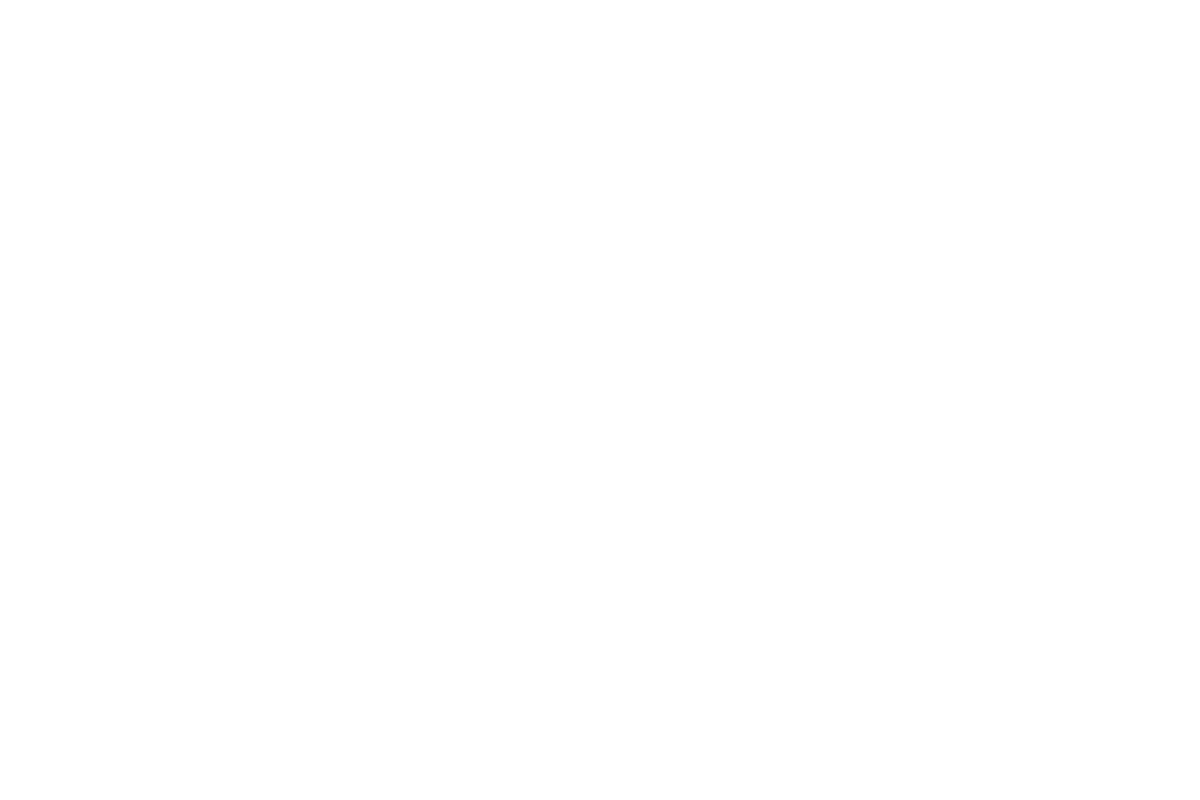
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Давно это произошло? Почему-то широко это не прозвучало.
— Не очень давно. Но эксперименты на людях не очень этичны. Когда мы имеем дело с критической стадией болезни, это один разговор. А когда человек относительно здоровый, то его чем-то травить я бы не рискнула. Мы не знаем, чем это аукнется через 5–10 лет. Например, наука о стволовых клетках очень сильно затормозилась, когда их стали везде бесконтрольно применять, после чего возникали опухоли. Это сильно дискредитировало данное направление, хотя потенциал у этой науки огромный: это возможность использовать свои собственные клетки для регенерации. В этом тоже большое будущее, на мой взгляд.
— Одно время в США анализ на длину теломер входил в обязательный список анализов перед страховкой. Как давно это происходит?
— Уже вроде бы перестали, потому что оказалось, что корреляция далеко не 100 %. Ваши соматические клетки делятся очень мало, им хватает теломер, приобретенных в результате дифференцировки. Основная проблема в клоногенном потенциале стволовых клеток. Известный пример, что у пожилых людей наблюдается потеря массы, когда нормальные фибробласты заменяются жировой тканью. Это связано с тем, что клоногенный потенциал падает. Теломеры укорачиваются, теломераза менее активна, дифференцированных клеток становится меньше; но помимо этого есть еще масса других причин: репарационная система плохо работает, мутации накапливаются, клетки в не очень хорошем состоянии. Причина нашего старения связана не только с теломерами и теломеразой, но и с массой других факторов: и с регуляцией разных процессов, и с трансляцией, с накоплением разных неправильных молекул и т. д.
— Какие работы наиболее интересны в этой области в последние годы, в какую сторону сейчас всё движется?
— В сторону здорового образа жизни. Не есть сладкого, много заниматься спортом, не иметь вредных привычек. По поводу сладкого: есть проект в компании ЭФКО по сладким белкам, которые в мороженое или в колу можно добавлять вместо сахара в 1000 раз меньше. При этом сладость как у сахара, а переваривается как мясо. И еще важна ментальная активность. Если вы посмотрите, то самая большая продолжительность жизни — у академиков РАН, у кого голова работает постоянно, кто не лежит на диване, не гуляет просто так, кто постоянно решает проблемы, кто чего-то хочет.
— Не очень давно. Но эксперименты на людях не очень этичны. Когда мы имеем дело с критической стадией болезни, это один разговор. А когда человек относительно здоровый, то его чем-то травить я бы не рискнула. Мы не знаем, чем это аукнется через 5–10 лет. Например, наука о стволовых клетках очень сильно затормозилась, когда их стали везде бесконтрольно применять, после чего возникали опухоли. Это сильно дискредитировало данное направление, хотя потенциал у этой науки огромный: это возможность использовать свои собственные клетки для регенерации. В этом тоже большое будущее, на мой взгляд.
— Одно время в США анализ на длину теломер входил в обязательный список анализов перед страховкой. Как давно это происходит?
— Уже вроде бы перестали, потому что оказалось, что корреляция далеко не 100 %. Ваши соматические клетки делятся очень мало, им хватает теломер, приобретенных в результате дифференцировки. Основная проблема в клоногенном потенциале стволовых клеток. Известный пример, что у пожилых людей наблюдается потеря массы, когда нормальные фибробласты заменяются жировой тканью. Это связано с тем, что клоногенный потенциал падает. Теломеры укорачиваются, теломераза менее активна, дифференцированных клеток становится меньше; но помимо этого есть еще масса других причин: репарационная система плохо работает, мутации накапливаются, клетки в не очень хорошем состоянии. Причина нашего старения связана не только с теломерами и теломеразой, но и с массой других факторов: и с регуляцией разных процессов, и с трансляцией, с накоплением разных неправильных молекул и т. д.
— Какие работы наиболее интересны в этой области в последние годы, в какую сторону сейчас всё движется?
— В сторону здорового образа жизни. Не есть сладкого, много заниматься спортом, не иметь вредных привычек. По поводу сладкого: есть проект в компании ЭФКО по сладким белкам, которые в мороженое или в колу можно добавлять вместо сахара в 1000 раз меньше. При этом сладость как у сахара, а переваривается как мясо. И еще важна ментальная активность. Если вы посмотрите, то самая большая продолжительность жизни — у академиков РАН, у кого голова работает постоянно, кто не лежит на диване, не гуляет просто так, кто постоянно решает проблемы, кто чего-то хочет.
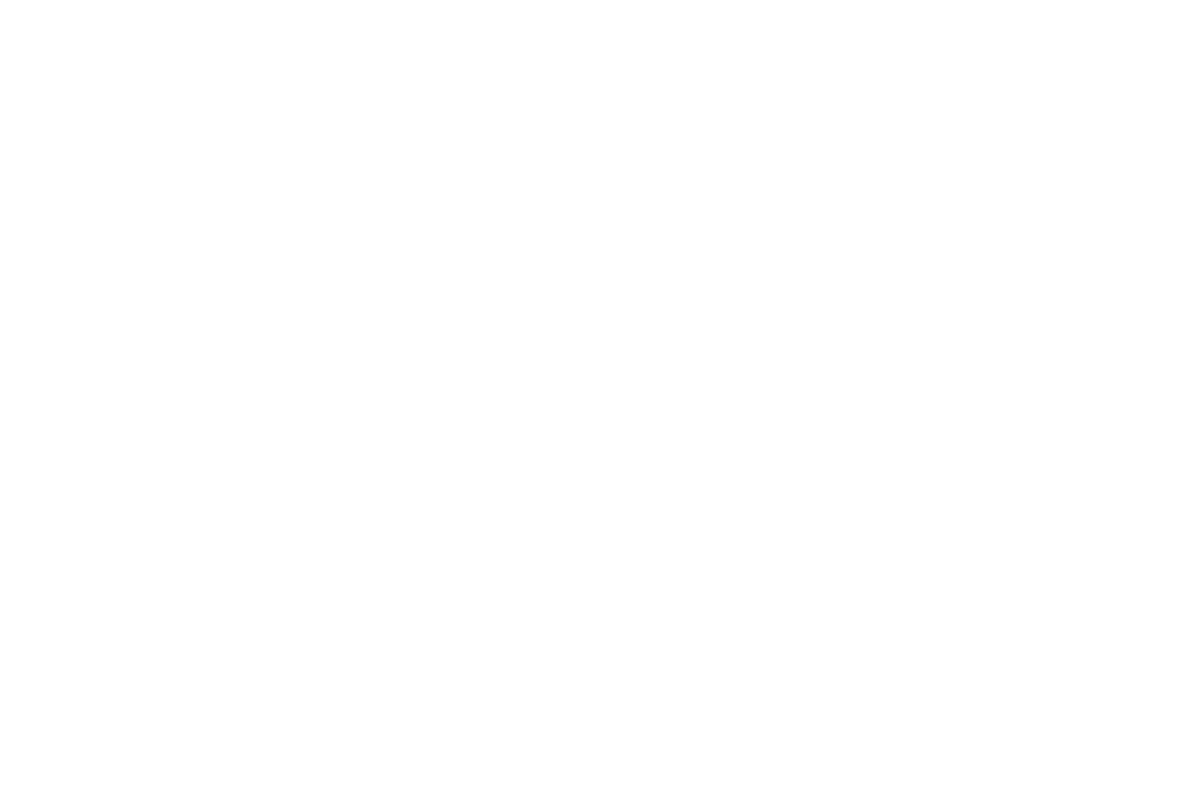
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Значимая часть вашей работы связана с некодирующей РНК. Что это такое и почему во всём мире такой большой интерес к этой области?
— Некодирующие РНК — целый мир. Они сами по себе регулируют вообще всё. С этим у нас действительно связано еще одно большое направление работы. В Сколтехе этим занимается Ольга Буренина, ей удалось открыть ряд новых некодирущих РНК, которые могут быть использованы для точной диагностики рака. Однако, как мы показали на примере теломеразной РНК, многие РНК могут кодировать пептиды. Такие пептиды могут быть важны для регуляции.
Аспирант Сколтеха Никита Шепелев в коллаборации с нашим бывшим аспирантом Павлом Барановым, который сейчас работает биоинформатиком в Ирландии, ищет необычные пептиды в некодирующих областях мРНК — новой области, в которую мы потихоньку входим, развиваемся.
— Почему в принципе РНК стала такой модной темой?
— Классически некодирующая РНК — это структурная РНК. Но в последние лет десять появились данные о том, что есть и другие РНК, которые регулируют практически всё. Классический пример маленькой некодирующей РНК — это микроРНК, которая регулирует трансляцию, с помощью которой вы селективно можете убить, заблокировать конкретную матрицу. Сейчас это один из потенциальных подходов к лечению разнообразных заболеваний, в первую очередь онкологических. Эти микроРНК очень часто имеют местом посадки не одну РНК, а сразу целый класс, который отвечает за ту или иную функцию в клетке.
— И можно воздействовать на опухолевые клетки, не затрагивая здоровые?
— Можно. Комплект таких РНК может выборочно убивать опухолевые клетки и наносить минимальный вред остальным. Сейчас РНК-технологии на подъеме, поэтому в чём-то можно сказать спасибо ковиду. Ведь мРНК-вакцины — хит сезона РНК-науки, который имеет далеко идущие последствия. Фактически вы можете свою иммунную систему настроить на то, что, если захотите, она будет реагировать.
— Некодирующие РНК — целый мир. Они сами по себе регулируют вообще всё. С этим у нас действительно связано еще одно большое направление работы. В Сколтехе этим занимается Ольга Буренина, ей удалось открыть ряд новых некодирущих РНК, которые могут быть использованы для точной диагностики рака. Однако, как мы показали на примере теломеразной РНК, многие РНК могут кодировать пептиды. Такие пептиды могут быть важны для регуляции.
Аспирант Сколтеха Никита Шепелев в коллаборации с нашим бывшим аспирантом Павлом Барановым, который сейчас работает биоинформатиком в Ирландии, ищет необычные пептиды в некодирующих областях мРНК — новой области, в которую мы потихоньку входим, развиваемся.
— Почему в принципе РНК стала такой модной темой?
— Классически некодирующая РНК — это структурная РНК. Но в последние лет десять появились данные о том, что есть и другие РНК, которые регулируют практически всё. Классический пример маленькой некодирующей РНК — это микроРНК, которая регулирует трансляцию, с помощью которой вы селективно можете убить, заблокировать конкретную матрицу. Сейчас это один из потенциальных подходов к лечению разнообразных заболеваний, в первую очередь онкологических. Эти микроРНК очень часто имеют местом посадки не одну РНК, а сразу целый класс, который отвечает за ту или иную функцию в клетке.
— И можно воздействовать на опухолевые клетки, не затрагивая здоровые?
— Можно. Комплект таких РНК может выборочно убивать опухолевые клетки и наносить минимальный вред остальным. Сейчас РНК-технологии на подъеме, поэтому в чём-то можно сказать спасибо ковиду. Ведь мРНК-вакцины — хит сезона РНК-науки, который имеет далеко идущие последствия. Фактически вы можете свою иммунную систему настроить на то, что, если захотите, она будет реагировать.
— Как это происходит чисто технически? Что для этого нужно сделать?
— Берёте мРНК, которую вы сами синтезировали. Запаковываете ее в специальные частицы, которые идут в клетки. Затем мРНК выходят из этих частиц, транслируются, и закодированные в них белки деградируют в клетке. В любой клетке у нас есть комплексы гистосовместимости, которые связывают эти пептиды и начинают презентировать их на поверхности клетки, и тогда иммунная система понимает, что в клетке происходит что-то не то, на ее поверхности появились чужеродные пептиды, иммунная система активирует ответ, чтобы распознать чужеродные пептиды. Теоретически вы можете разбудить иммунитет таким образом, чтобы он узнавал именно эти неправильные клетки. Это универсальная платформа для того, чтобы убить разнообразные патогены. В мире ведутся работы по развитию этого подхода для потенциального лечения разнообразных заболеваний. Это те открытия, которые нас ожидают в ближайшем будущем.
— Существуют ли такие экспериментальные препараты?
— Думаю, есть в тех компаниях, которые сделали мРНК-вакцину. Я бы на их месте делала именно это. А там достаточно продвинутые люди работают. Не сомневаюсь, что в ближайшие пару лет мы про это прочитаем.
— Берёте мРНК, которую вы сами синтезировали. Запаковываете ее в специальные частицы, которые идут в клетки. Затем мРНК выходят из этих частиц, транслируются, и закодированные в них белки деградируют в клетке. В любой клетке у нас есть комплексы гистосовместимости, которые связывают эти пептиды и начинают презентировать их на поверхности клетки, и тогда иммунная система понимает, что в клетке происходит что-то не то, на ее поверхности появились чужеродные пептиды, иммунная система активирует ответ, чтобы распознать чужеродные пептиды. Теоретически вы можете разбудить иммунитет таким образом, чтобы он узнавал именно эти неправильные клетки. Это универсальная платформа для того, чтобы убить разнообразные патогены. В мире ведутся работы по развитию этого подхода для потенциального лечения разнообразных заболеваний. Это те открытия, которые нас ожидают в ближайшем будущем.
— Существуют ли такие экспериментальные препараты?
— Думаю, есть в тех компаниях, которые сделали мРНК-вакцину. Я бы на их месте делала именно это. А там достаточно продвинутые люди работают. Не сомневаюсь, что в ближайшие пару лет мы про это прочитаем.
— Есть ли в России мРНК-вакцинная школа?
— Конечно, есть. В Институте биоорганической химии РАН есть проект Минобрнауки по мРНК-вакцинам, который, кстати, координирует Мария Рубцова. В Новосибирске есть наработанные подходы в компании, которую возглавляет Владимир Рихтер. На самом деле это коллаборация. Они разработали технологии синтеза всех необходимых компонентов. Всё, что дальше, стоит денег. Если мы говорим о дальнейшей вакцинной науке, то, конечно, она понадобится. Речь идет не просто о решении проблемы ковида, а об универсальной платформе для выработки специализированного иммунного ответа у конкретного человека. В нашей стране это надо развивать, это то, что обязательно должно быть.
— Конечно, есть. В Институте биоорганической химии РАН есть проект Минобрнауки по мРНК-вакцинам, который, кстати, координирует Мария Рубцова. В Новосибирске есть наработанные подходы в компании, которую возглавляет Владимир Рихтер. На самом деле это коллаборация. Они разработали технологии синтеза всех необходимых компонентов. Всё, что дальше, стоит денег. Если мы говорим о дальнейшей вакцинной науке, то, конечно, она понадобится. Речь идет не просто о решении проблемы ковида, а об универсальной платформе для выработки специализированного иммунного ответа у конкретного человека. В нашей стране это надо развивать, это то, что обязательно должно быть.
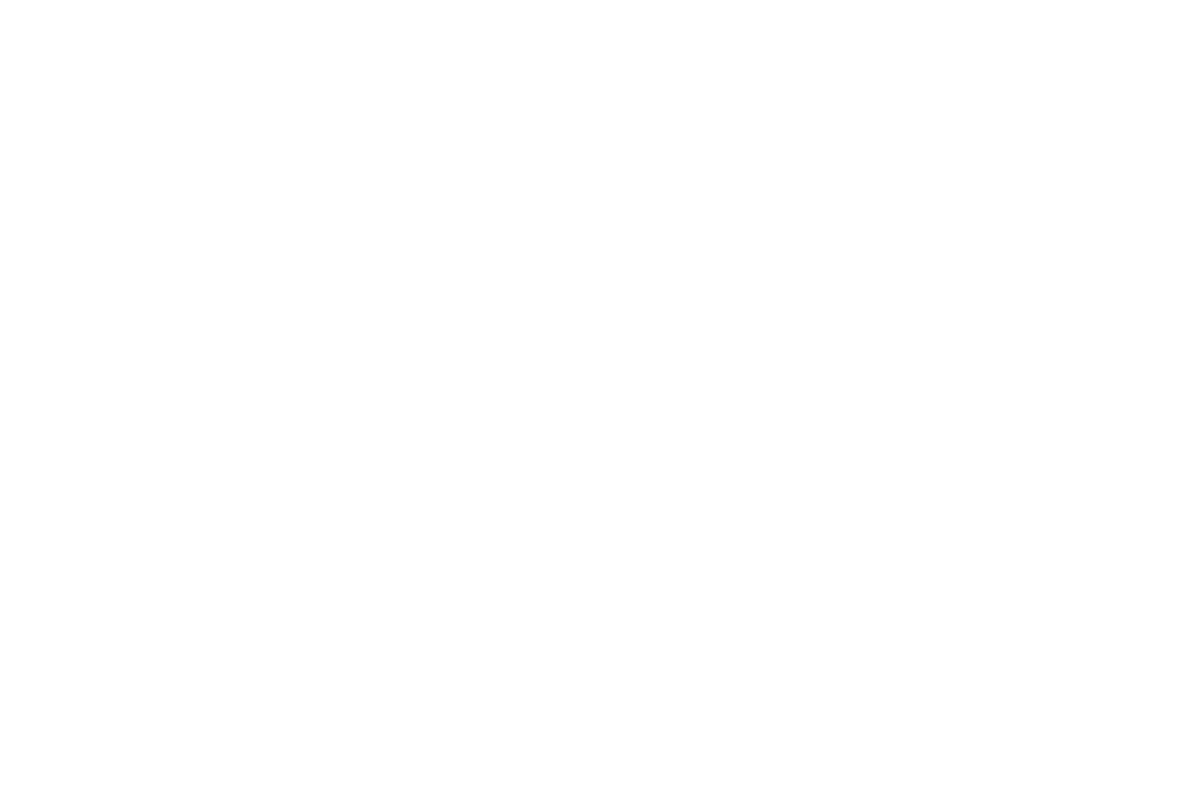
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Сколько у нас научных групп, которые непосредственно этим заняты?
— Совсем немного.
— Во что здесь стоит в первую очередь вкладываться научными ресурсами, технологиями, оборудованием?
— Для начала это просто кому-то должно быть надо. Такие проекты не разрабатываются как единичная инициатива. Ученые, которые мРНК-вакцину сделали, тоже долго пытались доказать, что это очень нужно и важно. Но это стало востребованно, только когда возникла эпидемия. А технологии очень интересные. Вы же не только мРНК можете доставлять в клетку, а любую РНК, вы можете чуть менять состав везикулы. Это открывает совершенно новые подходы: доставлять микроРНК, блокирующие РНК, и т. д. Много примеров таких хороших технологий, которые нуждаются в хорошей системе доставки, особенно специфической. Мне кажется, что стимул эпидемий для этих технологий очень большой. РНК-технологии — это огромная область. Но на самом деле мы знаем только маленькую часть айсберга, большая часть которого еще где-то плавает.
— Совсем немного.
— Во что здесь стоит в первую очередь вкладываться научными ресурсами, технологиями, оборудованием?
— Для начала это просто кому-то должно быть надо. Такие проекты не разрабатываются как единичная инициатива. Ученые, которые мРНК-вакцину сделали, тоже долго пытались доказать, что это очень нужно и важно. Но это стало востребованно, только когда возникла эпидемия. А технологии очень интересные. Вы же не только мРНК можете доставлять в клетку, а любую РНК, вы можете чуть менять состав везикулы. Это открывает совершенно новые подходы: доставлять микроРНК, блокирующие РНК, и т. д. Много примеров таких хороших технологий, которые нуждаются в хорошей системе доставки, особенно специфической. Мне кажется, что стимул эпидемий для этих технологий очень большой. РНК-технологии — это огромная область. Но на самом деле мы знаем только маленькую часть айсберга, большая часть которого еще где-то плавает.
— Какую роль сыграла РНК в происхождении жизни?
— РНК вполне может быть основой жизни. Но, если честно, я считаю, что у нас какая-то инопланетная бактерия развилась. Настолько это сложный переход: ДНК, РНК, белок. Я всё могу понять, но только не могу понять трансляцию. С бактерией и эволюцией намного яснее.
— А каких важных научных прорывов вы ждете?
— Комплекс регуляторов. Если в этом разобраться, то это огромное поле разных направлений: и передача сигналов между клетками, и то, как и куда проходит нервный импульс, и как в этом участвуют РНК, белки, везикулы. Мы могли бы узнать, как клетки общаются между собой. С практической точки зрения это РНК-технологии. Пример двух успешных — это CRISPR/Cas и мРНК-вакцина. Не сомневаюсь, что за ними будущее — не только за этими конкретными, но и за развитием разных подходов, связанных с использованием РНК.
— РНК вполне может быть основой жизни. Но, если честно, я считаю, что у нас какая-то инопланетная бактерия развилась. Настолько это сложный переход: ДНК, РНК, белок. Я всё могу понять, но только не могу понять трансляцию. С бактерией и эволюцией намного яснее.
— А каких важных научных прорывов вы ждете?
— Комплекс регуляторов. Если в этом разобраться, то это огромное поле разных направлений: и передача сигналов между клетками, и то, как и куда проходит нервный импульс, и как в этом участвуют РНК, белки, везикулы. Мы могли бы узнать, как клетки общаются между собой. С практической точки зрения это РНК-технологии. Пример двух успешных — это CRISPR/Cas и мРНК-вакцина. Не сомневаюсь, что за ними будущее — не только за этими конкретными, но и за развитием разных подходов, связанных с использованием РНК.
Интервью впервые опубликовано в журнале «Коммерсантъ — Наука», 28 от 21.12.2022
