РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Павел Крестов
История ботаники за жизнь одного кедра
История ботаники за жизнь одного кедра
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Павел Крестов
История ботаники за жизнь одного кедра
История ботаники за жизнь одного кедра
- Разговоро зеленой лихорадке, ботанических садах, преданности науке в условиях ГУЛАГа, моделировании непознанного в тропических лесах, о том, как растения ведут онлайн-трансляцию вестей о климатических изменениях
- ГеройПавел Крестов, биолог, геоботаник, директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН
- СобеседникМихаил Гельфанд, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколтеха
- Беседовалив сентябре 2022 г.
Прежде, чем начать
— Как вы стали ботаником?
— У меня была предыстория — мой отец был лесником. Я начал зарабатывать первые деньги, высаживая саженцы, мне было 10 лет. Эти саженцы росли, я видел, как они растут и как устроено лесное хозяйство. Еще мы с пацанами тогда объединялись в группы, собирали плоды лимонника, папоротник-орляк, другие дикоросы и сдавали их в специальные заготконторы — деньги делали, как могли. Вот первые деньги я заработал на растениях, копил маме на подарки, а в 10 лет купил себе первые часы.
Позже, лет в 14–15, отец стал давать мне серьезную работу — проведение рубок ухода за лесопосадками. Для того чтобы ценные породы деревьев быстрее росли, мы убирали конкурентов, которые их затеняли: пилили березы, аралии, черемуху Маака, ольху и всё малоценное, а подрост ценных деревьев — например, кедра — оставляли.
В 1984 году я поступил в Дальневосточный университет, и здесь самое сильное направление было связано, естественно, с морской биологией. И я на первом курсе пошел посмотреть, как работают гидробиологи. Меня хватило лишь на два дня разборов формалиновых проб, чтобы окончательно понять, что формалин — не мое. После первого курса пошел в армию. Это была такая «встрясочка», которая позволила всё хорошенько обдумать. Вернулся, восстановился в университете и на третьем курсе решил, что буду ботаником.
Защитил диплом, решил продолжить научную работу. Кандидатская была написана в нестандартных условиях. Я был стажером-исследователем в Биолого-почвенном институте, зарплата там составляла треть наших семейных доходов, остальные две трети с наукой не были связаны, хотя как сказать. Работал дополнительно сторожем в детском саду и здесь, в ботаническом саду, — кочегаром. И диссертацию писал в кочегарке. Здесь было хорошо — два компьютера на весь ботсад. И мы с коллегой, сейчас — тоже директор института и тоже член-корреспондент РАН, писали на них свои диссертации. Компьютеры тогда были с большими белыми клавиатурами, а после нас клавиши становились черными, а как же: подкинул угольку — и прямо с черными руками к компьютеру. Коллеги всё удивлялись — почему так.
В 1995-м мне впервые удалось съездить на международный конгресс IUFRO в Финляндию, а там более 3000 участников; все классики, книжки которых, публиковавшиеся тогда издательством «Мир», были нашими настольными, тоже там. Так я впервые увидел людей, которые в то время определяли целые научные направления. Мой доклад на конференции их заинтересовал, и я получил предложение поработать в Канаде. Естественно, я это предложение принял. Это был 1995 год — вы, наверное, плохо представляете жизнь в это время! В Канаде мои мозги насчет ботаники и вообще организации науки были полностью перевернуты. Я прожил там три года. Год семья жила со мной, два года — без меня. Мы приняли решение вернуться, потому что подумал, что если я буду здесь организован так же и работать с такой же интенсивностью, как в Канаде, то мне будет проще продвигаться в науке, чем в Канаде. Надо сказать, что конкуренция здесь, в России, даже сейчас полностью отсутствует. С 2000 года я работаю тут, а в 2010-м стал директором Ботанического сада.
— У меня была предыстория — мой отец был лесником. Я начал зарабатывать первые деньги, высаживая саженцы, мне было 10 лет. Эти саженцы росли, я видел, как они растут и как устроено лесное хозяйство. Еще мы с пацанами тогда объединялись в группы, собирали плоды лимонника, папоротник-орляк, другие дикоросы и сдавали их в специальные заготконторы — деньги делали, как могли. Вот первые деньги я заработал на растениях, копил маме на подарки, а в 10 лет купил себе первые часы.
Позже, лет в 14–15, отец стал давать мне серьезную работу — проведение рубок ухода за лесопосадками. Для того чтобы ценные породы деревьев быстрее росли, мы убирали конкурентов, которые их затеняли: пилили березы, аралии, черемуху Маака, ольху и всё малоценное, а подрост ценных деревьев — например, кедра — оставляли.
В 1984 году я поступил в Дальневосточный университет, и здесь самое сильное направление было связано, естественно, с морской биологией. И я на первом курсе пошел посмотреть, как работают гидробиологи. Меня хватило лишь на два дня разборов формалиновых проб, чтобы окончательно понять, что формалин — не мое. После первого курса пошел в армию. Это была такая «встрясочка», которая позволила всё хорошенько обдумать. Вернулся, восстановился в университете и на третьем курсе решил, что буду ботаником.
Защитил диплом, решил продолжить научную работу. Кандидатская была написана в нестандартных условиях. Я был стажером-исследователем в Биолого-почвенном институте, зарплата там составляла треть наших семейных доходов, остальные две трети с наукой не были связаны, хотя как сказать. Работал дополнительно сторожем в детском саду и здесь, в ботаническом саду, — кочегаром. И диссертацию писал в кочегарке. Здесь было хорошо — два компьютера на весь ботсад. И мы с коллегой, сейчас — тоже директор института и тоже член-корреспондент РАН, писали на них свои диссертации. Компьютеры тогда были с большими белыми клавиатурами, а после нас клавиши становились черными, а как же: подкинул угольку — и прямо с черными руками к компьютеру. Коллеги всё удивлялись — почему так.
В 1995-м мне впервые удалось съездить на международный конгресс IUFRO в Финляндию, а там более 3000 участников; все классики, книжки которых, публиковавшиеся тогда издательством «Мир», были нашими настольными, тоже там. Так я впервые увидел людей, которые в то время определяли целые научные направления. Мой доклад на конференции их заинтересовал, и я получил предложение поработать в Канаде. Естественно, я это предложение принял. Это был 1995 год — вы, наверное, плохо представляете жизнь в это время! В Канаде мои мозги насчет ботаники и вообще организации науки были полностью перевернуты. Я прожил там три года. Год семья жила со мной, два года — без меня. Мы приняли решение вернуться, потому что подумал, что если я буду здесь организован так же и работать с такой же интенсивностью, как в Канаде, то мне будет проще продвигаться в науке, чем в Канаде. Надо сказать, что конкуренция здесь, в России, даже сейчас полностью отсутствует. С 2000 года я работаю тут, а в 2010-м стал директором Ботанического сада.
— Зачем сейчас нужны ботанические сады? Вот в XIX веке — я понимаю, привозили всякие экзотические растения, высаживали в оранжереи.
— Это даже не XIX век. Это эпоха географических открытий. Ехали не за экзотикой и не за романтикой, ехали за золотом, пряностями, лекарствами, специями. И это практически полный список того, за чем ехали.
— То есть фактически из четырех пунктов только золото не было ботаническим предметом. Серебро еще.
— Серебро не так много стоило, как дорогие пряности. И всё добро, привезенное из дальних странствий, надо было куда-то посадить и как-то сохранять. Соответственно, надо было создавать для этого какие-то огороды. Их и делали там, куда прибывали корабли первопроходцев: Испания, Португалия, Нидерланды, Италия. Первый сад из ныне существующих был создан в XVI веке в Падуе. Он, как и было задумано создателями, до сих пор имеет ту же округлую форму с разбивкой по сторонам света. Туда привозили, выса живали и бережно хранили растения с разных континентов.
Я думаю, что сейчас по большому счёту цель ботанических садов осталась такой же. Когда мы говорим о ботанических садах, мы говорим о растительном генофонде, который может использоваться для селекции, для выведения новых сортов, самых разных по предназначению, и лекарственных, и технических, и красивых декоративных, и пищевых, и всех прочих других.
Сейчас упор больше делается на декоративность, потому что в какой-то момент итальянцы сказали: Bel giardino — сад должен быть красивым, и с тех пор сады стали пытаться делать красивыми и привлекательными для людей. С той поры в сад стали ходить, чтобы полюбоваться растениями, и деньги стали платить. Произошла некоторая подмена понятий, практическая востребованность растений, сохраняемых в ботсадах, ушла в тень. Красивость сада стала приносить значительно больший доход.
— Современный ботанический сад — это научное учреждение или культурно-массовое?
— Я весь свой административный период жизни положил на то, чтобы это всё-таки было научное учреждение. Потому что даже в организации культурно-массовых мероприятий должна быть научная основа и должен содержаться какой-то научный посыл людям, чтобы сделать их более грамотными, дать им информацию, которая сделала бы жизнь нашего общества лучше.
— Это даже не XIX век. Это эпоха географических открытий. Ехали не за экзотикой и не за романтикой, ехали за золотом, пряностями, лекарствами, специями. И это практически полный список того, за чем ехали.
— То есть фактически из четырех пунктов только золото не было ботаническим предметом. Серебро еще.
— Серебро не так много стоило, как дорогие пряности. И всё добро, привезенное из дальних странствий, надо было куда-то посадить и как-то сохранять. Соответственно, надо было создавать для этого какие-то огороды. Их и делали там, куда прибывали корабли первопроходцев: Испания, Португалия, Нидерланды, Италия. Первый сад из ныне существующих был создан в XVI веке в Падуе. Он, как и было задумано создателями, до сих пор имеет ту же округлую форму с разбивкой по сторонам света. Туда привозили, выса живали и бережно хранили растения с разных континентов.
Я думаю, что сейчас по большому счёту цель ботанических садов осталась такой же. Когда мы говорим о ботанических садах, мы говорим о растительном генофонде, который может использоваться для селекции, для выведения новых сортов, самых разных по предназначению, и лекарственных, и технических, и красивых декоративных, и пищевых, и всех прочих других.
Сейчас упор больше делается на декоративность, потому что в какой-то момент итальянцы сказали: Bel giardino — сад должен быть красивым, и с тех пор сады стали пытаться делать красивыми и привлекательными для людей. С той поры в сад стали ходить, чтобы полюбоваться растениями, и деньги стали платить. Произошла некоторая подмена понятий, практическая востребованность растений, сохраняемых в ботсадах, ушла в тень. Красивость сада стала приносить значительно больший доход.
— Современный ботанический сад — это научное учреждение или культурно-массовое?
— Я весь свой административный период жизни положил на то, чтобы это всё-таки было научное учреждение. Потому что даже в организации культурно-массовых мероприятий должна быть научная основа и должен содержаться какой-то научный посыл людям, чтобы сделать их более грамотными, дать им информацию, которая сделала бы жизнь нашего общества лучше.
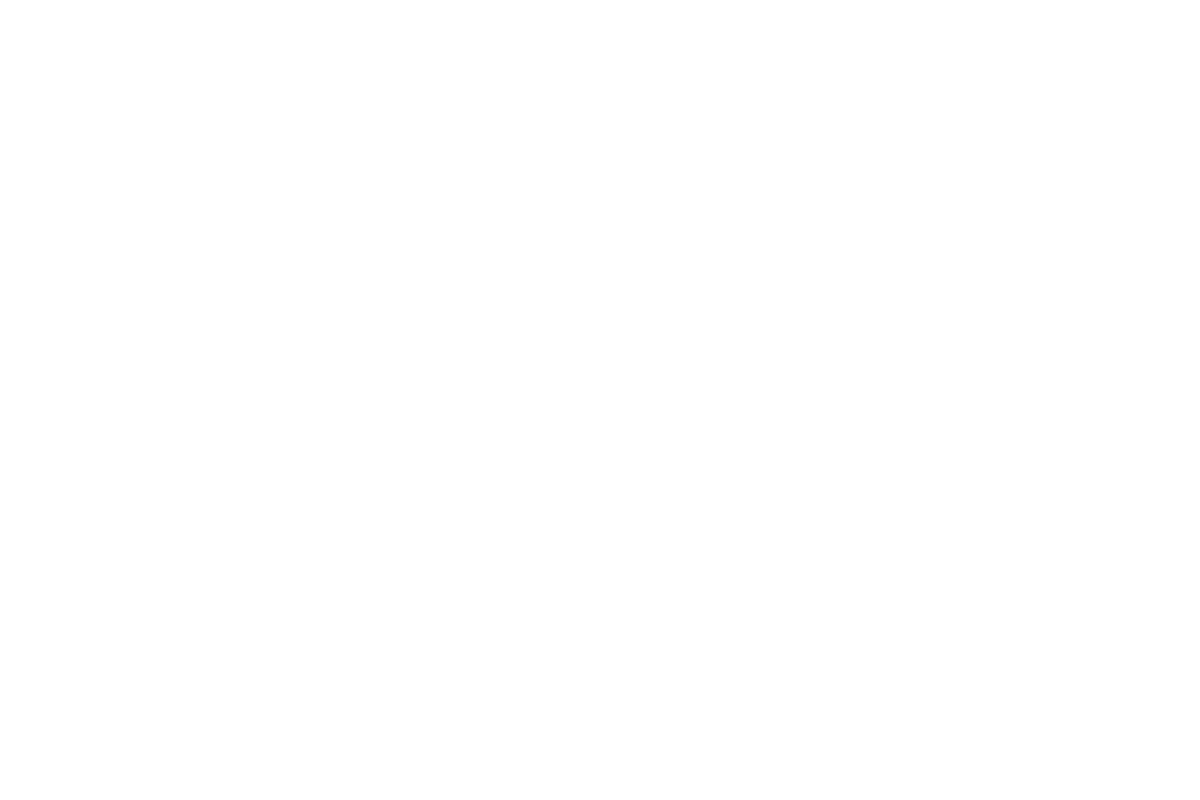
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Казалось бы, генофонд — это когда много-много семян какого-нибудь растения разных сортов. А в ботаническом саду это обычно каждого куста по одному экземпляру, максимум клумба.
— Всё так, но на самом деле ботанический сад — это идеальное место для сохранения генофонда в любых возможных формах его хранения. Во-первых, гербарии. В крупных ботанических садах есть гербарии, в некоторых садах они достаточно приличные по объему, например в Центральном сибирском ботаническом саду (ЦСБС) в Новосибирске, у нас тоже хороший гербарий во Владивостоке, в Москве в саду МГУ. Конечно, их нельзя сравнить с БИНовским или с гербарием Главного ботанического сада РАН (ГБС) в Москве. Если говорить о тех садах, которые были созданы при Академии наук, то в них сразу была заложена научная база и поставлены научные задачи, одной из которых была концентрация полезного растительного генофонда. Эти сады — ГБС, Новосибирский и наш — создавались сразу после войны: ГБС в 1945-м, ЦСБС в 1947-м и наш в 1949 году, когда, казалось бы, было не до садов. Там, естественно, хранение генофонда было второй задачей: первой задачей было народ знакомить с растительным миром Земли, районов, провести хоть какую психологическую реабилитацию после тяжелейших испытаний.
— Пытались немножко отвлечь людей от трудностей?
— Тем не менее я думаю, что был и посыл на решение научной задачи. Скажем, есть такая научная проблема, как интродукция…
— Где интродукция, там и инвазия.
— Мне кажется, что это проблема в какой-то мере надуманная, потому что инвазия в меньшей степени связана с ботаническими садами, чем, например, с экономическим развитием. Юлия Константиновна Виноградова сейчас работает по гранту РНФ, делает замечательный проект по растительным инвазиям вдоль российских железных дорог, вдоль Транссибирской магистрали в частности.
— То, что растет на обочинах, на насыпях?
— Да, то, что растет на насыпях. Там открывается множество возможностей проследить скорость распространения разных видов, источники заноса и т. д.
— Всё так, но на самом деле ботанический сад — это идеальное место для сохранения генофонда в любых возможных формах его хранения. Во-первых, гербарии. В крупных ботанических садах есть гербарии, в некоторых садах они достаточно приличные по объему, например в Центральном сибирском ботаническом саду (ЦСБС) в Новосибирске, у нас тоже хороший гербарий во Владивостоке, в Москве в саду МГУ. Конечно, их нельзя сравнить с БИНовским или с гербарием Главного ботанического сада РАН (ГБС) в Москве. Если говорить о тех садах, которые были созданы при Академии наук, то в них сразу была заложена научная база и поставлены научные задачи, одной из которых была концентрация полезного растительного генофонда. Эти сады — ГБС, Новосибирский и наш — создавались сразу после войны: ГБС в 1945-м, ЦСБС в 1947-м и наш в 1949 году, когда, казалось бы, было не до садов. Там, естественно, хранение генофонда было второй задачей: первой задачей было народ знакомить с растительным миром Земли, районов, провести хоть какую психологическую реабилитацию после тяжелейших испытаний.
— Пытались немножко отвлечь людей от трудностей?
— Тем не менее я думаю, что был и посыл на решение научной задачи. Скажем, есть такая научная проблема, как интродукция…
— Где интродукция, там и инвазия.
— Мне кажется, что это проблема в какой-то мере надуманная, потому что инвазия в меньшей степени связана с ботаническими садами, чем, например, с экономическим развитием. Юлия Константиновна Виноградова сейчас работает по гранту РНФ, делает замечательный проект по растительным инвазиям вдоль российских железных дорог, вдоль Транссибирской магистрали в частности.
— То, что растет на обочинах, на насыпях?
— Да, то, что растет на насыпях. Там открывается множество возможностей проследить скорость распространения разных видов, источники заноса и т. д.
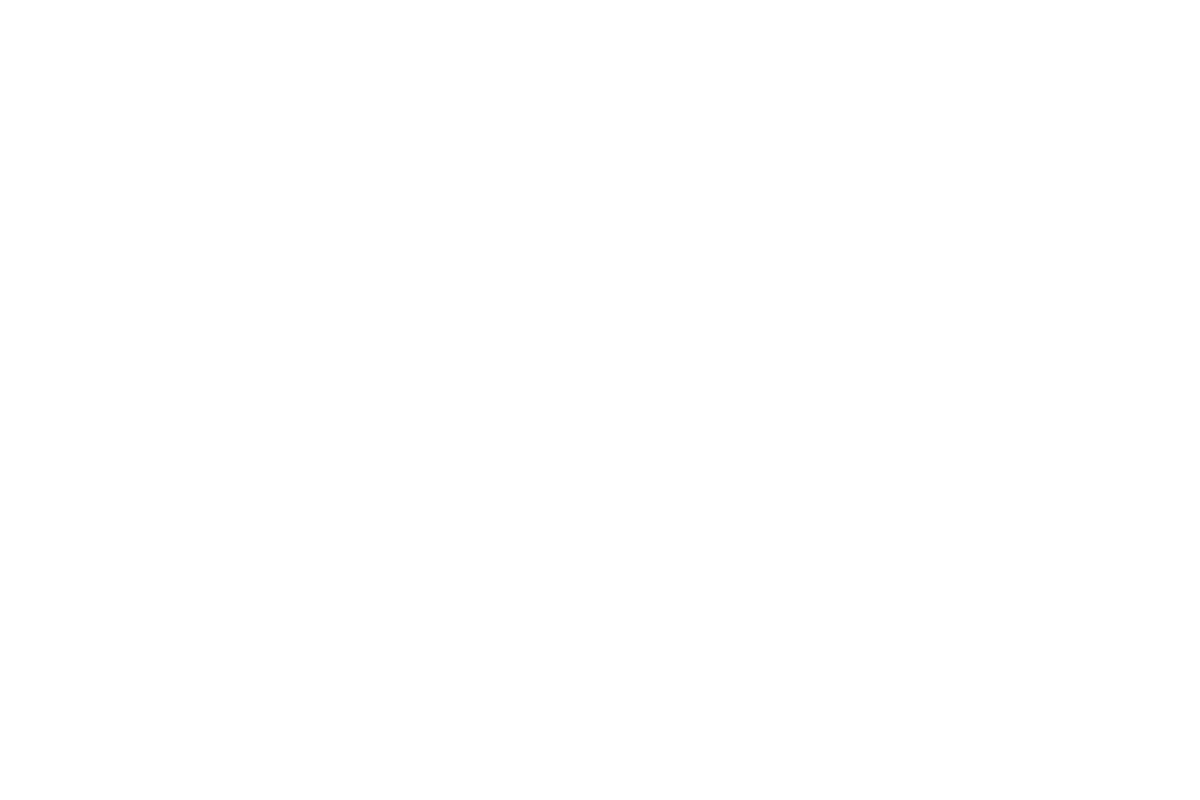
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Есть чудесный проект «Мемориала» и московского Тимирязевского музея, они смотрят растительность на территории бывших лагерей.
— Я не слышал про этот проект, но я знаю, что на территории лагерей велась огромная научная работа ботаниками.
В Магаданской области Гуго Эдгарович Гроссет, будучи заключенным, начал научную работу по кедровому стланику, потом его перевели на поселение, и он продолжил и сделал замечательное открытие. Кедровый стланик полегает зимой, до снега, а потом его в полегшем состоянии покрывает снег, и ему приписывали даже, что он чувствует появление снега, то есть ведет себя вполне разумно. А Гроссет выяснил, что у стланика есть специальные ткани из клеток с толстыми стенками, и когда температура падает ниже ноля, мороз клеточные стенки обезвоживает, ткань сокращается, стланик ложится, и потом его покрывает, естественно, снег. Это в Магадане, в Японии он так себя не ведет, потому что там снег выпадает при плюсовой температуре. Это была очень серьезная работа, которую он сделал со скальпелем и с каким-то допотопным микроскопом, который у него был.
— Тот проект — это не про науку, которую делали люди в лагерях или рядом с лагерями, а про растения, которые распространялись с людьми, которые попадали в лагеря.
— Куда попадают люди, туда попадают и растения. И этот процесс связан не только с людьми, есть миграции животных и птиц. И сами растения способны мигрировать. Я сейчас пытаюсь разделить два процесса, потому что есть естественная миграция видов, которая не является инвазией, а связана с климатом. В Центральной и сибирской России это сложно наблюдать, потому что лесная зона, как правило, там подперта с юга степной, а у нас на Дальнем Востоке есть непрерывный лесной градиент, от Чукотки до тропиков, и по этому градиенту лесные виды имеют возможность мигрировать. Сейчас эта миграция очень сильно заметна.
— На север?
— На север. На самом деле есть еще второй вектор, градиент континентальности климата от побережья к Забайкалью. Это очень короткий, резкий градиент, и миграции вдоль него также заметны.
— Я не слышал про этот проект, но я знаю, что на территории лагерей велась огромная научная работа ботаниками.
В Магаданской области Гуго Эдгарович Гроссет, будучи заключенным, начал научную работу по кедровому стланику, потом его перевели на поселение, и он продолжил и сделал замечательное открытие. Кедровый стланик полегает зимой, до снега, а потом его в полегшем состоянии покрывает снег, и ему приписывали даже, что он чувствует появление снега, то есть ведет себя вполне разумно. А Гроссет выяснил, что у стланика есть специальные ткани из клеток с толстыми стенками, и когда температура падает ниже ноля, мороз клеточные стенки обезвоживает, ткань сокращается, стланик ложится, и потом его покрывает, естественно, снег. Это в Магадане, в Японии он так себя не ведет, потому что там снег выпадает при плюсовой температуре. Это была очень серьезная работа, которую он сделал со скальпелем и с каким-то допотопным микроскопом, который у него был.
— Тот проект — это не про науку, которую делали люди в лагерях или рядом с лагерями, а про растения, которые распространялись с людьми, которые попадали в лагеря.
— Куда попадают люди, туда попадают и растения. И этот процесс связан не только с людьми, есть миграции животных и птиц. И сами растения способны мигрировать. Я сейчас пытаюсь разделить два процесса, потому что есть естественная миграция видов, которая не является инвазией, а связана с климатом. В Центральной и сибирской России это сложно наблюдать, потому что лесная зона, как правило, там подперта с юга степной, а у нас на Дальнем Востоке есть непрерывный лесной градиент, от Чукотки до тропиков, и по этому градиенту лесные виды имеют возможность мигрировать. Сейчас эта миграция очень сильно заметна.
— На север?
— На север. На самом деле есть еще второй вектор, градиент континентальности климата от побережья к Забайкалью. Это очень короткий, резкий градиент, и миграции вдоль него также заметны.
— Это естественная миграция, фактически просто ареал сдвигается или расширяется. А классические инвазии, борщевик какой-нибудь?..
— Понятно, что классические инвазии тоже происходят, и их много. В Приморском крае борщевика Сосновского нет, потому что есть очень хороший ограничивающий фактор: температуры почв, которые зимой опускаются ниже -10 °С.
— Вымерзает?
— У нас на Дальнем Востоке есть два своих борщевика, они нормально растут, а борщевик Сосновского пока вымерзает. Но это дело ближайших 10 лет, он будет распространяться. На Сахалине, на Камчатке он уже есть.
— На Камчатке теплее?
— Там снег закрывает почву, и она не промерзает.
— Понятно, что классические инвазии тоже происходят, и их много. В Приморском крае борщевика Сосновского нет, потому что есть очень хороший ограничивающий фактор: температуры почв, которые зимой опускаются ниже -10 °С.
— Вымерзает?
— У нас на Дальнем Востоке есть два своих борщевика, они нормально растут, а борщевик Сосновского пока вымерзает. Но это дело ближайших 10 лет, он будет распространяться. На Сахалине, на Камчатке он уже есть.
— На Камчатке теплее?
— Там снег закрывает почву, и она не промерзает.
— А ужасные испанские слизняки у вас есть?
— Да, конечно, но я не знаю, это испанские либо это североамериканские. Я их видел несколько лет назад в Британской Колумбии, это их зоологический символ. Они там совершенно неприлично огромные.
— Это другие — желтые банановые слизняки (banana slug), они, похоже, по всему тихоокеанскому побережью Северной Америки ползают. А испанских в Москву затащили несколько лет назад с посадочным материалом — тоже здоровые, но темно-коричневые. И жрут просто всё.
— Жрут всё, укрываются везде. Поднимешь какую-нибудь завалявшуюся досочку, они там сидят.
Вообще, зоологические инвазии сильно связаны с растительными инвазиями, и особый интерес — инвазии патогенных организмов. Всякие нематоды, жуки-точильщики… Грибы тоже распространяются с растениями: ржавчина и всё вот это. Вот у нас очень интересный случай: нематода сосновая, которая переносится жуками (забыл точное название). Она начала поражать сосну густоцветковую в Японии со стороны Японского моря…
— Да, конечно, но я не знаю, это испанские либо это североамериканские. Я их видел несколько лет назад в Британской Колумбии, это их зоологический символ. Они там совершенно неприлично огромные.
— Это другие — желтые банановые слизняки (banana slug), они, похоже, по всему тихоокеанскому побережью Северной Америки ползают. А испанских в Москву затащили несколько лет назад с посадочным материалом — тоже здоровые, но темно-коричневые. И жрут просто всё.
— Жрут всё, укрываются везде. Поднимешь какую-нибудь завалявшуюся досочку, они там сидят.
Вообще, зоологические инвазии сильно связаны с растительными инвазиями, и особый интерес — инвазии патогенных организмов. Всякие нематоды, жуки-точильщики… Грибы тоже распространяются с растениями: ржавчина и всё вот это. Вот у нас очень интересный случай: нематода сосновая, которая переносится жуками (забыл точное название). Она начала поражать сосну густоцветковую в Японии со стороны Японского моря…
— Как жук переносит нематоду?
— Там сложный цикл, в который вовлечены еще и грибы как временные хозяева нематоды. Нематода внедряется в конус нарастания, и через год сосна полностью умирает. В Японии за 2 года вымерла практически вся популяция на япономорском побережье. Долго не могли понять почему. Потом через некоторое время появилась в Южной Корее, но там уже через японские связи знали, как с ней бороться. А потом это переместилось в Северную Корею, а там не знали, отчего у них гибнут все плантации, и фактически все сосны в Северной Корее сейчас уничтожены.
— Там сложный цикл, в который вовлечены еще и грибы как временные хозяева нематоды. Нематода внедряется в конус нарастания, и через год сосна полностью умирает. В Японии за 2 года вымерла практически вся популяция на япономорском побережье. Долго не могли понять почему. Потом через некоторое время появилась в Южной Корее, но там уже через японские связи знали, как с ней бороться. А потом это переместилось в Северную Корею, а там не знали, отчего у них гибнут все плантации, и фактически все сосны в Северной Корее сейчас уничтожены.
— Как же бороться?
— Очень просто: механически. Обдирать, выдирать, уничтожать деревья, которые поражены нематодой. Их можно на ранней стадии распознать, когда начинают только подсыхать верхние ветки, и убирать дерево. А дальше создавать бессосенные полосы, которые держали бы эту нематоду в локальной зоне.
— Ведь такая специфическая инвазия долго не продержится?
— Долго не продержится, но, несмотря на кратковременность, она может нанести очень большой ущерб.
Самшитовая роща — это тоже пример. Я в прошлом году первый раз в жизни побывал в Сочи. Там всё уничтожено; сердце кровью обливается, что там творится. Это вообще классический пример бестолковости при принятии решений.
— Возвращаясь к ботаническим садам… Какую серьезную науку можно делать в ботаническом саду, которую нельзя сделать в другом месте? В чём научная специфика ботанического сада по сравнению с селекционными институтами?
— Сейчас случилась очень серьезная просадка научной функции ботсадов по сравнению с рекреационной. Но если взять ведущие мировые сады: Миссурийский ботанический сад, несколько очень крупных садов в Японии, несколько крупных садов в Корее, Корейский национальный арборетум, Kew Gardens в Британии — там ведутся исследования по долговременному хранению генофонда: это и какие-то варианты хранения генофонда в пробирках при пониженных температурах, и способы сохранения семян при разных температурных режимах. Семена, особенно тропических растений, бывают очень разные, скажем, много рекальцинтратных семян, которые постоянно должны держать влагу, а без нее сразу же теряют всхожесть. И этот генофонд там целевым образом собирают и сохраняют — как для практических нужд, так и на случай глобальных катастроф.
Следующее — это многочисленные испытания семян. Та самая цель ботанических садов, которая сложилась в мире с XV века, до сих пор хорошо везде работает, и в Америке, и в Южной Америке, и в Японии, и в Азии. Привозят растения и испытывают их на предмет создания коммерчески выгодных популяций. Проверяют пригодность для выращивания или воспроизводства в каком-то определенном климате, а потом распространяют и получают какой-то профит. Еще есть проблема с сельскохозяйственными и с лесными растениями, которые, в принципе, обладают большой ресурсной ценностью. Ботанические сады как раз могут заниматься поиском диких родичей культурных растений для селекции.
А у нас очень маленький сад, но мы пытаемся поддерживать направление, связанное с интегративной систематикой. Сейчас это очень потерянная вещь: только БИН остался с более или менее действующими систематиками, и еще в Главном ботаническом саду и в Центральном сибирском есть систематики, по университетам — по пальцам можно пересчитать. Для садов довольно трудно набирать кадры, происходит старение коллективов.
— Очень просто: механически. Обдирать, выдирать, уничтожать деревья, которые поражены нематодой. Их можно на ранней стадии распознать, когда начинают только подсыхать верхние ветки, и убирать дерево. А дальше создавать бессосенные полосы, которые держали бы эту нематоду в локальной зоне.
— Ведь такая специфическая инвазия долго не продержится?
— Долго не продержится, но, несмотря на кратковременность, она может нанести очень большой ущерб.
Самшитовая роща — это тоже пример. Я в прошлом году первый раз в жизни побывал в Сочи. Там всё уничтожено; сердце кровью обливается, что там творится. Это вообще классический пример бестолковости при принятии решений.
— Возвращаясь к ботаническим садам… Какую серьезную науку можно делать в ботаническом саду, которую нельзя сделать в другом месте? В чём научная специфика ботанического сада по сравнению с селекционными институтами?
— Сейчас случилась очень серьезная просадка научной функции ботсадов по сравнению с рекреационной. Но если взять ведущие мировые сады: Миссурийский ботанический сад, несколько очень крупных садов в Японии, несколько крупных садов в Корее, Корейский национальный арборетум, Kew Gardens в Британии — там ведутся исследования по долговременному хранению генофонда: это и какие-то варианты хранения генофонда в пробирках при пониженных температурах, и способы сохранения семян при разных температурных режимах. Семена, особенно тропических растений, бывают очень разные, скажем, много рекальцинтратных семян, которые постоянно должны держать влагу, а без нее сразу же теряют всхожесть. И этот генофонд там целевым образом собирают и сохраняют — как для практических нужд, так и на случай глобальных катастроф.
Следующее — это многочисленные испытания семян. Та самая цель ботанических садов, которая сложилась в мире с XV века, до сих пор хорошо везде работает, и в Америке, и в Южной Америке, и в Японии, и в Азии. Привозят растения и испытывают их на предмет создания коммерчески выгодных популяций. Проверяют пригодность для выращивания или воспроизводства в каком-то определенном климате, а потом распространяют и получают какой-то профит. Еще есть проблема с сельскохозяйственными и с лесными растениями, которые, в принципе, обладают большой ресурсной ценностью. Ботанические сады как раз могут заниматься поиском диких родичей культурных растений для селекции.
А у нас очень маленький сад, но мы пытаемся поддерживать направление, связанное с интегративной систематикой. Сейчас это очень потерянная вещь: только БИН остался с более или менее действующими систематиками, и еще в Главном ботаническом саду и в Центральном сибирском есть систематики, по университетам — по пальцам можно пересчитать. Для садов довольно трудно набирать кадры, происходит старение коллективов.
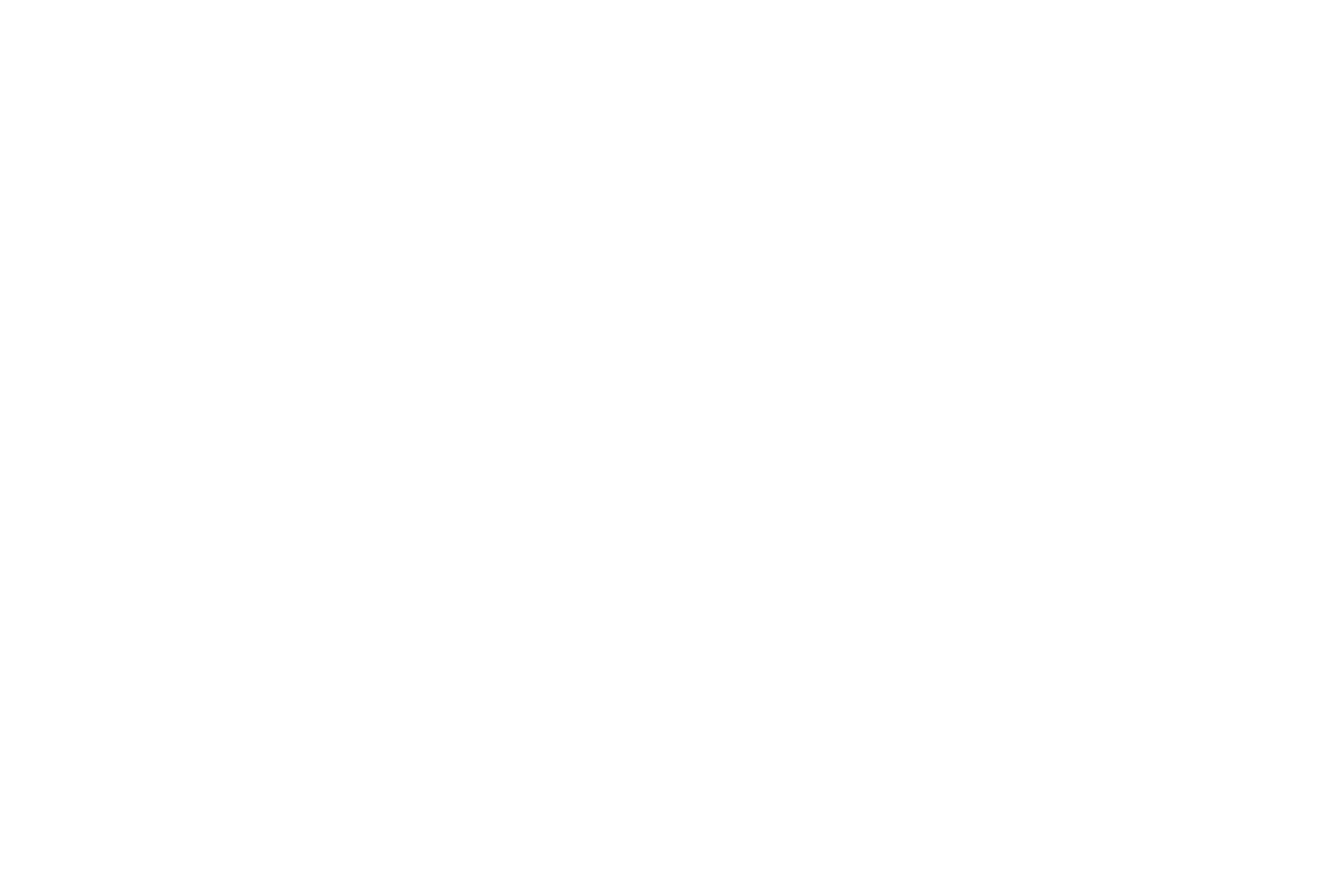
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Никто не хочет заниматься классической ботаникой?
— Да.
И потом, у всех ботанических садов в госзадании написана одна работа: фундаментальные научные исследования. А, извините, навоз, торф, весь цикл уходовых мероприятий за живыми растениями и всё остальное — это за свои деньги, пожалуйста, а это во многом главное.
— Ботанические систематики ведь очень узкоспециализированные, да?
— Сейчас да. Как раз сейчас надо поддерживать направления, где бы они немного расползались, по крайней мере по инструментарию, который они могли бы использовать в своей работе: все доступные методы должны быть использованы, от молекулярной до морфологической систематики. У нас сейчас есть замечательная группа, которая работает с криптогамными организмами, и это большой вызов: это одна из наименее изученных групп растений, печеночники и антоцеротовые мхи (рис. 1). У нас чуть ли не первыми в мире стали смотреть в печеночниках масляные тельца, которые, оказывается, являются очень хорошим анатомическим признаком, чтобы разделять виды. Опять же, проблема — их можно увидеть, только пока растение в живом состоянии. Представляете, насколько возрастает уровень сложности исследования?
— Молекулярная систематика не убила традиционную?
— Пыталась, но у нее не получилось. Хорошую роль сыграла пассивность и нереволюционность специального комитета, разрабатывающего кодекс ботанической номенклатуры. Он не так часто менялся, потому что было принято привязывать названия вида к морфологическому типу, и просто молекулярной систематики было недостаточно, чтобы описать вид. Потом, конечно, эта «гармония» была порушена концепцией криптовидов. Найдя лазейку в кодексе, молекулярщики стали описывать виды, хорошо отличимые по последовательностям ДНК, но внешне неразличимые. Идешь в Южной Африке по Кару, тычешь пальцем в красивую оранжевую ромашку, спрашиваешь местного эксперта, что за вид, а он тебе: «Раньше это был, условно, мезембриантемум оранжевый, в сейчас это комплекс из десяти видов, которые внешне неразличимы, и, пока я не отсеквенирую его ДНК, названия вида не скажу». Но наши сотрудники, которые занимаются интегративной систематикой на печеночниках, успешно находят морфолого-анатомические признаки, различающие виды, которые были описаны как криптовиды. Поэтому я думаю, что тут очень много работы, особенно с организмами, которые мало изучены.
А самое главное, что систематика — это основа для значительно более серьезной науки. Чисто молекулярная систематика иногда заводила в очень смешные тупики просто из-за того, что собирался материал с растений, которые были неверно определены. Вот у нас чозения (рис. 3), очень высокое дерево, похожее на иву, с замечательным ареалом: от средней Японии до Чукотки — представляете ареал для дерева? Оно растет в долинах рек, где галечник откладывается. Днем там температура на галечных косах может быть +50, а ночью +5, и совершенно беспорядочные колебания уровня воды. А для изучения его молекулярной систематики взяли материал с ивы. Тоже с большого дерева, но с ивы. И вот, объединили чозению с ивой и думают, что с этим делать. Есть много похожих историй.
— Да.
И потом, у всех ботанических садов в госзадании написана одна работа: фундаментальные научные исследования. А, извините, навоз, торф, весь цикл уходовых мероприятий за живыми растениями и всё остальное — это за свои деньги, пожалуйста, а это во многом главное.
— Ботанические систематики ведь очень узкоспециализированные, да?
— Сейчас да. Как раз сейчас надо поддерживать направления, где бы они немного расползались, по крайней мере по инструментарию, который они могли бы использовать в своей работе: все доступные методы должны быть использованы, от молекулярной до морфологической систематики. У нас сейчас есть замечательная группа, которая работает с криптогамными организмами, и это большой вызов: это одна из наименее изученных групп растений, печеночники и антоцеротовые мхи (рис. 1). У нас чуть ли не первыми в мире стали смотреть в печеночниках масляные тельца, которые, оказывается, являются очень хорошим анатомическим признаком, чтобы разделять виды. Опять же, проблема — их можно увидеть, только пока растение в живом состоянии. Представляете, насколько возрастает уровень сложности исследования?
— Молекулярная систематика не убила традиционную?
— Пыталась, но у нее не получилось. Хорошую роль сыграла пассивность и нереволюционность специального комитета, разрабатывающего кодекс ботанической номенклатуры. Он не так часто менялся, потому что было принято привязывать названия вида к морфологическому типу, и просто молекулярной систематики было недостаточно, чтобы описать вид. Потом, конечно, эта «гармония» была порушена концепцией криптовидов. Найдя лазейку в кодексе, молекулярщики стали описывать виды, хорошо отличимые по последовательностям ДНК, но внешне неразличимые. Идешь в Южной Африке по Кару, тычешь пальцем в красивую оранжевую ромашку, спрашиваешь местного эксперта, что за вид, а он тебе: «Раньше это был, условно, мезембриантемум оранжевый, в сейчас это комплекс из десяти видов, которые внешне неразличимы, и, пока я не отсеквенирую его ДНК, названия вида не скажу». Но наши сотрудники, которые занимаются интегративной систематикой на печеночниках, успешно находят морфолого-анатомические признаки, различающие виды, которые были описаны как криптовиды. Поэтому я думаю, что тут очень много работы, особенно с организмами, которые мало изучены.
А самое главное, что систематика — это основа для значительно более серьезной науки. Чисто молекулярная систематика иногда заводила в очень смешные тупики просто из-за того, что собирался материал с растений, которые были неверно определены. Вот у нас чозения (рис. 3), очень высокое дерево, похожее на иву, с замечательным ареалом: от средней Японии до Чукотки — представляете ареал для дерева? Оно растет в долинах рек, где галечник откладывается. Днем там температура на галечных косах может быть +50, а ночью +5, и совершенно беспорядочные колебания уровня воды. А для изучения его молекулярной систематики взяли материал с ивы. Тоже с большого дерева, но с ивы. И вот, объединили чозению с ивой и думают, что с этим делать. Есть много похожих историй.
— Это-то понятно, кривые ручки никто не отменял. Но действительно, если есть виды-близнецы… У животных всё-таки морфологических признаков много, а у растений, казалось бы, меньше…
— И они все плывут.
— Скажем, по молекулярным признакам есть два вида, а потом всё легко гибридизируется.
— Конечно, это сплошь и рядом.
— Хорошо ли определено понятие вида для растений? Разных цитрусовых навыращивали из трех, кажется, предков: лимон, мандарин, лайм, грейпфрут, помело, свити, апельсин такой, апельсин сякой. Я еще застал времена, когда никаких помело не было и в помине. Если дедушке Линнею показать лимон и мандарин, он скажет, что это два разных вида.
— Да, здесь приходится говорить о каком-то совершенно другом уровне понимания разнообразия, и даже видовой уровень оказывается не самым главным.
— И они все плывут.
— Скажем, по молекулярным признакам есть два вида, а потом всё легко гибридизируется.
— Конечно, это сплошь и рядом.
— Хорошо ли определено понятие вида для растений? Разных цитрусовых навыращивали из трех, кажется, предков: лимон, мандарин, лайм, грейпфрут, помело, свити, апельсин такой, апельсин сякой. Я еще застал времена, когда никаких помело не было и в помине. Если дедушке Линнею показать лимон и мандарин, он скажет, что это два разных вида.
— Да, здесь приходится говорить о каком-то совершенно другом уровне понимания разнообразия, и даже видовой уровень оказывается не самым главным.
— А какой главный?
— Как раз генетическое разнообразие, которое получается в результате всех этих скрещиваний, гибридизации и всего остального… И как его сейчас оценивать формально, наверное, пока еще никто не знает. Было несколько попыток разобраться с розами… безуспешных попыток… я видел несколько грантов, поддержанных РФФИ… Розы — это такой комплекс, который очень сильно гибридизируется. Там вообще невозможно установить видовую принадлежность, и часто очень исходники неизвестны. Там оперируют названием сорта, группы сортов и всё.
— Что такое чистый сорт? Тоже, в общем, вещь загадочная.
— Совершенно точно. Сорт — это растительный индивидуум, который поддерживается в течение очень долгого времени и разными способами, пока не отключат от систем жизнеобеспечения.
— Садовник недоглядел, он переопылился — и всё…
— Это снова про кривые ручки. Про семена вообще не идет речь, когда сорта поддерживают, там всё вегетативно.
— Как раз генетическое разнообразие, которое получается в результате всех этих скрещиваний, гибридизации и всего остального… И как его сейчас оценивать формально, наверное, пока еще никто не знает. Было несколько попыток разобраться с розами… безуспешных попыток… я видел несколько грантов, поддержанных РФФИ… Розы — это такой комплекс, который очень сильно гибридизируется. Там вообще невозможно установить видовую принадлежность, и часто очень исходники неизвестны. Там оперируют названием сорта, группы сортов и всё.
— Что такое чистый сорт? Тоже, в общем, вещь загадочная.
— Совершенно точно. Сорт — это растительный индивидуум, который поддерживается в течение очень долгого времени и разными способами, пока не отключат от систем жизнеобеспечения.
— Садовник недоглядел, он переопылился — и всё…
— Это снова про кривые ручки. Про семена вообще не идет речь, когда сорта поддерживают, там всё вегетативно.
— Они не портятся, если их долго вегетативно размножать?
— Портятся, идет вырождение этих сортов. Картофель — это типичный пример, его нужно постоянно обновлять, поддерживать чистые линии и менять сорта, иначе он вырождается, сорт становится менее продуктивным.
Итак — одна проблема, как я сказал, систематика. Недавно неожиданно появилась новая проблематика, которая может успешно решаться в ботанических садах, — это то, как растения реагируют на изменение климата. Это хорошая задача, потому что в ботаническом саду можно проследить за растением более детально: оно всегда на виду, оно может быть посажено в экспериментальных условиях, которые будут относительно чистыми, когда два растения, посаженные где-то в разных углах, могут различаться по какому-то известному комплексу климатических условий.
— Для этого нужна большая разнообразная территория?
— Конечно. Не зря есть сеть ботанических садов. Сады вообще создаются в виде сети, когда охватывается весь спектр климатических различий в целой стране. Эти различия дают возможность сравнивать, как существует сорт или вид в разных местах, и строить какие-то модели. У нас сейчас лесная тематика развивается очень неплохо, причем в нескольких садах сразу: в Сибирском саду, в ПАБСИ, правда, там немного поутихло. И мы сотрудничаем с рядом крупнейших мировых садов (Миссурийским садом, садами Кью) Это позволяет интегрировать данные, выходить на решение глобальных задач. Смитсоновский институт координирует международную мониторинговую сеть больших пробных площадей в лесных экосистемах. У нас есть пробные площади, которые зарегистрированы в глобальной мониторинговой сети.
— Портятся, идет вырождение этих сортов. Картофель — это типичный пример, его нужно постоянно обновлять, поддерживать чистые линии и менять сорта, иначе он вырождается, сорт становится менее продуктивным.
Итак — одна проблема, как я сказал, систематика. Недавно неожиданно появилась новая проблематика, которая может успешно решаться в ботанических садах, — это то, как растения реагируют на изменение климата. Это хорошая задача, потому что в ботаническом саду можно проследить за растением более детально: оно всегда на виду, оно может быть посажено в экспериментальных условиях, которые будут относительно чистыми, когда два растения, посаженные где-то в разных углах, могут различаться по какому-то известному комплексу климатических условий.
— Для этого нужна большая разнообразная территория?
— Конечно. Не зря есть сеть ботанических садов. Сады вообще создаются в виде сети, когда охватывается весь спектр климатических различий в целой стране. Эти различия дают возможность сравнивать, как существует сорт или вид в разных местах, и строить какие-то модели. У нас сейчас лесная тематика развивается очень неплохо, причем в нескольких садах сразу: в Сибирском саду, в ПАБСИ, правда, там немного поутихло. И мы сотрудничаем с рядом крупнейших мировых садов (Миссурийским садом, садами Кью) Это позволяет интегрировать данные, выходить на решение глобальных задач. Смитсоновский институт координирует международную мониторинговую сеть больших пробных площадей в лесных экосистемах. У нас есть пробные площади, которые зарегистрированы в глобальной мониторинговой сети.
— Насколько изменилась систематика растений на более высоком уровне?
— Очень сильно. Революция произошла уже в начале 2000-х годов. Я геоботаник по профессии, просто пользователь, для меня молекулярные методы — это средство. Я сейчас вижу, как некоторым людям трудно пользоваться тем набором названий, которые существовали и вдруг изменились. Хотя в наших широтах ничего особенно не изменилось, кроме заразиховых и норичниковых, — а вот там очень мощные изменения произошли. В рододендроны поместили всё, что раньше было багульником (рис. 2). Всё, багульника уже нет — только рододендроны. Расширение инструментария систематики прежде всего за счет развития молекулярных исследований привело к тектоническим сдвигам в мировой систематике.
— Не получится так, что через 20 лет произойдут еще одни тектонические сдвиги?
— Для того мы и работаем, потому что всё время выясняются какие-то детали. Всё-таки наука становится мультисистемной. Биота, любые растительные системы разномасштабны. Их общая интегрированность включает много уровней интеграции, и факторы, которые приводят к интеграции, на каждом уровне разные. Поэтому чем больше уровней одновременно задействуется в изучении того или иного объекта, тем больше появляется шансов сказать что-то новое.
Вообще, геоботаника в России — это очень интересная дисциплина как в плане развития науки, так и в плане скандалов. В геоботанике с момента формирования науки возникли разные школы, которые насмерть бились при обсуждении теоретических вопросов организации растительного покрова. Самая известная в России геоботаническая школа Сукачёва была, на мой взгляд, тоталитарной, несмотря на всю прогрессивность Сукачёва как ученого. Она подавляла любое инакомыслие вокруг. Фактически была подавлена, например, школа Раменского, который изучал экологические шкалы, работал на юге, в основном с лугами, и на какой-то стадии своего развития сказал «нет» Сукачёву. После этого ему 30 лет было практически запрещено публиковать свои взгляды на органи зацию растительного покрова в любых официальных научных изданиях. Благо он всё-таки уже в 1970-х опубликовал свои экологические шкалы, которые сыграли большую роль в организации сельского хозяйства.
С другой стороны, в Германии есть, наверное, единственный институт геоботаники в мире, при Ганноверском университете. Его директор, Ричард Потт, написал учебник «Геоботаника». Открываешь первую страницу, и там написано: «Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад» — они оттуда начинают геоботанику, и они относят к объекту изучения геоботаники как раз те уровни организации растительных систем, где в их организации очень серьезное влияние начинают иметь другие факторы: не факторы биологической природы, а факторы среды. Поэтому геоботаниками изучается очень широкий спектр вопросов. А у нас в России очень долгое время многое сводилось к спорам разных школ классификации растительности: есть школа сукачевская, у них там ельник-зеленомошник, и школа браунбланкистов, которые доказывают, что ельник-зеленомошник не имеет права на существование, потому что это довольно искусственное образование. А если мы займемся тем, что касается взаимоотношений растений с климатом, там уже можно рассказать очень много. Прежде всего это, конечно же, изменения.
— Очень сильно. Революция произошла уже в начале 2000-х годов. Я геоботаник по профессии, просто пользователь, для меня молекулярные методы — это средство. Я сейчас вижу, как некоторым людям трудно пользоваться тем набором названий, которые существовали и вдруг изменились. Хотя в наших широтах ничего особенно не изменилось, кроме заразиховых и норичниковых, — а вот там очень мощные изменения произошли. В рододендроны поместили всё, что раньше было багульником (рис. 2). Всё, багульника уже нет — только рододендроны. Расширение инструментария систематики прежде всего за счет развития молекулярных исследований привело к тектоническим сдвигам в мировой систематике.
— Не получится так, что через 20 лет произойдут еще одни тектонические сдвиги?
— Для того мы и работаем, потому что всё время выясняются какие-то детали. Всё-таки наука становится мультисистемной. Биота, любые растительные системы разномасштабны. Их общая интегрированность включает много уровней интеграции, и факторы, которые приводят к интеграции, на каждом уровне разные. Поэтому чем больше уровней одновременно задействуется в изучении того или иного объекта, тем больше появляется шансов сказать что-то новое.
Вообще, геоботаника в России — это очень интересная дисциплина как в плане развития науки, так и в плане скандалов. В геоботанике с момента формирования науки возникли разные школы, которые насмерть бились при обсуждении теоретических вопросов организации растительного покрова. Самая известная в России геоботаническая школа Сукачёва была, на мой взгляд, тоталитарной, несмотря на всю прогрессивность Сукачёва как ученого. Она подавляла любое инакомыслие вокруг. Фактически была подавлена, например, школа Раменского, который изучал экологические шкалы, работал на юге, в основном с лугами, и на какой-то стадии своего развития сказал «нет» Сукачёву. После этого ему 30 лет было практически запрещено публиковать свои взгляды на органи зацию растительного покрова в любых официальных научных изданиях. Благо он всё-таки уже в 1970-х опубликовал свои экологические шкалы, которые сыграли большую роль в организации сельского хозяйства.
С другой стороны, в Германии есть, наверное, единственный институт геоботаники в мире, при Ганноверском университете. Его директор, Ричард Потт, написал учебник «Геоботаника». Открываешь первую страницу, и там написано: «Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад» — они оттуда начинают геоботанику, и они относят к объекту изучения геоботаники как раз те уровни организации растительных систем, где в их организации очень серьезное влияние начинают иметь другие факторы: не факторы биологической природы, а факторы среды. Поэтому геоботаниками изучается очень широкий спектр вопросов. А у нас в России очень долгое время многое сводилось к спорам разных школ классификации растительности: есть школа сукачевская, у них там ельник-зеленомошник, и школа браунбланкистов, которые доказывают, что ельник-зеленомошник не имеет права на существование, потому что это довольно искусственное образование. А если мы займемся тем, что касается взаимоотношений растений с климатом, там уже можно рассказать очень много. Прежде всего это, конечно же, изменения.
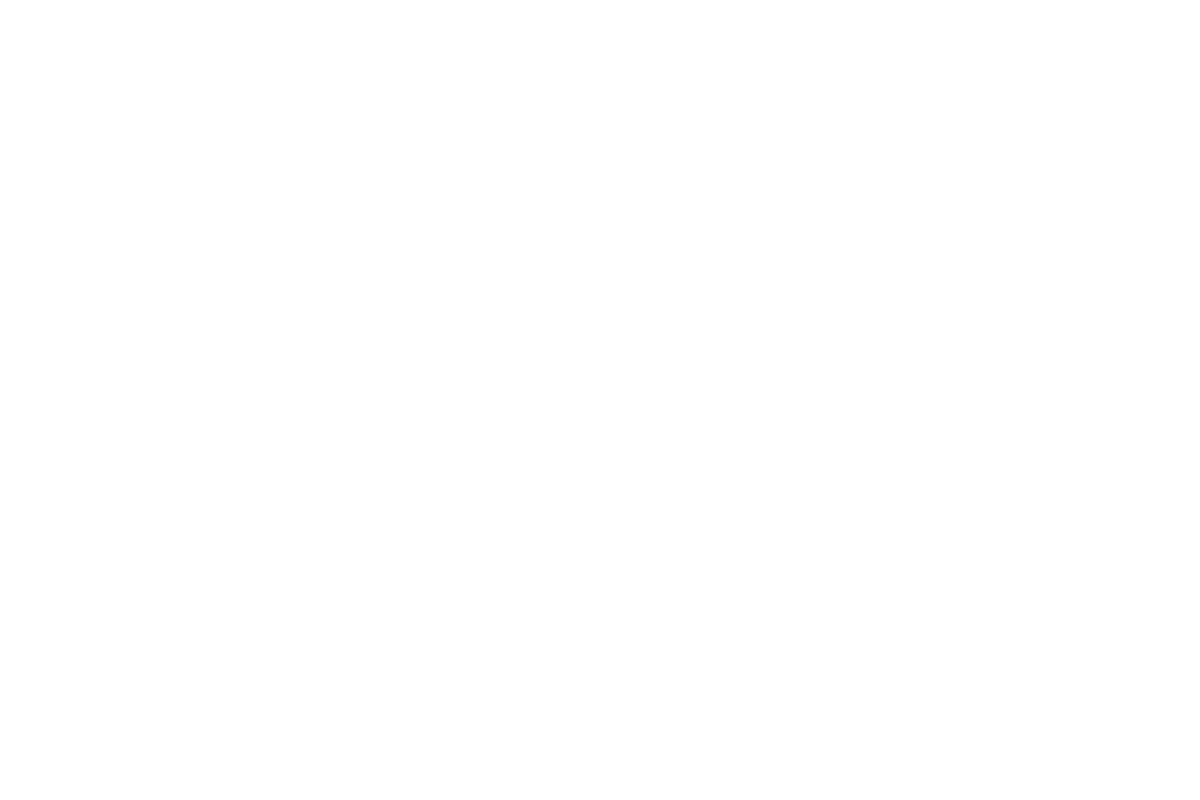
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— В Британии есть проект, когда люди просто записывают время цветения и видят, как всё отползает на север…
— И любая бабушка скажет, что что-то сейчас лучше растет, а раньше хуже росло, и наоборот. Эта, казалось бы, простая фенология позволила получить интересные результаты. Например, недавно мы обнаружили у себя в естественных лесных массивах магнолию Зибольда, которая вообще-то не растет на российском Дальнем Востоке, — она растет в Корее, в Китае и немного в Японии. А мы обнаружили на территории леса; это как раз к самому первому вашему вопросу, что ботанические сады вредные, они всё распространяют… В саду мы ее посадили в 1974 году; она была привезена из Северной Кореи, посажена, долго росла и не плодоносила, а где-то с 80-х годов начала цвести; год поцветет, год не цветет, потом стала давать плоды, но за пределы сада не выходила. И вот сейчас она появилась в лесу. Мы посмотрели наши фенологические наблюдения, и оказалось, что за 20 лет вегетационный период для магнолии увеличился на восемь дней — это, в общем-то, мало, — а вот время цветения увеличилось в два раза, то есть сейчас она цветет у нас не двадцать, как в 1980-х, а сорок дней, поэтому семена стали вызревать, их стали разносить птицы, и она пошла в лес, стала селиться везде. То есть это одна интересная вещь про то, как происходит миграция растений с помощью человека.
— Наверное, она бы и без человека добралась, просто медленнее.
— Сейчас разработана очень интересная технология моделирования распространения, species distribution modeling. Сделали серию климатических моделей, и эти модели дали возможность посмотреть, как вели себя растения в прошлом и как будут себя вести растения в будущем, которое прогнозируется этими моделями, и там появляются очень интересные вещи, которые сейчас можно даже проследить своими глазами.
Вот одно из таких интересных деревьев. Сосна корейская (в народе — кедр, рис. 4) в плейстоцене обитала на шельфе осушенного Жёлтого моря и в Корее и чуть-чуть на территории Северо-Восточного Китая, а на юге ареал тянулся до провинции Гуандун, это самый юг Китая. У нас ее, естественно, не было, а потом она стала наступать, в голоцене она практически заняла современный ареал и сейчас распространяется еще. И что сейчас произошло? В Корее была целая эпоха с восстановлением лесной растительности после Корейской войны, они стали создавать плантации из сосны корейской, очень хотели иметь древесину и орехи. А сейчас на этих плантациях все кедровые сосны потекли смолой, они умирают, всего 40 лет прошло…
— И любая бабушка скажет, что что-то сейчас лучше растет, а раньше хуже росло, и наоборот. Эта, казалось бы, простая фенология позволила получить интересные результаты. Например, недавно мы обнаружили у себя в естественных лесных массивах магнолию Зибольда, которая вообще-то не растет на российском Дальнем Востоке, — она растет в Корее, в Китае и немного в Японии. А мы обнаружили на территории леса; это как раз к самому первому вашему вопросу, что ботанические сады вредные, они всё распространяют… В саду мы ее посадили в 1974 году; она была привезена из Северной Кореи, посажена, долго росла и не плодоносила, а где-то с 80-х годов начала цвести; год поцветет, год не цветет, потом стала давать плоды, но за пределы сада не выходила. И вот сейчас она появилась в лесу. Мы посмотрели наши фенологические наблюдения, и оказалось, что за 20 лет вегетационный период для магнолии увеличился на восемь дней — это, в общем-то, мало, — а вот время цветения увеличилось в два раза, то есть сейчас она цветет у нас не двадцать, как в 1980-х, а сорок дней, поэтому семена стали вызревать, их стали разносить птицы, и она пошла в лес, стала селиться везде. То есть это одна интересная вещь про то, как происходит миграция растений с помощью человека.
— Наверное, она бы и без человека добралась, просто медленнее.
— Сейчас разработана очень интересная технология моделирования распространения, species distribution modeling. Сделали серию климатических моделей, и эти модели дали возможность посмотреть, как вели себя растения в прошлом и как будут себя вести растения в будущем, которое прогнозируется этими моделями, и там появляются очень интересные вещи, которые сейчас можно даже проследить своими глазами.
Вот одно из таких интересных деревьев. Сосна корейская (в народе — кедр, рис. 4) в плейстоцене обитала на шельфе осушенного Жёлтого моря и в Корее и чуть-чуть на территории Северо-Восточного Китая, а на юге ареал тянулся до провинции Гуандун, это самый юг Китая. У нас ее, естественно, не было, а потом она стала наступать, в голоцене она практически заняла современный ареал и сейчас распространяется еще. И что сейчас произошло? В Корее была целая эпоха с восстановлением лесной растительности после Корейской войны, они стали создавать плантации из сосны корейской, очень хотели иметь древесину и орехи. А сейчас на этих плантациях все кедровые сосны потекли смолой, они умирают, всего 40 лет прошло…
— От возраста или жарко стало?
— Жарко, а главное — сухо стало, и на них напали вредители: насекомые и грибы. Мы используем очень широкий спектр дендрохронологических методов, смотрим годичные кольца. И вот что сейчас происходит на юго-западе ареала кедра: условия становятся непригодными. Мы получили модели распространения и видим процессы, которые сейчас происходят, и происходят довольно быстро. Теряются, во-первых, южные популяции, где сосредоточен самый древний генофонд этого вида, во-вторых, видим, что севернее ареала распространения кедра появляются климатические условия для развития его популяций. Мы уже закинули идею сахалинскому правительству, чтобы они у себя развивали плантации кедра, потому что через лет пятьдесят их уже можно будет использовать на Сахалине. Там кедр будет себя прекрасно чувствовать. А вот на юге Приморья — нет.
— Это замечательно, но всё-таки экологические модели кажутся какими-то очень упрощенными. Там такое количество параметров, что если писать честную модель, то будет неизвестных больше, чем уравнений, а если писать простую модель, то непонятно, где там правда.
— Это отчасти так. Понятно, что кедр или вообще любое растение абсолютно не понимает, что такое глобальное повышение температуры на один градус. Как фиалки на подоконнике — мы можем поливать их каждый день по стаканчику, а можем неделю не поливать, а потом ведро вылить. То же количество воды, но они сдохнут после этого. Поэтому мы пытаемся отобрать те факторы, те параметры среды, которые мы считаем физиологически значимыми, и именно их включать… Очень существенную роль играет продумывание модели, концептуализация. А потом мы берем много факторов и, в принципе, вклад каждого фактора в модель можем оценивать… Всё очень, на самом деле, зыбко, но величина ошибки нам известна, и это главное.
— Нет такого, что результат получается не из модели, а из здравого смысла, а потом вы модель подкручиваете до тех пор, пока она здравому смыслу не начнет отвечать?
— Мне кажется, имитационные модели практически все такие, поэтому с биотой сложно что-то моделировать. Но, по крайней мере, есть какие-то формальные параметры растения, его распространение или еще какие-то функции, и у нас есть формальные параметры среды, и, в принципе, моделирование здесь допустимо, и сейчас моделирование активно используется. Мы с коллегами делали несколько статей на основе данных по распространению видов, и еще мы брали палеонтологические данные, и удалось установить очень интересные вещи. Например, очень долгое существование, в течение тысяч лет, рефугиумов на одном месте. Представляете, есть целая группа видов, разных по потребностям, в условиях среды, которая эволюционирует миллионы лет, распространяясь почти глобально, а затем — резкие изменения климата и почти повсеместное вымирание. Но — кроме определенных мест, в которых за счет главным образом уникального рельефа есть целый комплекс факторов, компенсирующих недостаток климатического ресурса. Слишком холодно? Вот тебе обращенные к солнцу склоны. Слишком сухо? Вот тебе туманы, которые приносятся именно в это место с океана из-за какой-то особенности розы ветров. Именно на таких, не слишком географически обширных, территориях до нашего времени дожили виды растений — современники динозавров. Модели очень точно показывают, где сохраняются наиболее древние популяции, где есть какие-то предпосылки их сохранения. Именно туда нужно направлять уже более тщательные исследования генофонда.
— Жарко, а главное — сухо стало, и на них напали вредители: насекомые и грибы. Мы используем очень широкий спектр дендрохронологических методов, смотрим годичные кольца. И вот что сейчас происходит на юго-западе ареала кедра: условия становятся непригодными. Мы получили модели распространения и видим процессы, которые сейчас происходят, и происходят довольно быстро. Теряются, во-первых, южные популяции, где сосредоточен самый древний генофонд этого вида, во-вторых, видим, что севернее ареала распространения кедра появляются климатические условия для развития его популяций. Мы уже закинули идею сахалинскому правительству, чтобы они у себя развивали плантации кедра, потому что через лет пятьдесят их уже можно будет использовать на Сахалине. Там кедр будет себя прекрасно чувствовать. А вот на юге Приморья — нет.
— Это замечательно, но всё-таки экологические модели кажутся какими-то очень упрощенными. Там такое количество параметров, что если писать честную модель, то будет неизвестных больше, чем уравнений, а если писать простую модель, то непонятно, где там правда.
— Это отчасти так. Понятно, что кедр или вообще любое растение абсолютно не понимает, что такое глобальное повышение температуры на один градус. Как фиалки на подоконнике — мы можем поливать их каждый день по стаканчику, а можем неделю не поливать, а потом ведро вылить. То же количество воды, но они сдохнут после этого. Поэтому мы пытаемся отобрать те факторы, те параметры среды, которые мы считаем физиологически значимыми, и именно их включать… Очень существенную роль играет продумывание модели, концептуализация. А потом мы берем много факторов и, в принципе, вклад каждого фактора в модель можем оценивать… Всё очень, на самом деле, зыбко, но величина ошибки нам известна, и это главное.
— Нет такого, что результат получается не из модели, а из здравого смысла, а потом вы модель подкручиваете до тех пор, пока она здравому смыслу не начнет отвечать?
— Мне кажется, имитационные модели практически все такие, поэтому с биотой сложно что-то моделировать. Но, по крайней мере, есть какие-то формальные параметры растения, его распространение или еще какие-то функции, и у нас есть формальные параметры среды, и, в принципе, моделирование здесь допустимо, и сейчас моделирование активно используется. Мы с коллегами делали несколько статей на основе данных по распространению видов, и еще мы брали палеонтологические данные, и удалось установить очень интересные вещи. Например, очень долгое существование, в течение тысяч лет, рефугиумов на одном месте. Представляете, есть целая группа видов, разных по потребностям, в условиях среды, которая эволюционирует миллионы лет, распространяясь почти глобально, а затем — резкие изменения климата и почти повсеместное вымирание. Но — кроме определенных мест, в которых за счет главным образом уникального рельефа есть целый комплекс факторов, компенсирующих недостаток климатического ресурса. Слишком холодно? Вот тебе обращенные к солнцу склоны. Слишком сухо? Вот тебе туманы, которые приносятся именно в это место с океана из-за какой-то особенности розы ветров. Именно на таких, не слишком географически обширных, территориях до нашего времени дожили виды растений — современники динозавров. Модели очень точно показывают, где сохраняются наиболее древние популяции, где есть какие-то предпосылки их сохранения. Именно туда нужно направлять уже более тщательные исследования генофонда.
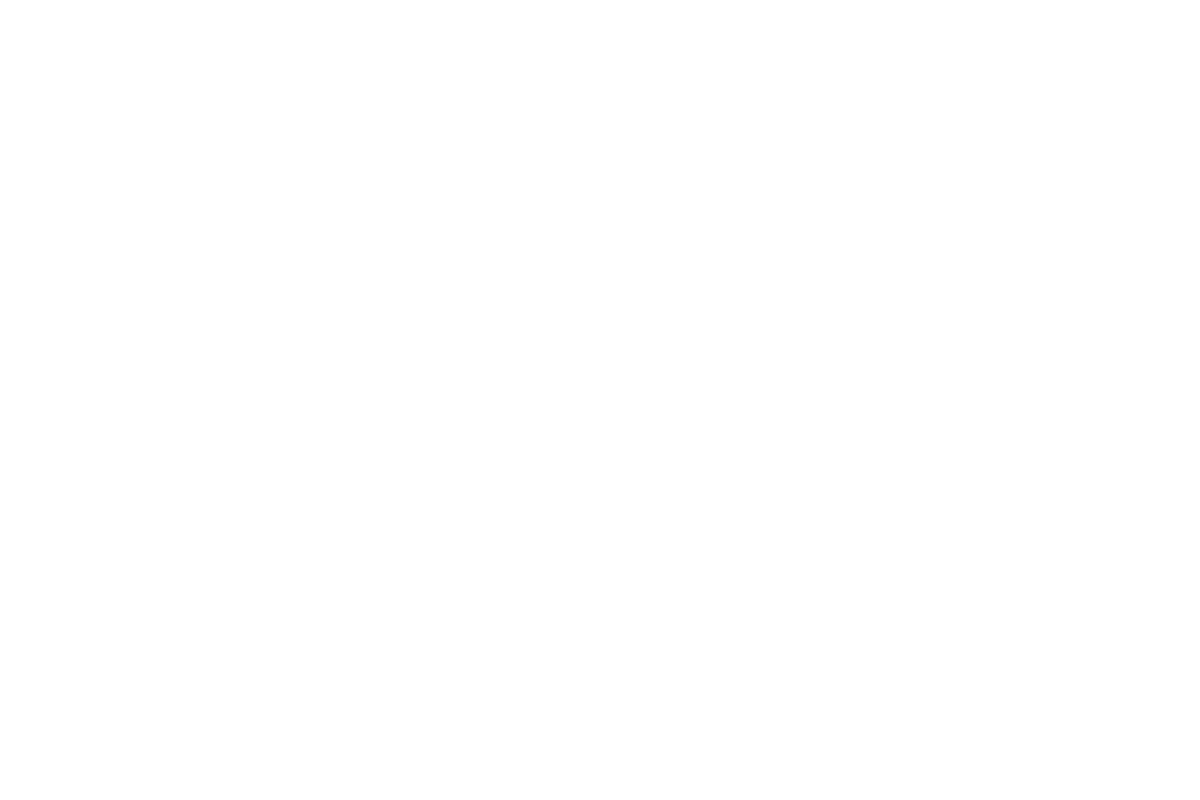
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Сукцессиям, наверное, тоже много внимания уделяют?
— С этим работают. Пожалуюсь на геоботаников, которые занимаются в том числе сукцессиями. В исследованиях сукцессий в стране существенно продвинулись ленинградская школа геоботаники, московская школа геоботаники и зачатки дальневосточной. Они нашли определенные закономерности в изменениях лесных экосистем в европейской и сибирской частях России. Но европейские и сибирские экосистемы очень простые. А если мы движемся дальше на юг, к нам на Дальний Восток или на Кавказ, там на порядки более сложная экосистема. И чем занимались наши геоботаники — я считаю, это смертный грех, — они пытались объяснить сложные экосистемы простыми моделями. Конечно, возникали ужасные вещи, которые очень сильно сказались на ведении лесного хозяйства, при планировании производства, при управлении экосистемами и т. д. Например, с 1960-х годов Москва прописывает, что нужно делать в дальневосточных лесах, и вот там сажают сосну обыкновенную в болота. Такой склад ума у русского человека: если есть открытое пространство, то там непременно нужно вырастить лес.
— С этим работают. Пожалуюсь на геоботаников, которые занимаются в том числе сукцессиями. В исследованиях сукцессий в стране существенно продвинулись ленинградская школа геоботаники, московская школа геоботаники и зачатки дальневосточной. Они нашли определенные закономерности в изменениях лесных экосистем в европейской и сибирской частях России. Но европейские и сибирские экосистемы очень простые. А если мы движемся дальше на юг, к нам на Дальний Восток или на Кавказ, там на порядки более сложная экосистема. И чем занимались наши геоботаники — я считаю, это смертный грех, — они пытались объяснить сложные экосистемы простыми моделями. Конечно, возникали ужасные вещи, которые очень сильно сказались на ведении лесного хозяйства, при планировании производства, при управлении экосистемами и т. д. Например, с 1960-х годов Москва прописывает, что нужно делать в дальневосточных лесах, и вот там сажают сосну обыкновенную в болота. Такой склад ума у русского человека: если есть открытое пространство, то там непременно нужно вырастить лес.
— Есть же сосны, которые растут прямо на болотных островах.
— Есть. Но сосна Pinus sylvestris, которая растет вообще везде, у нас доходит до Комсомольска-на-Амуре, а дальше к морю не идет, и сажать ее, допустим, на Сахалине совершенно бесперспективно. А там посажено очень много. Нам больше подходят южные сосны, например сосна густоцветковая из Кореи и Японии, они имеют там естественный ареал и предпосылки для роста. А в Москве знают сосну обыкновенную, что она растет на болотах и везде будет расти, и дают предписание дальневосточным лесничествам высаживать эту сосну, а она благополучно гибнет. И это продолжалось полвека, век почти. Представляете? Сколько ресурсов израсходовано впустую.
Или еще один пример объяснения сложных экосистем простыми моделями, уже из области биогеографии… При освоении Сибири русские продвигались на юг, и растительность, соответственно, изменялась. Человек, привыкший к березкам, который в первый раз в жизни видит лиану, тут же называет то, что он видит, субтропиками. До сих пор даже образованные вполне люди (вот вы, например) говорят, что в Сочи субтропики и на Дальнем Востоке субтропики. Это же совсем не так, это типичное упрощение, если мягко сказать. Поэтому всё, что мы делаем в области биоклиматического моделирования на основе очень большого материала, позволяет более правильно определить климатический потенциал региона для развития хозяйства. Здесь как раз очень важно международное сотрудничество; нам вместе с коллегами удалось создать глобальные базы данных для моделирования.
— Вообще, реально описать тропический лес или там каждый квадратный метр будет особенный?
— Реально. Да, это довольно сложно. У нас финские коллеги работали в Бразилии. Там — большие деревья, высотой 80 метров. В Бразилии-то еще можно их определить хоть как-то по коре, а в Восточной Азии практически невозможно, потому что конвергенция такая, что деревья выглядят одинаково — светлая гладкая кора. Чтобы их определить, надо с вершины кроны сорвать цветки. Поэтому нанимают команду лазальщиков, они собирают материал, по которому можно определить растение, спускают его, и таким образом составляется геоботаническое описание, одно за месяц при хорошем раскладе. Разнообразие, конечно, просто чудовищно. В атлантических бразильских лесах немного севернее Сан-Паулу 450 видов на гектар деревьев в первом пологе, то есть на гектаре по одному дереву каждого вида. И то же по уровню разнообразия в Малайзии.
— Если на гектаре одно дерево данного вида, то как же они друг друга находят, чтобы любовью заниматься?
— Это тоже вопрос. У деревьев это проще, потому что есть насекомые, которые далеко летают, есть птицы, есть летучие мыши, летучие лисицы и т. д. А у нас растет более прозаичное растение — женьшень. Он настолько редкий и настолько ценный (какое там золото), что на Дальнем Востоке еще в XIX веке сформировалась особая профессиональная группа людей, занимающаяся его добычей, так называемые корневщики. Везло его найти только считаным процентам этих самых корневщиков. Вот как опыляется женьшень, это действительно непонятно. Понятно, что, как у большинства растений, обычно всё происходит без опыления, но тем не менее должно быть открыто какое-то окно, когда это растение может опыляться. Но оно обычно растет настолько далеко друг от друга, что это была целая проблема, которую пытались раскрыть и до сих пор не очень убедительно раскрыли.
В 1960-х Смитсоновский институт затеял замечательный проект. Они начали закладывать специальные мониторинговые пробные площади именно в тропических лесах. Главная цель была проследить влияние всяких изменений на структуру лесов, на запас древесины, на очень многие лесные параметры в мировом масштабе. Сделано очень много, а сейчас к тропическим лесам в этой системе добавляют пробные площади с более северных и южных широт. Их пробные площади заложены по единой методике, полностью сравнимы, и там обеспечены условия автоматического считывания формальных параметров: например, высота деревьев, как быстро они растут, как изменяются их кроны и другие вещи.
По тропическим лесам сейчас в целом есть информация (правда, собственно тропических лесов в мире почти не осталось). А есть совершенно не исследованные регионы, например Папуа — Новая Гвинея. Речь даже не просто о лесных экосистемах: отсутствует очень базовая информация об их таксономическом составе — еще не описаны виды. Ситуация удручающая настолько, что трудно найти систематика, который может хотя бы определить дерево, дать ему название.
— Есть. Но сосна Pinus sylvestris, которая растет вообще везде, у нас доходит до Комсомольска-на-Амуре, а дальше к морю не идет, и сажать ее, допустим, на Сахалине совершенно бесперспективно. А там посажено очень много. Нам больше подходят южные сосны, например сосна густоцветковая из Кореи и Японии, они имеют там естественный ареал и предпосылки для роста. А в Москве знают сосну обыкновенную, что она растет на болотах и везде будет расти, и дают предписание дальневосточным лесничествам высаживать эту сосну, а она благополучно гибнет. И это продолжалось полвека, век почти. Представляете? Сколько ресурсов израсходовано впустую.
Или еще один пример объяснения сложных экосистем простыми моделями, уже из области биогеографии… При освоении Сибири русские продвигались на юг, и растительность, соответственно, изменялась. Человек, привыкший к березкам, который в первый раз в жизни видит лиану, тут же называет то, что он видит, субтропиками. До сих пор даже образованные вполне люди (вот вы, например) говорят, что в Сочи субтропики и на Дальнем Востоке субтропики. Это же совсем не так, это типичное упрощение, если мягко сказать. Поэтому всё, что мы делаем в области биоклиматического моделирования на основе очень большого материала, позволяет более правильно определить климатический потенциал региона для развития хозяйства. Здесь как раз очень важно международное сотрудничество; нам вместе с коллегами удалось создать глобальные базы данных для моделирования.
— Вообще, реально описать тропический лес или там каждый квадратный метр будет особенный?
— Реально. Да, это довольно сложно. У нас финские коллеги работали в Бразилии. Там — большие деревья, высотой 80 метров. В Бразилии-то еще можно их определить хоть как-то по коре, а в Восточной Азии практически невозможно, потому что конвергенция такая, что деревья выглядят одинаково — светлая гладкая кора. Чтобы их определить, надо с вершины кроны сорвать цветки. Поэтому нанимают команду лазальщиков, они собирают материал, по которому можно определить растение, спускают его, и таким образом составляется геоботаническое описание, одно за месяц при хорошем раскладе. Разнообразие, конечно, просто чудовищно. В атлантических бразильских лесах немного севернее Сан-Паулу 450 видов на гектар деревьев в первом пологе, то есть на гектаре по одному дереву каждого вида. И то же по уровню разнообразия в Малайзии.
— Если на гектаре одно дерево данного вида, то как же они друг друга находят, чтобы любовью заниматься?
— Это тоже вопрос. У деревьев это проще, потому что есть насекомые, которые далеко летают, есть птицы, есть летучие мыши, летучие лисицы и т. д. А у нас растет более прозаичное растение — женьшень. Он настолько редкий и настолько ценный (какое там золото), что на Дальнем Востоке еще в XIX веке сформировалась особая профессиональная группа людей, занимающаяся его добычей, так называемые корневщики. Везло его найти только считаным процентам этих самых корневщиков. Вот как опыляется женьшень, это действительно непонятно. Понятно, что, как у большинства растений, обычно всё происходит без опыления, но тем не менее должно быть открыто какое-то окно, когда это растение может опыляться. Но оно обычно растет настолько далеко друг от друга, что это была целая проблема, которую пытались раскрыть и до сих пор не очень убедительно раскрыли.
В 1960-х Смитсоновский институт затеял замечательный проект. Они начали закладывать специальные мониторинговые пробные площади именно в тропических лесах. Главная цель была проследить влияние всяких изменений на структуру лесов, на запас древесины, на очень многие лесные параметры в мировом масштабе. Сделано очень много, а сейчас к тропическим лесам в этой системе добавляют пробные площади с более северных и южных широт. Их пробные площади заложены по единой методике, полностью сравнимы, и там обеспечены условия автоматического считывания формальных параметров: например, высота деревьев, как быстро они растут, как изменяются их кроны и другие вещи.
По тропическим лесам сейчас в целом есть информация (правда, собственно тропических лесов в мире почти не осталось). А есть совершенно не исследованные регионы, например Папуа — Новая Гвинея. Речь даже не просто о лесных экосистемах: отсутствует очень базовая информация об их таксономическом составе — еще не описаны виды. Ситуация удручающая настолько, что трудно найти систематика, который может хотя бы определить дерево, дать ему название.
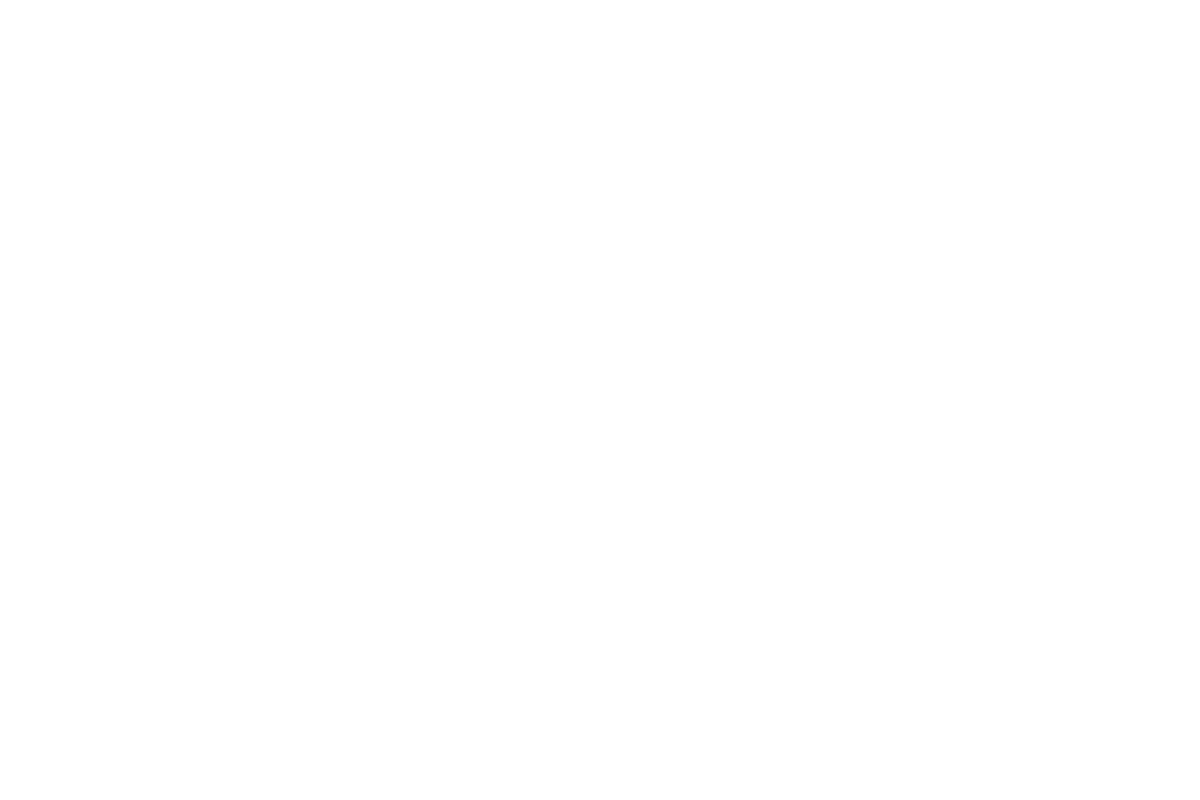
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Вы всё время про деревья говорите, а травки, кустики?
— Если говорить про тропические леса, то травы там очень мало значат. Там дерево — это основная форма роста, а травы и кустарники — это главным образом эпифиты, которые растут не на почве, а на других более крупных растениях, которые «подсаживают» мелкоту к свету.
— Не хватает света?
— Да, там борьба за свет, и всё в кронах. В кронах растения тоже изучают, но это чрезвычайно трудоемко, и речь здесь, естественно, идет только о биоразнообразии и больше ни о чём. В связи со всеми сложностями, которые препятствуют просто применить уже разработанный методологический инструментарий к тропическим лесным экосистемам, предложен очень интересный подход, который сейчас в нашей области развивается очень активно, называется — plant traits, то есть изучение характерных черт растений.
Опять же, российская геоботаника очень долго разрабатывала систему жизненных форм растений. Жизненная форма — это габитус растений, который формируется в процессе эволюции в определенных климатических и экологических условиях. Это идея Серебрякова, но наши не дотянули: сделали разветвленную систему, до сих пор описывают жизненные формы, но дальше не идут. А европейцы сделали plant traits подход, сейчас это очень широко распространено, есть огромная база данных. Работают не с видом растения, а связывают характерные внешние признаки растений со всеми факторами среды, смотрят, какую функциональную нагрузку несет конкретное проявление какого-то признака. И достигнуты очень большие успехи.
Этот подход оказался очень востребованным в районах с неизвестной биотой, где многие виды еще просто не описаны. Вот, например, одно из исследований из Новой Гвинеи. Условия: есть вид, бабочка, очень редкая, которую непременно нужно сохранять в условиях интенсивной эксплуатации тропических лесов, где и виды многие не описаны, а если и описаны, то их могут в природе опознать один-два человека в мире. Написать, как у нас делают, хоть какое-то регрессионное уравнение, чтобы посмотреть, где эта бабочка распространена, к какому типу экосистем приурочена, — невозможно. Вместо этого используют специально изобретенный моим другом Энди Гиллисоном искусственный язык, который описывает внешние признаки растений, и, параллельно бинарной линнеевской систематике, создается не бинарная, а систематика из форм проявления каких-то признаков. Допустим, какой лист? Либо он находится в горизонтальной плоскости, либо в вертикальной, либо он висит. Где у него хлорофилл: вверху, внизу, на обеих сторонах? Есть ли хлорофилл под корой? К какой жизненной форме по Раункиеру относится данное растение? Когда есть система таких признаков, раскладывается, составляется регрессионное уравнение, и можно увидеть какие-то связи между биоразнообразием и набором таких признаков.
— Если говорить про тропические леса, то травы там очень мало значат. Там дерево — это основная форма роста, а травы и кустарники — это главным образом эпифиты, которые растут не на почве, а на других более крупных растениях, которые «подсаживают» мелкоту к свету.
— Не хватает света?
— Да, там борьба за свет, и всё в кронах. В кронах растения тоже изучают, но это чрезвычайно трудоемко, и речь здесь, естественно, идет только о биоразнообразии и больше ни о чём. В связи со всеми сложностями, которые препятствуют просто применить уже разработанный методологический инструментарий к тропическим лесным экосистемам, предложен очень интересный подход, который сейчас в нашей области развивается очень активно, называется — plant traits, то есть изучение характерных черт растений.
Опять же, российская геоботаника очень долго разрабатывала систему жизненных форм растений. Жизненная форма — это габитус растений, который формируется в процессе эволюции в определенных климатических и экологических условиях. Это идея Серебрякова, но наши не дотянули: сделали разветвленную систему, до сих пор описывают жизненные формы, но дальше не идут. А европейцы сделали plant traits подход, сейчас это очень широко распространено, есть огромная база данных. Работают не с видом растения, а связывают характерные внешние признаки растений со всеми факторами среды, смотрят, какую функциональную нагрузку несет конкретное проявление какого-то признака. И достигнуты очень большие успехи.
Этот подход оказался очень востребованным в районах с неизвестной биотой, где многие виды еще просто не описаны. Вот, например, одно из исследований из Новой Гвинеи. Условия: есть вид, бабочка, очень редкая, которую непременно нужно сохранять в условиях интенсивной эксплуатации тропических лесов, где и виды многие не описаны, а если и описаны, то их могут в природе опознать один-два человека в мире. Написать, как у нас делают, хоть какое-то регрессионное уравнение, чтобы посмотреть, где эта бабочка распространена, к какому типу экосистем приурочена, — невозможно. Вместо этого используют специально изобретенный моим другом Энди Гиллисоном искусственный язык, который описывает внешние признаки растений, и, параллельно бинарной линнеевской систематике, создается не бинарная, а систематика из форм проявления каких-то признаков. Допустим, какой лист? Либо он находится в горизонтальной плоскости, либо в вертикальной, либо он висит. Где у него хлорофилл: вверху, внизу, на обеих сторонах? Есть ли хлорофилл под корой? К какой жизненной форме по Раункиеру относится данное растение? Когда есть система таких признаков, раскладывается, составляется регрессионное уравнение, и можно увидеть какие-то связи между биоразнообразием и набором таких признаков.
— Если это бабочка, то она просто грызет кого-то одного, какая разница, как у него лист висит?
— Не всегда. Иногда бывает очень сильно привязано к экосистемам. Что они делают? Приезжают на место, набирают студентов, обучают этим простым оценкам признаков и получают большие данные, которые потом можно включить в модель, показывающую распространение данного типа сообществ. Это можно делать, не зная видов деревьев. Естественно, в каком-то приближении, но тем не менее это дает результат. По крайней мере, мы можем выделить ценные массивы лесов, которые вообще нельзя рубить, надо исключать их из эксплуатации, и оценить лесные массивы, которые можно использовать.
— И последний вопрос. А как же мы поймем, какой массив ценный?
— Ценный массив легко безвозвратно потерять.
— Не всегда. Иногда бывает очень сильно привязано к экосистемам. Что они делают? Приезжают на место, набирают студентов, обучают этим простым оценкам признаков и получают большие данные, которые потом можно включить в модель, показывающую распространение данного типа сообществ. Это можно делать, не зная видов деревьев. Естественно, в каком-то приближении, но тем не менее это дает результат. По крайней мере, мы можем выделить ценные массивы лесов, которые вообще нельзя рубить, надо исключать их из эксплуатации, и оценить лесные массивы, которые можно использовать.
— И последний вопрос. А как же мы поймем, какой массив ценный?
— Ценный массив легко безвозвратно потерять.
Интервью впервые опубликовано на портале Naked Science 30.03.2023
