РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Алла Лапидус
Сборка генома как история жизни
Сборка генома как история жизни
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Алла Лапидус
Сборка генома
как история жизни
Сборка генома
как история жизни
- Разговоро биоинформатике с самого начала: как она зародилась, какие люди в ней работают, когда на самом деле расшифровали геном человека и зачем любому уважающему себя университету готовить биоинформатиков
- ГеройАлла Лапидус, директор Центра биоинформатики и алгоритмической биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
- СобеседникНаталия Михальченко, журналист
- Беседовалив декабре 2022 г.
— Вы с детства были окружены наукой — росли среди ученых в подмосковной Дубне. Каково это, как это повлияло на ваш будущий выбор?
— Да, в Дубне в моём детстве была удивительная атмосфера, в которую мне хотелось бы вернуться. Я очень люблю то время. Я видела дома очень много людей с горящими глазами. Это были очень увлеченные люди. Очень молодые, всегда горевшие какой-то интересной идеей. С ними даже мне, ребенку, всегда было очень весело и интересно. Они много улыбались, много спорили и даже кричали, но кричали с карандашом в руках. Они очень любили обсуждать что-нибудь, гуляя по улицам города. Дубна сейчас уже большой город, а тогда она была маленькой, зеленой, много жизни проходило вне дома. Был очень добрый дух и стиль общения.
Нет идеального места в мире, не бывает и идеальной эпохи — всегда есть нечиФотографировал Тимур Сабиров стоплотные люди, всегда было и будет воровство идей, данных и результатов, подтасовки. Но мне казалось, что поколение моих родителей — это очень увлеченное поколение физиков. Они были в начале той эпохи — много работали, умели дружить, умели любить, умели уважать друг друга.
Мне как-то подумалось, что я тоже в биоинформатику входила очень молодой, как мой папа в физику…
Когда я была маленькая, я всегда очень радовалась приходу гостей, для которых устраивались праздники. У нас был очень хлебосольный дом, мама умела и любила готовить. Окружение родителей было совершенно уникальным. В какой-то момент я осознала, что количество лауреатов Нобелевской премии, побывавших в нашем доме, явно было выше среднего.
Однажды я была в Курчатнике (НИЦ Курчатовский институт) с семинаром, и меня спросили, что бы я хотела посмотреть, с кем побщаться, и я сказала, а нельзя ли для меня найти телефон Юрия Моисеевича Кагана. На меня вытаращили глаза и сказали: «Да что вы, у него не найдется времени». Я говорю: «Вы не беспокойтесь, или дайте мне его телефон, или позвоните сами, назовите мою фамилию, и он сам решит». Меня привели в столовую выпить чаю, и вдруг я смотрю — какое-то возбуждение вокруг, люди встают, и Юрий Моисеевич бежит ко мне по диагонали, а он был очень пожилой человек, под 90 лет. Я ему говорю: «Здравствуйте, Юрий Моисеевич». А он: «Ну, здравствуйте, Алла Львовна». «Какая же я вам Алла Львовна!» — удивляюсь я. А он в ответ: «А какой я тебе Юрий Моисеевич?! Я тебе дядя Юра». Понимаете? Это большой, очень известный ученый, один из ближайших друзей моего папы, ему достался самый длинный век из их четверки («три Льва и Юрка»), что дружила со студенческой скамьи. Папа ушел из жизни раньше всех.
Я ничего не идеализирую, но интеллигентности тогда (в мои юные годы) было куда больше, чем сейчас. Она нынче не в моде, к сожалению. Сейчас в обществе больше ценятся деньги, связи, жесткая хватка. Конечно, это всегда так или иначе существовало, но в окружении моей семьи это было не очень ощутимо. Пошлости было меньше, а уважения друг к другу — больше. И мне видится это не только в науке, а вообще в обществе. Я иногда ловлю себя на мысли, что хотела бы вернуться в то время.
— А как вы сами стали биоинформатиком? Чтобы оказаться в эпицентре нарождающейся науки, нужно, чтобы соединилось много обстоятельств.
— Я с детства очень любила биологию: жучков, паучков, бабочек, цветочки. Кроме того, мне нравились физика и математика — это красивые науки. В школе я была в физматклассе, учеба давалась мне легко. Точные науки организуют, помогают выстраивать логические цепочки хоть в жизни, хоть в науке — и мне это по характеру.
Поэтому, когда я узнала, что в МИФИ есть кафедра с биологическим уклоном, я выбрала этот вуз, чтобы совместить все три мои любимые науки: биологию, математику и физику. Заметьте, третьим было не программирование, а физика. Со временем физика заместилась пониманием того, что с биологическими данными нужно работать с помощью компьютера.
Когда я выпускалась из МИФИ, мы были особой группой инженеров-физиков с биологическим оттенком, хотя это и не было отражено в названии специальности в моём красном дипломе. Конечно, ни биоинформатики, ни биоинформатиков тогда еще не существовало. И так как не было понятно, куда же нас девать, у нас, в отличие от всех, было свободное распределение. Я пошла во ВНИИ генетики к Сергею Машко, который выпустился с этой же кафедры на 3 года раньше меня, потому что понимала, что у этого человека есть и биологический взгляд, и физико-математический фундамент.
— …Как и у вас — и вы с таким фундаментом вместе с коллегами стояли у истоков современной биоинформатики. Расскажите: как это было?
— Давайте начнем со сказки. Жилибыли две науки: химия и физика. И когда они породнились, то появились физхимия и химфизика. При этом, если ты специалист в химфизике, это не значит, что ты специалист в физхимии, и наоборот. С биоинформатикой произошло нечто подобное. Соединилась наука биология — а это большая наука с делением на разные науки и направления, сейчас ее часто называют наукой о жизни — с математикой и программированием.
— Да, в Дубне в моём детстве была удивительная атмосфера, в которую мне хотелось бы вернуться. Я очень люблю то время. Я видела дома очень много людей с горящими глазами. Это были очень увлеченные люди. Очень молодые, всегда горевшие какой-то интересной идеей. С ними даже мне, ребенку, всегда было очень весело и интересно. Они много улыбались, много спорили и даже кричали, но кричали с карандашом в руках. Они очень любили обсуждать что-нибудь, гуляя по улицам города. Дубна сейчас уже большой город, а тогда она была маленькой, зеленой, много жизни проходило вне дома. Был очень добрый дух и стиль общения.
Нет идеального места в мире, не бывает и идеальной эпохи — всегда есть нечиФотографировал Тимур Сабиров стоплотные люди, всегда было и будет воровство идей, данных и результатов, подтасовки. Но мне казалось, что поколение моих родителей — это очень увлеченное поколение физиков. Они были в начале той эпохи — много работали, умели дружить, умели любить, умели уважать друг друга.
Мне как-то подумалось, что я тоже в биоинформатику входила очень молодой, как мой папа в физику…
Когда я была маленькая, я всегда очень радовалась приходу гостей, для которых устраивались праздники. У нас был очень хлебосольный дом, мама умела и любила готовить. Окружение родителей было совершенно уникальным. В какой-то момент я осознала, что количество лауреатов Нобелевской премии, побывавших в нашем доме, явно было выше среднего.
Однажды я была в Курчатнике (НИЦ Курчатовский институт) с семинаром, и меня спросили, что бы я хотела посмотреть, с кем побщаться, и я сказала, а нельзя ли для меня найти телефон Юрия Моисеевича Кагана. На меня вытаращили глаза и сказали: «Да что вы, у него не найдется времени». Я говорю: «Вы не беспокойтесь, или дайте мне его телефон, или позвоните сами, назовите мою фамилию, и он сам решит». Меня привели в столовую выпить чаю, и вдруг я смотрю — какое-то возбуждение вокруг, люди встают, и Юрий Моисеевич бежит ко мне по диагонали, а он был очень пожилой человек, под 90 лет. Я ему говорю: «Здравствуйте, Юрий Моисеевич». А он: «Ну, здравствуйте, Алла Львовна». «Какая же я вам Алла Львовна!» — удивляюсь я. А он в ответ: «А какой я тебе Юрий Моисеевич?! Я тебе дядя Юра». Понимаете? Это большой, очень известный ученый, один из ближайших друзей моего папы, ему достался самый длинный век из их четверки («три Льва и Юрка»), что дружила со студенческой скамьи. Папа ушел из жизни раньше всех.
Я ничего не идеализирую, но интеллигентности тогда (в мои юные годы) было куда больше, чем сейчас. Она нынче не в моде, к сожалению. Сейчас в обществе больше ценятся деньги, связи, жесткая хватка. Конечно, это всегда так или иначе существовало, но в окружении моей семьи это было не очень ощутимо. Пошлости было меньше, а уважения друг к другу — больше. И мне видится это не только в науке, а вообще в обществе. Я иногда ловлю себя на мысли, что хотела бы вернуться в то время.
— А как вы сами стали биоинформатиком? Чтобы оказаться в эпицентре нарождающейся науки, нужно, чтобы соединилось много обстоятельств.
— Я с детства очень любила биологию: жучков, паучков, бабочек, цветочки. Кроме того, мне нравились физика и математика — это красивые науки. В школе я была в физматклассе, учеба давалась мне легко. Точные науки организуют, помогают выстраивать логические цепочки хоть в жизни, хоть в науке — и мне это по характеру.
Поэтому, когда я узнала, что в МИФИ есть кафедра с биологическим уклоном, я выбрала этот вуз, чтобы совместить все три мои любимые науки: биологию, математику и физику. Заметьте, третьим было не программирование, а физика. Со временем физика заместилась пониманием того, что с биологическими данными нужно работать с помощью компьютера.
Когда я выпускалась из МИФИ, мы были особой группой инженеров-физиков с биологическим оттенком, хотя это и не было отражено в названии специальности в моём красном дипломе. Конечно, ни биоинформатики, ни биоинформатиков тогда еще не существовало. И так как не было понятно, куда же нас девать, у нас, в отличие от всех, было свободное распределение. Я пошла во ВНИИ генетики к Сергею Машко, который выпустился с этой же кафедры на 3 года раньше меня, потому что понимала, что у этого человека есть и биологический взгляд, и физико-математический фундамент.
— …Как и у вас — и вы с таким фундаментом вместе с коллегами стояли у истоков современной биоинформатики. Расскажите: как это было?
— Давайте начнем со сказки. Жилибыли две науки: химия и физика. И когда они породнились, то появились физхимия и химфизика. При этом, если ты специалист в химфизике, это не значит, что ты специалист в физхимии, и наоборот. С биоинформатикой произошло нечто подобное. Соединилась наука биология — а это большая наука с делением на разные науки и направления, сейчас ее часто называют наукой о жизни — с математикой и программированием.
— Что подтолкнуло к такому сближению?
— Биология начала накапливать такие огромные объемы разного рода молекулярно-биологических данных, в первую очередь геномных, что их стало невозможно обрабатывать, да и просто хранить не только в лабораторном журнале, но и на обычном компьютере. Приведу пример. Примерно 15 лет биологи вели кропотливые исследования, позволившие в конечном итоге построить генетическую карту очень небольшой грамположительной бактерии Bacillus subtilis. К моменту окончания этой работы подоспели технологии геномного секвенирования первого поколения, и, конечно, очень захотелось определить полную нуклеотидную последовательность генома этой бактерии. А мы помним, что алфавит генома состоит всего из четырех «буковок»-нуклеотидов: А (аденин), Т (тимин), G (гуанин), C (цитозин).
Это был 1994 год, я тогда получила приглашение принять участие в конкурсе на получение стипендии от Национального института сельского хозяйства Франции (INRA) для выдающихся иностранных ученых. Эту стипендию дают на 2 года один раз в жизни. Я выиграла конкурс и приехала в Париж, где стала работать в одной из научных групп INRA, участвовавшей в международном проекте секвенирования Bacillus subtilis. Это был общеевропейский проект, в нём участвовало много лабораторий из разных стран.
ДНК этой бактерии насчитывает чуть более 4 миллионов нуклеотидов. По тем временам такой размер генома считался огромным: за исключением пары примеров, были просеквенированы только маленькие организмы с крошечными геномами, которые не превышали нескольких десятков тысяч нуклеотидов.
Поэтому это был настоящий вызов. В процессе работы нам самим приходилось создавать методы исследований, от лабораторных до аналитических, их тогда еще толком и не существовало. И если к началу этапа восстановления первичной последовательности генома Bacillus subtilis уже были созданы первые программные продукты (сборщики), то куда интереснее всё было с процессом, который называется аннотация. Сборка генома ведь не есть самоцель геномного проекта — нужно узнать, какие гены его составляют, как они расположены друг относительно друга, организованы ли гены в какие-то кластеры или нет, какие у них регуляторные области, что они кодируют и т. д. Это и есть процесс аннотации.
Вы не поверите — мы делали эту часть работы руками: получали огромную распечатку всех «буковок», просматривали ее глазами, определяя необходимые структурные элементы, начало-конец каждого гена и т. д. Занятие, надо сказать, весьма утомительное, но именно оно помогло выявить закономерности, которые имело смысл передать в руки программистов, чтобы они посмотрели на это умным глазом и сделали анализ простым и удобным.
После того как каждая из лабораторий собрала свою часть генома (в рамках проекта за разные области генома отвечали разные лаборатории!), наступил момент сборки полного генома, соединения всех его частей. Чтобы проиллюстрировать уровень сложности этой задачи — снова пример. Представьте, что у вас есть много коробок одного и того же пазла, изображение, в которое соединяются элементы, — это какой-нибудь кусочек пляжа, а всё остальное — синее небо и синее море. И эти все коробочки уронили, все кусочки пазла перемешались, и в одной куче оказалось много копий одного и того же изображения. Задача — восстановить исходную картинку. При этом образец у вас забрали, и вы не знаете, что вы составляете, — вот это и есть сборка генома.
Еще коллеги любят приводить в пример ситуацию, когда мелко нарезали несколько экземпляров одной и той же книги и пытаются восстановить ее текст, не имея оригинала. Вот для такой работы математические модели оказались просто незаменимы. Идеи пришли из теоретической математики, например из теории графов.
Примерно в ту пору и забрезжила реальная возможность расшифровать геномы обитателей планеты Земля, и стало понятно, что обычных «офисных» инструментов хранения и обработки данных, к которым привычны классические биологи, нам не хватит.
— Это и был момент слияния биологии, математики и программирования?
— По сути, да. Начали возникать, и довольно бурно, программные продукты, которые легли в основу рождения геномной биоинформатики. Биоинформатика — наука прикладная. Не было задач — не было и этой науки.
— Были ли какие-то параллельные исследованию генома Bacillus subtilis проекты?
— Да, конечно. Это была такая лежащая на поверхности задача, к которой многие хотели подойти — и подходили параллельно. Практически одновременно с проектом Bacillus subtilis стартовал британский проект, посвященный исследованию грамотрицательной бактерии кишечной палочки Escherichia coli. В Европе и в Америке в это же время независимо были разработаны два пакета программ для анализа сиквенсных данных и их сборки, которые потом модифицировались, улучшались, по мере того как улучшался сиквенс и само понимание того, что происходит с данными.
— А когда биоинформатика начала делиться на тематические разделы?
— Это шло параллельно работам по секвенированию генома человека, которые длились 30 лет. В проект было вложено несколько миллиардов долларов, и он дал огромное количество данных: накапливались знания о том, какой ген связан с какими свойствами организма или болезнями, какие мутации приводят или не приводят к тем или иным проблемам, и многое-многое другое. Эти данные воодушевили и практикующих врачей, и фармакологов, и криминалистов. Так, например, стало понятно, что, помимо отпечатков пальцев, у нас есть и другие уникальные отличительные особенности: можно, например, идентифицировать личность по специфическим коротким тандемным повторам в геноме (short tandem repeats, или STR), композиции которых у разных людей не бывают идентичными. Анализ таких повторов может ответить, например, на вопрос, сколько человек попали в ту или иную катастрофу, что, возможно, облегчит их поиск.
В сельском хозяйстве возник огромный интерес к изучению микроорганизмов, живущих в почве. Вся жизнь на планете Земля зависит от здоровья почвы, и в поддержании ее благополучия очень важную роль играют микроорганизмы, количество и разнообразие которых было очень мало изучено. В XVI веке Леонардо да Винчи сказал: «Мы знаем больше о движении небесных тел, чем о земле под ногами». Это остается справедливым и сегодня.
По сию пору мы знаем не более 3–5 % всего живущего микромира вокруг нас, потому что не умеем выращивать подавляющее большинство бактерий в лабораторных условиях. Однако с помощью метагеномного анализа почвенных, воздушных, водных сообществ бактерий, а также бактерий, живущих на человеке и внутри него, на животных и внутри животных и т. д., и стало возможным изучение совокупного генома той или иной природной микробиоты. Накопленные при этом данные позволили в значительной степени обогатить и изменить эволюционное дерево жизни. Появившееся обилие информации показало иные связи, чем те, которые были изначально представлены в теории эволюции.
— Биология начала накапливать такие огромные объемы разного рода молекулярно-биологических данных, в первую очередь геномных, что их стало невозможно обрабатывать, да и просто хранить не только в лабораторном журнале, но и на обычном компьютере. Приведу пример. Примерно 15 лет биологи вели кропотливые исследования, позволившие в конечном итоге построить генетическую карту очень небольшой грамположительной бактерии Bacillus subtilis. К моменту окончания этой работы подоспели технологии геномного секвенирования первого поколения, и, конечно, очень захотелось определить полную нуклеотидную последовательность генома этой бактерии. А мы помним, что алфавит генома состоит всего из четырех «буковок»-нуклеотидов: А (аденин), Т (тимин), G (гуанин), C (цитозин).
Это был 1994 год, я тогда получила приглашение принять участие в конкурсе на получение стипендии от Национального института сельского хозяйства Франции (INRA) для выдающихся иностранных ученых. Эту стипендию дают на 2 года один раз в жизни. Я выиграла конкурс и приехала в Париж, где стала работать в одной из научных групп INRA, участвовавшей в международном проекте секвенирования Bacillus subtilis. Это был общеевропейский проект, в нём участвовало много лабораторий из разных стран.
ДНК этой бактерии насчитывает чуть более 4 миллионов нуклеотидов. По тем временам такой размер генома считался огромным: за исключением пары примеров, были просеквенированы только маленькие организмы с крошечными геномами, которые не превышали нескольких десятков тысяч нуклеотидов.
Поэтому это был настоящий вызов. В процессе работы нам самим приходилось создавать методы исследований, от лабораторных до аналитических, их тогда еще толком и не существовало. И если к началу этапа восстановления первичной последовательности генома Bacillus subtilis уже были созданы первые программные продукты (сборщики), то куда интереснее всё было с процессом, который называется аннотация. Сборка генома ведь не есть самоцель геномного проекта — нужно узнать, какие гены его составляют, как они расположены друг относительно друга, организованы ли гены в какие-то кластеры или нет, какие у них регуляторные области, что они кодируют и т. д. Это и есть процесс аннотации.
Вы не поверите — мы делали эту часть работы руками: получали огромную распечатку всех «буковок», просматривали ее глазами, определяя необходимые структурные элементы, начало-конец каждого гена и т. д. Занятие, надо сказать, весьма утомительное, но именно оно помогло выявить закономерности, которые имело смысл передать в руки программистов, чтобы они посмотрели на это умным глазом и сделали анализ простым и удобным.
После того как каждая из лабораторий собрала свою часть генома (в рамках проекта за разные области генома отвечали разные лаборатории!), наступил момент сборки полного генома, соединения всех его частей. Чтобы проиллюстрировать уровень сложности этой задачи — снова пример. Представьте, что у вас есть много коробок одного и того же пазла, изображение, в которое соединяются элементы, — это какой-нибудь кусочек пляжа, а всё остальное — синее небо и синее море. И эти все коробочки уронили, все кусочки пазла перемешались, и в одной куче оказалось много копий одного и того же изображения. Задача — восстановить исходную картинку. При этом образец у вас забрали, и вы не знаете, что вы составляете, — вот это и есть сборка генома.
Еще коллеги любят приводить в пример ситуацию, когда мелко нарезали несколько экземпляров одной и той же книги и пытаются восстановить ее текст, не имея оригинала. Вот для такой работы математические модели оказались просто незаменимы. Идеи пришли из теоретической математики, например из теории графов.
Примерно в ту пору и забрезжила реальная возможность расшифровать геномы обитателей планеты Земля, и стало понятно, что обычных «офисных» инструментов хранения и обработки данных, к которым привычны классические биологи, нам не хватит.
— Это и был момент слияния биологии, математики и программирования?
— По сути, да. Начали возникать, и довольно бурно, программные продукты, которые легли в основу рождения геномной биоинформатики. Биоинформатика — наука прикладная. Не было задач — не было и этой науки.
— Были ли какие-то параллельные исследованию генома Bacillus subtilis проекты?
— Да, конечно. Это была такая лежащая на поверхности задача, к которой многие хотели подойти — и подходили параллельно. Практически одновременно с проектом Bacillus subtilis стартовал британский проект, посвященный исследованию грамотрицательной бактерии кишечной палочки Escherichia coli. В Европе и в Америке в это же время независимо были разработаны два пакета программ для анализа сиквенсных данных и их сборки, которые потом модифицировались, улучшались, по мере того как улучшался сиквенс и само понимание того, что происходит с данными.
— А когда биоинформатика начала делиться на тематические разделы?
— Это шло параллельно работам по секвенированию генома человека, которые длились 30 лет. В проект было вложено несколько миллиардов долларов, и он дал огромное количество данных: накапливались знания о том, какой ген связан с какими свойствами организма или болезнями, какие мутации приводят или не приводят к тем или иным проблемам, и многое-многое другое. Эти данные воодушевили и практикующих врачей, и фармакологов, и криминалистов. Так, например, стало понятно, что, помимо отпечатков пальцев, у нас есть и другие уникальные отличительные особенности: можно, например, идентифицировать личность по специфическим коротким тандемным повторам в геноме (short tandem repeats, или STR), композиции которых у разных людей не бывают идентичными. Анализ таких повторов может ответить, например, на вопрос, сколько человек попали в ту или иную катастрофу, что, возможно, облегчит их поиск.
В сельском хозяйстве возник огромный интерес к изучению микроорганизмов, живущих в почве. Вся жизнь на планете Земля зависит от здоровья почвы, и в поддержании ее благополучия очень важную роль играют микроорганизмы, количество и разнообразие которых было очень мало изучено. В XVI веке Леонардо да Винчи сказал: «Мы знаем больше о движении небесных тел, чем о земле под ногами». Это остается справедливым и сегодня.
По сию пору мы знаем не более 3–5 % всего живущего микромира вокруг нас, потому что не умеем выращивать подавляющее большинство бактерий в лабораторных условиях. Однако с помощью метагеномного анализа почвенных, воздушных, водных сообществ бактерий, а также бактерий, живущих на человеке и внутри него, на животных и внутри животных и т. д., и стало возможным изучение совокупного генома той или иной природной микробиоты. Накопленные при этом данные позволили в значительной степени обогатить и изменить эволюционное дерево жизни. Появившееся обилие информации показало иные связи, чем те, которые были изначально представлены в теории эволюции.
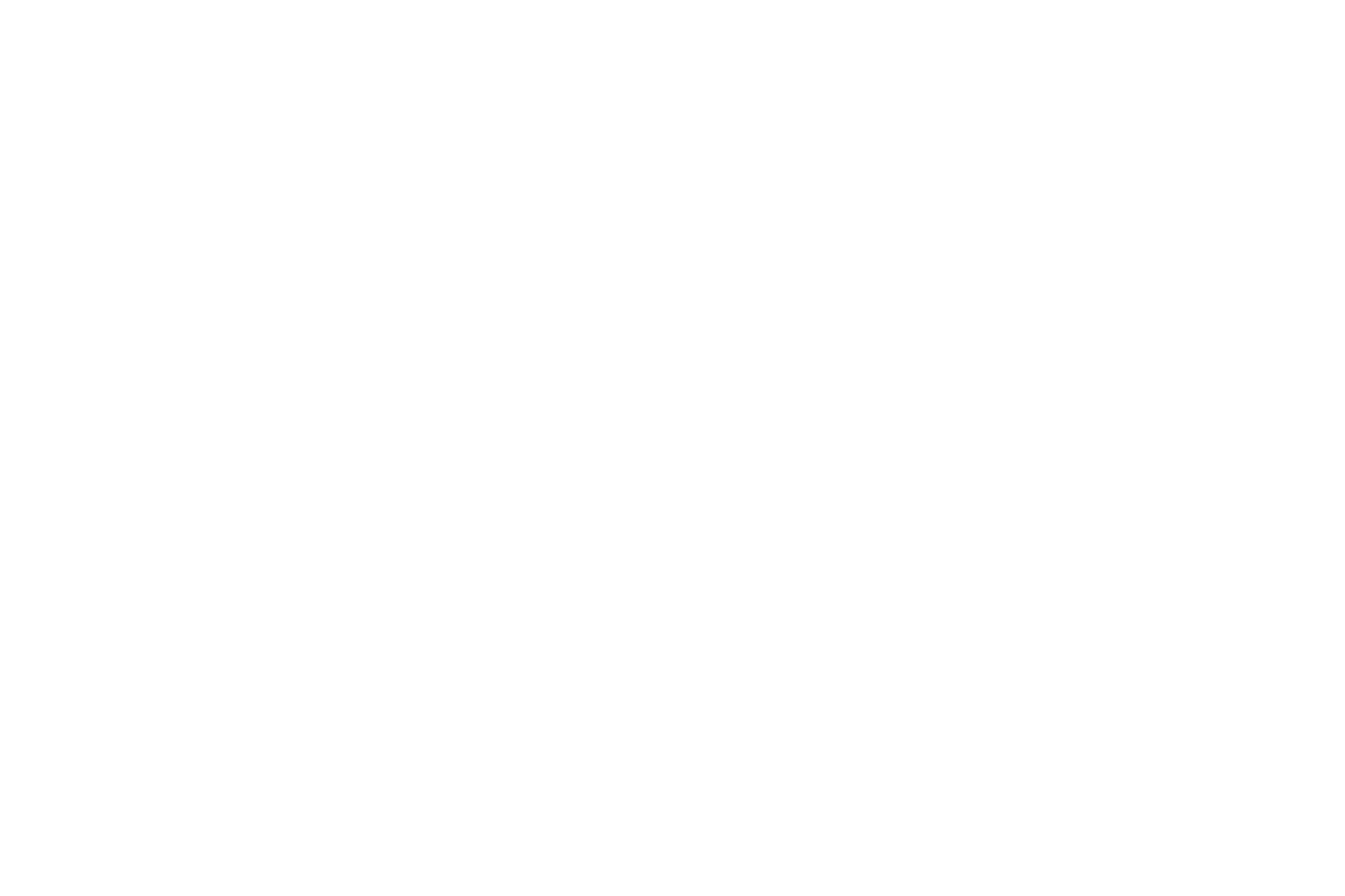
Фотограф: Тимур Сабиров /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Биоинформатика не просто заняла свое место среди наук, а поменяла и перестроила многие области науки?
— Именно так. И этот процесс идет всё активнее.
— Ваша научная судьба и дальше была переплетена с проектами на переднем крае биоинформатики и даже с самым крупным из них, правильно?
— Да, отчасти так, моя личная история приезда в США связана с The Human Genome Project, крупнейшим международным проектом, когда-либо проводившимся в биологии. Объявленный много лет назад законченным юридически, этот проект не был завершен по сути. Он перестал получать финансирование от Национального института здоровья США, но дырки в геноме оставались. Закрыли их только в 2021 году, благодаря новой качественной технологии секвенирования и специально разработанным программам сборки самых сложных участков генома.
Но на момент остановки финансирования проекта разные институты, специально созданные в рамках The Human Genome Project для его секвенирования, оказались без задач и начали думать, куда приложить свои наработки и материальные ресурсы.
Геномный институт в Америке решил переключиться на массовый сиквенс геномов микроорганизмов. Просеквенировали первую порцию, но сделали это чрезвычайно плохо, что отражено в статье с интересным названием The Value of Complete Microbial Genome Sequencing (You Get What You Pay For). Тогда они начали искать, как бы перестроить структуру центра и пригласить знающих людей. Так я получила приглашение в Геномный институт.
В Геномном институте я создала одну из первых в мире групп, наладившую и по максимуму на тот момент автоматизировавшую процесс сборки геномных данных до референсного качества (проще говоря — очень высокого качества, без ошибок и пробелов в геномах). Этот этап сборки мы стали называть финишингом. И, опять же, это было впервые, ранее такого не было! Для достижения этой цели понадобилось объединить лабораторную работу с работой программистов и аналитиков. Мне по жизни вообще везет оказываться (или начинать самой) в каких-то проектах, которые происходят впервые. Во время написания диплома я сделала первый в России экспрессионный вектор для получения суперпродукции чужеродных белков в клетках E. coli, что привело к серии патентов. Во Франции был пионерский проект (первый грамположительный микроорганизм), который многому меня научил. В Санкт-Петербурге — первая магистерская программа по биоинформатике в СПбГУ.
— Довольно частое явление, когда ученые или представители других профессий перебираются из Петербурга в Москву, а вы, наоборот, приехали в Петербург и встали во главе одного из научных подразделений старейшего университета страны.
— Меня пригласил Павел Певзнер. Он выиграл мегагрант Правительства России первой волны и создал лабораторию в Академическом университете, который теперь носит имя Алфёрова. В этой лаборатории был создан первый вариант сборщика геномных данных, получаемых при секвенировании хромосомы, выделенной из единичной клетки. Данные, получаемые при этом, требовали и особого анализа, и особой обработки. В лаборатории на момент моего приезда уже создали и опубликовали первую версию этого сборщика (SPAdes).
Очень часто академические разработки программных продуктов грешат тем, что, кроме самих разработчиков, ими пользоваться не может практически никто, потому что академическим разработчикам интересно апробировать свой подход, показать, что он работает и его можно реализовать, а потом они теряют интерес к задаче. А пользователю нужны удобство и простота, что мало заботит таких академических программистов, — они не работают над пользовательским интерфейсом, мануалами и прочими вещами, которые необходимы пользователю для работы с программным продуктом. И потому я всегда ворчала на умных и совершенно замечательных математиков и программистов, мол, ваши продукты только в ваших руках и работают. Павел об этом вспомнил, позвонил мне и сказал: «Ты вечно нас ругаешь, вот приезжай в Питер и помоги нам сделать сборщик удобным для пользователей». Так я оказалась в Петербурге.
— Именно так. И этот процесс идет всё активнее.
— Ваша научная судьба и дальше была переплетена с проектами на переднем крае биоинформатики и даже с самым крупным из них, правильно?
— Да, отчасти так, моя личная история приезда в США связана с The Human Genome Project, крупнейшим международным проектом, когда-либо проводившимся в биологии. Объявленный много лет назад законченным юридически, этот проект не был завершен по сути. Он перестал получать финансирование от Национального института здоровья США, но дырки в геноме оставались. Закрыли их только в 2021 году, благодаря новой качественной технологии секвенирования и специально разработанным программам сборки самых сложных участков генома.
Но на момент остановки финансирования проекта разные институты, специально созданные в рамках The Human Genome Project для его секвенирования, оказались без задач и начали думать, куда приложить свои наработки и материальные ресурсы.
Геномный институт в Америке решил переключиться на массовый сиквенс геномов микроорганизмов. Просеквенировали первую порцию, но сделали это чрезвычайно плохо, что отражено в статье с интересным названием The Value of Complete Microbial Genome Sequencing (You Get What You Pay For). Тогда они начали искать, как бы перестроить структуру центра и пригласить знающих людей. Так я получила приглашение в Геномный институт.
В Геномном институте я создала одну из первых в мире групп, наладившую и по максимуму на тот момент автоматизировавшую процесс сборки геномных данных до референсного качества (проще говоря — очень высокого качества, без ошибок и пробелов в геномах). Этот этап сборки мы стали называть финишингом. И, опять же, это было впервые, ранее такого не было! Для достижения этой цели понадобилось объединить лабораторную работу с работой программистов и аналитиков. Мне по жизни вообще везет оказываться (или начинать самой) в каких-то проектах, которые происходят впервые. Во время написания диплома я сделала первый в России экспрессионный вектор для получения суперпродукции чужеродных белков в клетках E. coli, что привело к серии патентов. Во Франции был пионерский проект (первый грамположительный микроорганизм), который многому меня научил. В Санкт-Петербурге — первая магистерская программа по биоинформатике в СПбГУ.
— Довольно частое явление, когда ученые или представители других профессий перебираются из Петербурга в Москву, а вы, наоборот, приехали в Петербург и встали во главе одного из научных подразделений старейшего университета страны.
— Меня пригласил Павел Певзнер. Он выиграл мегагрант Правительства России первой волны и создал лабораторию в Академическом университете, который теперь носит имя Алфёрова. В этой лаборатории был создан первый вариант сборщика геномных данных, получаемых при секвенировании хромосомы, выделенной из единичной клетки. Данные, получаемые при этом, требовали и особого анализа, и особой обработки. В лаборатории на момент моего приезда уже создали и опубликовали первую версию этого сборщика (SPAdes).
Очень часто академические разработки программных продуктов грешат тем, что, кроме самих разработчиков, ими пользоваться не может практически никто, потому что академическим разработчикам интересно апробировать свой подход, показать, что он работает и его можно реализовать, а потом они теряют интерес к задаче. А пользователю нужны удобство и простота, что мало заботит таких академических программистов, — они не работают над пользовательским интерфейсом, мануалами и прочими вещами, которые необходимы пользователю для работы с программным продуктом. И потому я всегда ворчала на умных и совершенно замечательных математиков и программистов, мол, ваши продукты только в ваших руках и работают. Павел об этом вспомнил, позвонил мне и сказал: «Ты вечно нас ругаешь, вот приезжай в Питер и помоги нам сделать сборщик удобным для пользователей». Так я оказалась в Петербурге.
— А почему академические разработчики не склонны думать об удобстве пользователя? Это эгоизм?
— Никакого эгоизма в этом нет. Ученые, которые занимаются теоретическими вещами, придумывают какой-то новый алгоритм, подбирают тот или иной математический аппарат, который можно привлечь к этой задаче, тестируют его, убеждаются, что всё работает, и если негде в этот момент его применить, то и неизвестно, к чему и к кому надо адаптироваться, чтобы сделать тул удобным.
В компаниях, которые разрабатывают программы, всегда есть разработчики, есть отладчики, которые проверяют и перепроверяют всё, а есть люди, которые доводят продукт до состояния, удобного пользователю. И всё это разные работы. Людей, которые могут придумать что-то принципиально новое, жалко сажать на отладку. Но это не значит, что отладка не нужна. Когда вы, например, ведете машину, вы же не думаете каждые две секунды о том, что там где и как вертится, как там что присоединили. Вам нужно открыть дверь, сесть на сиденье, погреть мотор и поехать. Это всё, что вас интересует до того момента, пока машина не сломалась. Но чтобы водителю было удобно за рулем, тепло и был хороший обзор, поработало много людей. Точно так же происходит и здесь. Чтобы пользователю было удобно, должны поработать разные высококвалифицированные люди.
Павел пригласил меня помочь сделать их сборщик бактериальных геномов, как теперь говорят, «юзер френдли» (user friendly), чтобы разработка стала простой, удобной и любимой пользователями. Я горжусь, что это удалось сделать. Удалось понятно донести, какие же проблемы возникают у пользователей и чего они ожидают от продукта. Без самих пользователей это сделать невозможно, потому что ребята-программисты думают другими категориями и не всегда учитывают, что в биологию приходят люди, очень далекие от математики и программирования. Так что чем меньше кнопок им придется нажимать в процессе работы с программой, тем легче.
Годом позже, когда я уже работала в лаборатории Павла Певзнера в Академическом университете, в Санкт-Петербургском государственном университете также по мегагранту создал лабораторию имени Добржанского другой американский ученый — Стивен О’Брайен, знакомый с Павлом по работам. Он начал уговаривать меня помочь и ему тоже со становлением центра. И, таким образом, я оказалась частично в Академическом университете, частично в СПбГУ.
— И потом переманили и лабораторию Павла Певзнера в СПбГУ?
— А потом оказалось, что мегагрант и его продление в Академическом университете закончились и по какой-то причине университет не был заинтересован в том, чтобы поддерживать лабораторию Павла и дальше. Я поняла, что того и гляди лаборатория останется не у дел, и рассказала о ней проректору по науке СПбГУ на тот момент Сергею Павловичу Тунику. Идея биоинформатики ему понравилась, и он предложил подать заявку на конкурс внутренних мегагрантов СПбГУ. Мы написали очень сильную заявку, выиграли, и лаборатория в воздухе не повисла — мы перешли в СПбГУ. Но при этом мне пришлось выбирать между лабораториями, поскольку в СПбГУ нельзя быть в двух лабораториях одновременно. И я сосредоточилась на Центре биоинформатики и алгоритмической биотехнологии. Лаборатория взрослела, росла, публиковала хорошие статьи, в нее вливались новые талантливые люди, возникали новые направления, расширялся ассортимент программных продуктов.
— Никакого эгоизма в этом нет. Ученые, которые занимаются теоретическими вещами, придумывают какой-то новый алгоритм, подбирают тот или иной математический аппарат, который можно привлечь к этой задаче, тестируют его, убеждаются, что всё работает, и если негде в этот момент его применить, то и неизвестно, к чему и к кому надо адаптироваться, чтобы сделать тул удобным.
В компаниях, которые разрабатывают программы, всегда есть разработчики, есть отладчики, которые проверяют и перепроверяют всё, а есть люди, которые доводят продукт до состояния, удобного пользователю. И всё это разные работы. Людей, которые могут придумать что-то принципиально новое, жалко сажать на отладку. Но это не значит, что отладка не нужна. Когда вы, например, ведете машину, вы же не думаете каждые две секунды о том, что там где и как вертится, как там что присоединили. Вам нужно открыть дверь, сесть на сиденье, погреть мотор и поехать. Это всё, что вас интересует до того момента, пока машина не сломалась. Но чтобы водителю было удобно за рулем, тепло и был хороший обзор, поработало много людей. Точно так же происходит и здесь. Чтобы пользователю было удобно, должны поработать разные высококвалифицированные люди.
Павел пригласил меня помочь сделать их сборщик бактериальных геномов, как теперь говорят, «юзер френдли» (user friendly), чтобы разработка стала простой, удобной и любимой пользователями. Я горжусь, что это удалось сделать. Удалось понятно донести, какие же проблемы возникают у пользователей и чего они ожидают от продукта. Без самих пользователей это сделать невозможно, потому что ребята-программисты думают другими категориями и не всегда учитывают, что в биологию приходят люди, очень далекие от математики и программирования. Так что чем меньше кнопок им придется нажимать в процессе работы с программой, тем легче.
Годом позже, когда я уже работала в лаборатории Павла Певзнера в Академическом университете, в Санкт-Петербургском государственном университете также по мегагранту создал лабораторию имени Добржанского другой американский ученый — Стивен О’Брайен, знакомый с Павлом по работам. Он начал уговаривать меня помочь и ему тоже со становлением центра. И, таким образом, я оказалась частично в Академическом университете, частично в СПбГУ.
— И потом переманили и лабораторию Павла Певзнера в СПбГУ?
— А потом оказалось, что мегагрант и его продление в Академическом университете закончились и по какой-то причине университет не был заинтересован в том, чтобы поддерживать лабораторию Павла и дальше. Я поняла, что того и гляди лаборатория останется не у дел, и рассказала о ней проректору по науке СПбГУ на тот момент Сергею Павловичу Тунику. Идея биоинформатики ему понравилась, и он предложил подать заявку на конкурс внутренних мегагрантов СПбГУ. Мы написали очень сильную заявку, выиграли, и лаборатория в воздухе не повисла — мы перешли в СПбГУ. Но при этом мне пришлось выбирать между лабораториями, поскольку в СПбГУ нельзя быть в двух лабораториях одновременно. И я сосредоточилась на Центре биоинформатики и алгоритмической биотехнологии. Лаборатория взрослела, росла, публиковала хорошие статьи, в нее вливались новые талантливые люди, возникали новые направления, расширялся ассортимент программных продуктов.
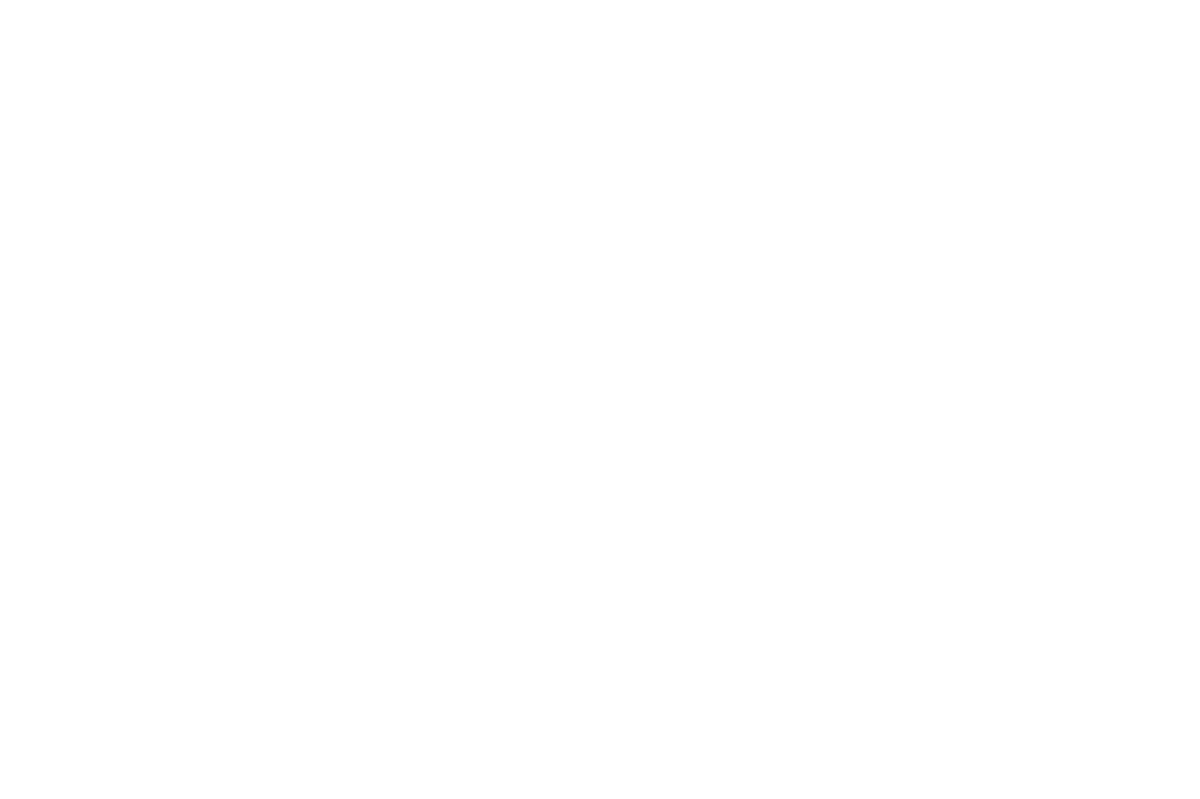
Фотограф: Тимур Сабиров /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Вас знают в научных кругах не только как ученого, но и как педагога, который растит и оберегает научную молодежь. Это важно для вас?
— Похоже, у меня это наследственное: досталось от отца и деда. Мой дед по папиной линии — Иосиф Абрамович Лапидус — был дважды профессор и доктор наук, по медицине и политэкономии, причем в довольно молодом возрасте. Он был автором ряда известных учебников по политической экономии (переведены на множество языков) и преподавал в Ивановском университете. Когда началась война, он ушел в народное ополчение защищать Москву. С фронта Иосиф Абрамович не вернулся. О его таланте преподавателя есть много воспоминаний студентов и сослуживцев и установлена мемориальная доска на стене Ивановского университета. Его жена, моя бабушка, тоже была медиком, в мединституте в Москве они и познакомились.
Папа, Лев Иосифович, — физик, проработал всю жизнь в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и был очень много лет самым молодым заместителем по науке в Лаборатории ядерных проблем, руководимой Венедиктом Петровичем Джелеповым. В лаборатории в те времена было под полторы тысячи человек. О папе говорят как о выдающемся физике-преподавателе. Он не вел никакие курсы, но всегда был с молодежью, организовывал школы, занятия.
Моя преподавательская деятельность началась в ту пору, когда я была соруководителем двух лабораторий, в Академическом университете и в СПбГУ. Мне было совершенно очевидно, что в науке хронически не хватает биоинформатиков, и в первую очередь потому, что мало кто знает об этой науке (несмотря на то, что шел уже 2012 год) и почти негде ей учиться.
Для начала я инициировала курс открытых лекций по биоинформатике, которые мы с коллегами из Центра Добржанского читали по четвергам. Составила программу и не без труда уговорила ребят поучаствовать со мной в этой затее. Пришлось именно уговаривать — они не очень понимали, зачем это нужно. Мы читали лекции по вечерам на Среднем проспекте, 41 для всех, кому интересно было узнать, что такое биоинформатика, зачем она нужна, где она применима. Я была уверена, что придет 3–4–5 человек. Но на первой же лекции была полная большая аудитория! Среди слушателей оказались экономисты, филологи, журналисты, биологи. Они задавали очень хорошие вопросы.
Потом у меня возникла мысль, не сделать ли нам бакалавриат по биоинформатике, но поняла, что лучше будет начать с магистерской программы, куда люди приходят более осмысленно. Я долго боролась с теми, кто говорил мне, что достаточно добавить маленький курс молекулярной биологии в программу на матмехе и небольшой курс программирования на биофаке — и никакой специальной магистратуры не потребуется. К сожалению, от мнения этих людей зависело, быть обучению биоинформатике в СПбГУ или не быть.
— Похоже, у меня это наследственное: досталось от отца и деда. Мой дед по папиной линии — Иосиф Абрамович Лапидус — был дважды профессор и доктор наук, по медицине и политэкономии, причем в довольно молодом возрасте. Он был автором ряда известных учебников по политической экономии (переведены на множество языков) и преподавал в Ивановском университете. Когда началась война, он ушел в народное ополчение защищать Москву. С фронта Иосиф Абрамович не вернулся. О его таланте преподавателя есть много воспоминаний студентов и сослуживцев и установлена мемориальная доска на стене Ивановского университета. Его жена, моя бабушка, тоже была медиком, в мединституте в Москве они и познакомились.
Папа, Лев Иосифович, — физик, проработал всю жизнь в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и был очень много лет самым молодым заместителем по науке в Лаборатории ядерных проблем, руководимой Венедиктом Петровичем Джелеповым. В лаборатории в те времена было под полторы тысячи человек. О папе говорят как о выдающемся физике-преподавателе. Он не вел никакие курсы, но всегда был с молодежью, организовывал школы, занятия.
Моя преподавательская деятельность началась в ту пору, когда я была соруководителем двух лабораторий, в Академическом университете и в СПбГУ. Мне было совершенно очевидно, что в науке хронически не хватает биоинформатиков, и в первую очередь потому, что мало кто знает об этой науке (несмотря на то, что шел уже 2012 год) и почти негде ей учиться.
Для начала я инициировала курс открытых лекций по биоинформатике, которые мы с коллегами из Центра Добржанского читали по четвергам. Составила программу и не без труда уговорила ребят поучаствовать со мной в этой затее. Пришлось именно уговаривать — они не очень понимали, зачем это нужно. Мы читали лекции по вечерам на Среднем проспекте, 41 для всех, кому интересно было узнать, что такое биоинформатика, зачем она нужна, где она применима. Я была уверена, что придет 3–4–5 человек. Но на первой же лекции была полная большая аудитория! Среди слушателей оказались экономисты, филологи, журналисты, биологи. Они задавали очень хорошие вопросы.
Потом у меня возникла мысль, не сделать ли нам бакалавриат по биоинформатике, но поняла, что лучше будет начать с магистерской программы, куда люди приходят более осмысленно. Я долго боролась с теми, кто говорил мне, что достаточно добавить маленький курс молекулярной биологии в программу на матмехе и небольшой курс программирования на биофаке — и никакой специальной магистратуры не потребуется. К сожалению, от мнения этих людей зависело, быть обучению биоинформатике в СПбГУ или не быть.
— Ваши оппоненты не видели в биоинформатике новый самостоятельный субъект науки?
— Не видели. В биоинформатике нужно учить мышлению. Биологи пока еще не готовы математически мыслить. К тому же биоинформатика — это не какой-то маленький кусочек, который можно вставить в другую программу. Это отдельный организм, у нас много дисциплин: по анализу данных, по их интерпретации, по математическим и биологическим подходам. Надо и биологию понимать, и в математике разбираться, и хотя бы немного ориентироваться в программировании. Борьба шла 2 года, но в итоге магистерская программа работает, и в этом году будет четвертый выпуск.
А пока шла борьба за магистратуру, в голову пришла идея о создании онлайн-курсов на платформе Coursera. Тогда это была практически единственная платформа онлайн-образования. Кроме того, курсов по биоинформатике в мире было очень мало, и все они на английском. Очевидно, что люди, плохо знающие язык, столкнутся с большими трудностями, вызванными в первую очередь огромным количеством непривычных терминов. Я решила, что нужно читать текст на русском, а слайды делать на английском, чтобы люди постепенно привыкали к терминологии и быстрее входили в суть. Мне удалось подбить на это дело своих коллег по работе — Михаила Райко, Екатерину Черняеву, Николая Вяххи, Пашу Добрынина. Наш курс за время его существования прослушало более 200 тысяч человек. Как сказал тогда Павел, это единственный на тот момент курс на платформе («Введение в биоинформатику», 2014 год), сделанный без каких бы то ни было финансовых вложений, на голом энтузиазме.
Потом мы сделали еще один курс, по метагеномике — это по сию пору очень горячая тема — но уже на платформе «Открытое образование». Туда же переехал и наш первый курс.
За рубежом всё это было сделано уже давно, а для России было впервой: в начале 2010-х по уровню развития биоинформатики мы отставали лет на 15. Сейчас общими усилиями это отставание сильно сокращено. И всё равно биоинформатиков очень не хватает, даже несмотря на то, что зарплаты биоинформатиков приближаются к зарплатам программистов, до которых биологам еще очень далеко.
— Вы родились в Дубне, работали в Москве, во Франции, в Америке, сейчас в Петербурге. Где, по-вашему, наиболее комфортная атмосфера для работы ученых?
— Возможности для работы ученых были везде: и в Дубне, и в Москве, и в Петербурге, и в Америке, и в Париже. Было бы желание работать. Но не бывает идеального места в мире. В каждом из них есть свои недостатки: где-то людям лень работать, хотя возможности есть, где-то люди бегут впереди паровоза, впереди понимания какой-то области, и их притормаживают, потому что администраторы не в силах этого понять, где-то не хватает финансирования, а где-то очень строгие рамки и нет свободы. Везде свои особенности. Мне очень повезло, я постоянно оказываюсь на острие чего-то нового. Но это и непросто… Если говорить о личном восприятии, то чисто по-человечески мне ближе всего всё-таки Питер. Это город, в котором легко дышится, куда хочется всё время приезжать.
— Когда я была маленькой девочкой и читала книги о женщинах-ученых, меня поразила история Марии Кюри: как радий прожигал дырку в кармане ее чуть ли не единственного лабораторного платья. А как вы для себя решили проблему баланса разных сфер жизни?
— Платьев у меня точно больше! Я люблю стиль в одежде и элегантные ювелирные украшения (именно элегантные, не обязательно дорогие). Очень люблю гостей, люблю ходить в музеи и на выставки. В студенческие годы мы всегда очень много ходили в театры, стояли ночью в очередях за билетами всем общежитием МИФИ. Люблю готовить. Это у меня от мамы.
Но то, что я трудоголик, — это медицинский факт, я всегда работала очень много. Моя дочь, когда подросла и поняла, что мамы может не быть дома и в субботу, и в воскресенье, уже с пятницы начинала предупреждать, что если я уйду в выходные, то она заболеет. Здесь меня очень выручал мой муж. Они с дочкой были большими друзьями, и это было здорово!
Когда мужа не стало — он, как и мой папа, к несчастью, ушел из жизни очень молодым, — в нашей с дочкой жизни наступил очень сложный период. Меня спасала работа. Она меня буквально вытянула. Не знаю, как бы вообще смогла со всем этим справиться без нее и помочь дочери, которая потеряла не просто отца, а Друга.
Моя дочь, проведя в детстве заметное время со мной в лаборатории, сказала, что, наверное, она не хочет заниматься наукой и проводить столько времени за пробирками, как я. И стала успешным переводчиком с тремя языками. Правда, порой она жалеет, что не занялась программированием. Мозги у нее очень математические, очень стройные.
Работа в удовольствие, если ты делаешь то, что тебе нравится. Но заниматься работой, от которой тебя тошнит, — это несчастье.
Возможно, Мария Кюри считала, что двух платьев ей вполне хватит. Она была очень эрудированный человек, а писать книги об известных людях можно по-разному. Например, когда я читаю книги про Ландау, у меня никак не складывается портрет того человека, которого я видела маленькой девочкой у нас дома и о котором потом рассказывали мне папа с мамой. Я помню его строгим дядей, который говорил мне, что в школе нужно сначала учить алгебру, а уже потом арифметику. Я училась в начальных классах и никак не могла понять, как же можно без арифметики, позволила себе с ним не согласиться.
— Не видели. В биоинформатике нужно учить мышлению. Биологи пока еще не готовы математически мыслить. К тому же биоинформатика — это не какой-то маленький кусочек, который можно вставить в другую программу. Это отдельный организм, у нас много дисциплин: по анализу данных, по их интерпретации, по математическим и биологическим подходам. Надо и биологию понимать, и в математике разбираться, и хотя бы немного ориентироваться в программировании. Борьба шла 2 года, но в итоге магистерская программа работает, и в этом году будет четвертый выпуск.
А пока шла борьба за магистратуру, в голову пришла идея о создании онлайн-курсов на платформе Coursera. Тогда это была практически единственная платформа онлайн-образования. Кроме того, курсов по биоинформатике в мире было очень мало, и все они на английском. Очевидно, что люди, плохо знающие язык, столкнутся с большими трудностями, вызванными в первую очередь огромным количеством непривычных терминов. Я решила, что нужно читать текст на русском, а слайды делать на английском, чтобы люди постепенно привыкали к терминологии и быстрее входили в суть. Мне удалось подбить на это дело своих коллег по работе — Михаила Райко, Екатерину Черняеву, Николая Вяххи, Пашу Добрынина. Наш курс за время его существования прослушало более 200 тысяч человек. Как сказал тогда Павел, это единственный на тот момент курс на платформе («Введение в биоинформатику», 2014 год), сделанный без каких бы то ни было финансовых вложений, на голом энтузиазме.
Потом мы сделали еще один курс, по метагеномике — это по сию пору очень горячая тема — но уже на платформе «Открытое образование». Туда же переехал и наш первый курс.
За рубежом всё это было сделано уже давно, а для России было впервой: в начале 2010-х по уровню развития биоинформатики мы отставали лет на 15. Сейчас общими усилиями это отставание сильно сокращено. И всё равно биоинформатиков очень не хватает, даже несмотря на то, что зарплаты биоинформатиков приближаются к зарплатам программистов, до которых биологам еще очень далеко.
— Вы родились в Дубне, работали в Москве, во Франции, в Америке, сейчас в Петербурге. Где, по-вашему, наиболее комфортная атмосфера для работы ученых?
— Возможности для работы ученых были везде: и в Дубне, и в Москве, и в Петербурге, и в Америке, и в Париже. Было бы желание работать. Но не бывает идеального места в мире. В каждом из них есть свои недостатки: где-то людям лень работать, хотя возможности есть, где-то люди бегут впереди паровоза, впереди понимания какой-то области, и их притормаживают, потому что администраторы не в силах этого понять, где-то не хватает финансирования, а где-то очень строгие рамки и нет свободы. Везде свои особенности. Мне очень повезло, я постоянно оказываюсь на острие чего-то нового. Но это и непросто… Если говорить о личном восприятии, то чисто по-человечески мне ближе всего всё-таки Питер. Это город, в котором легко дышится, куда хочется всё время приезжать.
— Когда я была маленькой девочкой и читала книги о женщинах-ученых, меня поразила история Марии Кюри: как радий прожигал дырку в кармане ее чуть ли не единственного лабораторного платья. А как вы для себя решили проблему баланса разных сфер жизни?
— Платьев у меня точно больше! Я люблю стиль в одежде и элегантные ювелирные украшения (именно элегантные, не обязательно дорогие). Очень люблю гостей, люблю ходить в музеи и на выставки. В студенческие годы мы всегда очень много ходили в театры, стояли ночью в очередях за билетами всем общежитием МИФИ. Люблю готовить. Это у меня от мамы.
Но то, что я трудоголик, — это медицинский факт, я всегда работала очень много. Моя дочь, когда подросла и поняла, что мамы может не быть дома и в субботу, и в воскресенье, уже с пятницы начинала предупреждать, что если я уйду в выходные, то она заболеет. Здесь меня очень выручал мой муж. Они с дочкой были большими друзьями, и это было здорово!
Когда мужа не стало — он, как и мой папа, к несчастью, ушел из жизни очень молодым, — в нашей с дочкой жизни наступил очень сложный период. Меня спасала работа. Она меня буквально вытянула. Не знаю, как бы вообще смогла со всем этим справиться без нее и помочь дочери, которая потеряла не просто отца, а Друга.
Моя дочь, проведя в детстве заметное время со мной в лаборатории, сказала, что, наверное, она не хочет заниматься наукой и проводить столько времени за пробирками, как я. И стала успешным переводчиком с тремя языками. Правда, порой она жалеет, что не занялась программированием. Мозги у нее очень математические, очень стройные.
Работа в удовольствие, если ты делаешь то, что тебе нравится. Но заниматься работой, от которой тебя тошнит, — это несчастье.
Возможно, Мария Кюри считала, что двух платьев ей вполне хватит. Она была очень эрудированный человек, а писать книги об известных людях можно по-разному. Например, когда я читаю книги про Ландау, у меня никак не складывается портрет того человека, которого я видела маленькой девочкой у нас дома и о котором потом рассказывали мне папа с мамой. Я помню его строгим дядей, который говорил мне, что в школе нужно сначала учить алгебру, а уже потом арифметику. Я училась в начальных классах и никак не могла понять, как же можно без арифметики, позволила себе с ним не согласиться.
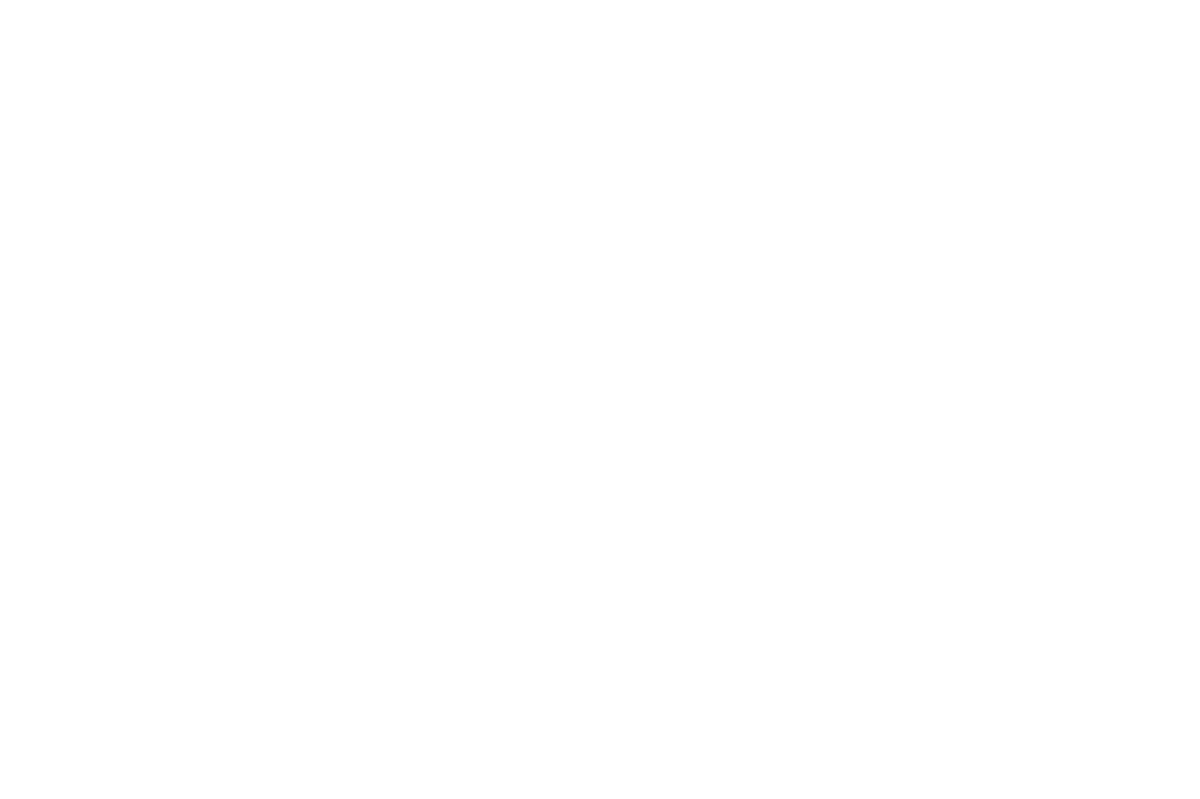
Фотограф: Тимур Сабиров /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Какая цель у вас на повестке сейчас?
— Магистратура — это хорошо, но нужны и другие структурные элементы: кафедра, подразделение. Ни один западный университет не может себе позволить не иметь какого-то структурного подразделения по биоинформатике. И это действительно необходимо, чтобы объединить единомышленников и их учеников.
— Какими качествами должен обладать человек, чтобы он смог раскрыть себя в биоинформатике?
— Человек должен хотеть учиться. Узнавать новое. Нужен интерес к естественным наукам и желание понять их изнутри. Не бояться точных наук.
Мне довелось как-то читать лекции 12-летним детям. И они задавали такие вопросы, что, казалось, еще немножко — и они поставят меня в тупик (обошлось!). Меня потрясла эрудиция одного мальчика, которого интересовали очень актуальные медицинские вопросы. И когда я в конце встречи ответила на его последний вопрос, он подпрыгнул на стуле, вскинул руки вверх и воскликнул: «Теперь я знаю, чем я буду заниматься в жизни!» Ради таких моментов стоит жить и работать.
— Магистратура — это хорошо, но нужны и другие структурные элементы: кафедра, подразделение. Ни один западный университет не может себе позволить не иметь какого-то структурного подразделения по биоинформатике. И это действительно необходимо, чтобы объединить единомышленников и их учеников.
— Какими качествами должен обладать человек, чтобы он смог раскрыть себя в биоинформатике?
— Человек должен хотеть учиться. Узнавать новое. Нужен интерес к естественным наукам и желание понять их изнутри. Не бояться точных наук.
Мне довелось как-то читать лекции 12-летним детям. И они задавали такие вопросы, что, казалось, еще немножко — и они поставят меня в тупик (обошлось!). Меня потрясла эрудиция одного мальчика, которого интересовали очень актуальные медицинские вопросы. И когда я в конце встречи ответила на его последний вопрос, он подпрыгнул на стуле, вскинул руки вверх и воскликнул: «Теперь я знаю, чем я буду заниматься в жизни!» Ради таких моментов стоит жить и работать.
Интервью впервые опубликовано на портале «Стимул» 21.03.2023
