РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Мария Логачёва
Эволюционная генетика как бег от медведя. Вдвоём
Эволюционная генетика как бег от медведя. Вдвоём
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Мария Логачёва
Эволюционная генетика как бег от медведя. Вдвоём
Эволюционная генетика как бег от медведя. Вдвоём
- Разговоро генетике растений: чем их геном отличается от нашего, какова гречиха нашей мечты и почему у генетического редактирования в сельском хозяйстве больше перспектив, чем в медицине
- ГеройМария Логачёва, старший преподаватель Центра наук о жизни Сколтеха, специалист по генетике растений
- СобеседникАгата Коровина, научный журналист
- Беседовалив декабре 2021 г.
— Вы занимаетесь генетикой растений; расскажите, чем они особенны?
— У многих растений невероятно большие геномы. Размер генома человека — примерно 3 миллиарда нуклеотидов, у растений он обычно в пять раз больше. Рекорд — 150 миллиардов нуклеотидов, это в 50 раз больше генома человека.
И, честно говоря, ничего хорошего в таком большом геноме нет. Там куча элементов, без которых можно было спокойно обойтись. По большей части подобный размер генома обеспечивают так называемые мобильные элементы, которые родственны вирусам, то есть это следы некой вирусной атаки, которую испытали на себе далекие предки этих организмов.
Мобильные элементы существуют полуавтономно — они находятся в геноме, могут активироваться, производить белки и свои генетические копии, которые в дальнейшем тоже будут встраиваться в геном, но, в общем, организму они не нужны.
— То есть это просто невычищенная информация?
— Фактически да. Но некоторые мобильные элементы могут быть полезны для человека. Если мобильный элемент встроится в ген, он ген убьет, и растение станет мутантом. Некоторые из таких мутантов нужны селекционерам. Например, у одного растения плоды опадающие, и это для нас плохо, потому что не позволяет нам эффективно собирать урожай. Если нарушить ген, который отвечает за опадение плодов, они, естественно, опадать перестанут. Это не очень хорошо для растения, но это хорошо для людей, которые хотят есть плоды этого растения.
— Мобильные элементы — это единственная причина, по которой геном растений увеличивается до неприличных размеров?
— Есть и другая. Помимо мобильных элементов, растения очень любят удваивать свою ДНК — это называется полногеномной дупликацией. Для животных это губительно. Человек или мышь, любое млекопитающее с таким удвоением, скорее всего, даже не успеет родиться, погибнет еще в пренатальном периоде, а если родится, жить будет плохо и недолго. Когда у человека появляется всего одна лишняя 21-я хромосома, ему диагностируют синдром Дауна. А тут полногеномная дупликация — когда каждая хромосома удваивается. Однако растения с полногеномной дупликацией, наоборот, становятся более живучими — с ней они могут лучше приспосабливаться к условиям окружающей среды. Например, одно из пяти самых распространенных растений на Земле — пастушья сумка. Она встречается на всех континентах и практически во всех климатических зонах. И этого пастушья сумка добилась с помощью полногеномной дупликации.
— У многих растений невероятно большие геномы. Размер генома человека — примерно 3 миллиарда нуклеотидов, у растений он обычно в пять раз больше. Рекорд — 150 миллиардов нуклеотидов, это в 50 раз больше генома человека.
И, честно говоря, ничего хорошего в таком большом геноме нет. Там куча элементов, без которых можно было спокойно обойтись. По большей части подобный размер генома обеспечивают так называемые мобильные элементы, которые родственны вирусам, то есть это следы некой вирусной атаки, которую испытали на себе далекие предки этих организмов.
Мобильные элементы существуют полуавтономно — они находятся в геноме, могут активироваться, производить белки и свои генетические копии, которые в дальнейшем тоже будут встраиваться в геном, но, в общем, организму они не нужны.
— То есть это просто невычищенная информация?
— Фактически да. Но некоторые мобильные элементы могут быть полезны для человека. Если мобильный элемент встроится в ген, он ген убьет, и растение станет мутантом. Некоторые из таких мутантов нужны селекционерам. Например, у одного растения плоды опадающие, и это для нас плохо, потому что не позволяет нам эффективно собирать урожай. Если нарушить ген, который отвечает за опадение плодов, они, естественно, опадать перестанут. Это не очень хорошо для растения, но это хорошо для людей, которые хотят есть плоды этого растения.
— Мобильные элементы — это единственная причина, по которой геном растений увеличивается до неприличных размеров?
— Есть и другая. Помимо мобильных элементов, растения очень любят удваивать свою ДНК — это называется полногеномной дупликацией. Для животных это губительно. Человек или мышь, любое млекопитающее с таким удвоением, скорее всего, даже не успеет родиться, погибнет еще в пренатальном периоде, а если родится, жить будет плохо и недолго. Когда у человека появляется всего одна лишняя 21-я хромосома, ему диагностируют синдром Дауна. А тут полногеномная дупликация — когда каждая хромосома удваивается. Однако растения с полногеномной дупликацией, наоборот, становятся более живучими — с ней они могут лучше приспосабливаться к условиям окружающей среды. Например, одно из пяти самых распространенных растений на Земле — пастушья сумка. Она встречается на всех континентах и практически во всех климатических зонах. И этого пастушья сумка добилась с помощью полногеномной дупликации.
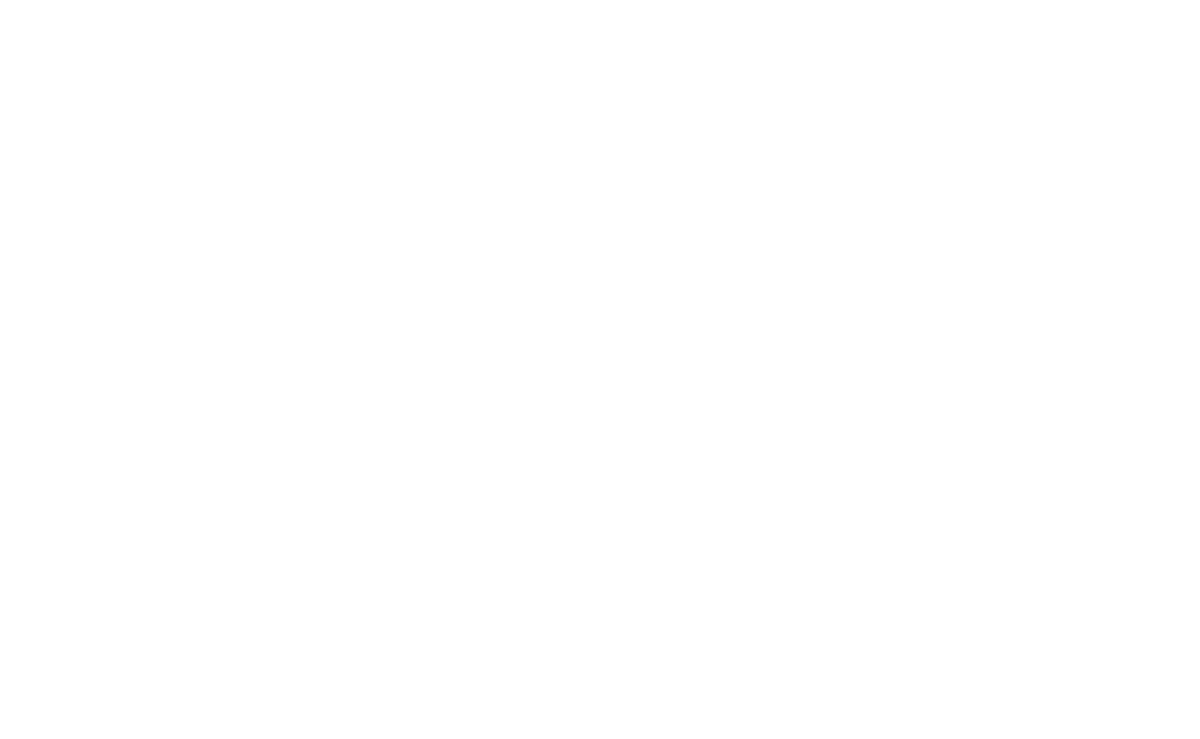
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— А может число генов, наоборот, уменьшаться?
— Да, такой процесс называется редуктивной эволюцией. Это очень распространено и у растений, и у животных-паразитов. Паразиты полностью или на протяжении каких-то стадий жизненного цикла зависят от своего хозяина, поэтому они могут спокойно избавиться от фрагментов генетических сетей, которые нужны свободноживущему организму. Так паразиты получают селективное преимущество — им не нужно тратить ресурсы на репликацию лишней ДНК, на экспрессию генов, на производство белков. Они как бы сбрасывают ненужный хлам и благодаря этому могут быстрее размножаться.
Еще пример. Когда люди думают о растениях, то чаще всего представляют что-то зеленое. Зеленое — это хлорофилл, хлорофилл — это фотосинтез. То есть для нас растение и фотосинтез — практически синонимы. Но в то же время есть растения, их около 1–3 %, которые избавились от фотосинтеза. Они живут либо за счет паразитизма на других растениях, прикрепляются к ним, внедряются в их проводящую систему и как бы высасывают питательные вещества, либо за счет симбиоза с грибами. И всего этого огромного количества генов, которые производят белки, необходимые для фотосинтеза, у них нет.
Благодаря этой способности они могут завоевывать места обитания, которые для нормальных фотосинтезирующих растений совершенно недоступны, потому что там темно. Но понятно, что это тупиковый путь, потому что, избавившись от такого сложного признака, вы его не вернете. То есть это билет в один конец.
— Вы изучаете геном гречихи — что вы пытаетесь выяснить и как эта информация поможет нам в будущем?
— Во-первых, он очень сложный. Я была бы рада не фокусироваться на нём так долго, но это в некотором смысле невозможно. Например, у всех ученых, занимающихся генетикой растений, есть модельный объект — Arabidopsis thaliana, его геном был опубликован более 20 лет назад, но он регулярно дополняется. Сейчас опубликована уже десятая версия этого генома — постоянно находятся какие-то небольшие ошибки или неточности. И так происходит с геномами всех растений. За раз идеально выстроить какой-либо геном невозможно.
По меркам растений, геном гречихи не очень большой, однако в геноме гречихи много мобильных элементов. Они недавние, а раз так — они друг на друга очень похожи. И это создает проблемы программам, которые собирают геном.
Почему вообще так трудно собрать геном? Если бы у нас была только уникальная последовательность, какой-то кусок, который встречается в геноме один раз, то было бы сильно проще. Но такого в природе нет. Вместо этого есть очень много последовательностей, которые выглядят совершенно одинаково, но при этом они находятся в разных местах генома. Сборщик пытается складывать эти кусочки, как пазл, и раз за разом останавливается. Представьте, что у вас в этом пазле много чего-то одинакового. Допустим, вы собираете небо, а на нем — облака, и эти облака совершенно одинаковые. И вы не знаете, что с чем соединить.
Когда сборщик сталкивается с такими «облаками», он должен либо разорвать сборку — и это будет честно, потому что мы не можем быть уверены, что это «облачко» должно быть именно в этом углу «неба», а не вот в том, — либо он может продолжать сборку, но тогда мы рискуем создать много ошибочных соединений. Во-вторых, мы изучаем геном гречихи, потому что гречиха очень интересна с точки зрения своего положения в системе цветковых растений. Она находится обособленно от других культур, которые много изучают, прежде всего злаки: пшеница, рожь, кукуруза, ячмень. Все эти злаки — близкие родственники. И когда мы что-то узнаём про одну из культур, мы автоматически переносим это знание и на ее родственников. А гречиха — она совсем далеко и ни к кому, кто хорошо изучен, не близка.
В-третьих, мы изучаем геном гречихи, потому что это очень важная для нашей страны культура. Вы могли это заметить: когда начался ковид, все сразу бросились покупать гречку.
— И чем лучше мы будем понимать устройство гречихи, тем эффективнее сможем ее совершенствовать?
— Да, потому что сейчас, с одной стороны, селекция гречихи у нас ведется очень активно, но, с другой стороны, селекция не основана на современных молекулярных методах, и это делает процесс более долгим и менее предсказуемым. А почему не используют? Потому что, собственно, о гречихе мы мало что знаем.
И в такой ситуации фактически единственное, что можно сделать, это скрещивать растения и смотреть на потомство, оценивать, в каком состоянии находится интересующий нас признак, и дальше с этим работать. А если мы узнаем молекулярную основу гречихи, то выяснять, каким будет растение, можно на гораздо более ранней стадии.
— А какая она — гречиха нашей мечты?
— Сначала надо сказать, что гречиха — это не пшеница, у которой один компактный колос, на котором цветки зацветают более-менее одновременно и семена формируются одновременно.
Гречиха — это высокое ветвящееся растение, период цветения которого очень растянут, из-за этого семена созревают недружно. И в какой бы момент вы ни собирали урожай, соберете, ну, процентов пять, не больше. Еще гречиха перекрестноопыляющаяся и насекомоопыляемая. С одной стороны, это здорово, потому что это дает нам мёд. С другой стороны, мы становимся зависимы от капризов погоды и пчел, а зависеть от этого не хотелось бы. Поэтому гречиха мечты должна быть обязательно самоопыляющаяся, невысокая, но крепкая, компактная и дружно созревающая.
Сейчас активно ведутся работы в этом направлении. Мы сотрудничаем с одной группой селекционеров Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур, и, я надеюсь, это принесет практический результат.
— Да, такой процесс называется редуктивной эволюцией. Это очень распространено и у растений, и у животных-паразитов. Паразиты полностью или на протяжении каких-то стадий жизненного цикла зависят от своего хозяина, поэтому они могут спокойно избавиться от фрагментов генетических сетей, которые нужны свободноживущему организму. Так паразиты получают селективное преимущество — им не нужно тратить ресурсы на репликацию лишней ДНК, на экспрессию генов, на производство белков. Они как бы сбрасывают ненужный хлам и благодаря этому могут быстрее размножаться.
Еще пример. Когда люди думают о растениях, то чаще всего представляют что-то зеленое. Зеленое — это хлорофилл, хлорофилл — это фотосинтез. То есть для нас растение и фотосинтез — практически синонимы. Но в то же время есть растения, их около 1–3 %, которые избавились от фотосинтеза. Они живут либо за счет паразитизма на других растениях, прикрепляются к ним, внедряются в их проводящую систему и как бы высасывают питательные вещества, либо за счет симбиоза с грибами. И всего этого огромного количества генов, которые производят белки, необходимые для фотосинтеза, у них нет.
Благодаря этой способности они могут завоевывать места обитания, которые для нормальных фотосинтезирующих растений совершенно недоступны, потому что там темно. Но понятно, что это тупиковый путь, потому что, избавившись от такого сложного признака, вы его не вернете. То есть это билет в один конец.
— Вы изучаете геном гречихи — что вы пытаетесь выяснить и как эта информация поможет нам в будущем?
— Во-первых, он очень сложный. Я была бы рада не фокусироваться на нём так долго, но это в некотором смысле невозможно. Например, у всех ученых, занимающихся генетикой растений, есть модельный объект — Arabidopsis thaliana, его геном был опубликован более 20 лет назад, но он регулярно дополняется. Сейчас опубликована уже десятая версия этого генома — постоянно находятся какие-то небольшие ошибки или неточности. И так происходит с геномами всех растений. За раз идеально выстроить какой-либо геном невозможно.
По меркам растений, геном гречихи не очень большой, однако в геноме гречихи много мобильных элементов. Они недавние, а раз так — они друг на друга очень похожи. И это создает проблемы программам, которые собирают геном.
Почему вообще так трудно собрать геном? Если бы у нас была только уникальная последовательность, какой-то кусок, который встречается в геноме один раз, то было бы сильно проще. Но такого в природе нет. Вместо этого есть очень много последовательностей, которые выглядят совершенно одинаково, но при этом они находятся в разных местах генома. Сборщик пытается складывать эти кусочки, как пазл, и раз за разом останавливается. Представьте, что у вас в этом пазле много чего-то одинакового. Допустим, вы собираете небо, а на нем — облака, и эти облака совершенно одинаковые. И вы не знаете, что с чем соединить.
Когда сборщик сталкивается с такими «облаками», он должен либо разорвать сборку — и это будет честно, потому что мы не можем быть уверены, что это «облачко» должно быть именно в этом углу «неба», а не вот в том, — либо он может продолжать сборку, но тогда мы рискуем создать много ошибочных соединений. Во-вторых, мы изучаем геном гречихи, потому что гречиха очень интересна с точки зрения своего положения в системе цветковых растений. Она находится обособленно от других культур, которые много изучают, прежде всего злаки: пшеница, рожь, кукуруза, ячмень. Все эти злаки — близкие родственники. И когда мы что-то узнаём про одну из культур, мы автоматически переносим это знание и на ее родственников. А гречиха — она совсем далеко и ни к кому, кто хорошо изучен, не близка.
В-третьих, мы изучаем геном гречихи, потому что это очень важная для нашей страны культура. Вы могли это заметить: когда начался ковид, все сразу бросились покупать гречку.
— И чем лучше мы будем понимать устройство гречихи, тем эффективнее сможем ее совершенствовать?
— Да, потому что сейчас, с одной стороны, селекция гречихи у нас ведется очень активно, но, с другой стороны, селекция не основана на современных молекулярных методах, и это делает процесс более долгим и менее предсказуемым. А почему не используют? Потому что, собственно, о гречихе мы мало что знаем.
И в такой ситуации фактически единственное, что можно сделать, это скрещивать растения и смотреть на потомство, оценивать, в каком состоянии находится интересующий нас признак, и дальше с этим работать. А если мы узнаем молекулярную основу гречихи, то выяснять, каким будет растение, можно на гораздо более ранней стадии.
— А какая она — гречиха нашей мечты?
— Сначала надо сказать, что гречиха — это не пшеница, у которой один компактный колос, на котором цветки зацветают более-менее одновременно и семена формируются одновременно.
Гречиха — это высокое ветвящееся растение, период цветения которого очень растянут, из-за этого семена созревают недружно. И в какой бы момент вы ни собирали урожай, соберете, ну, процентов пять, не больше. Еще гречиха перекрестноопыляющаяся и насекомоопыляемая. С одной стороны, это здорово, потому что это дает нам мёд. С другой стороны, мы становимся зависимы от капризов погоды и пчел, а зависеть от этого не хотелось бы. Поэтому гречиха мечты должна быть обязательно самоопыляющаяся, невысокая, но крепкая, компактная и дружно созревающая.
Сейчас активно ведутся работы в этом направлении. Мы сотрудничаем с одной группой селекционеров Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур, и, я надеюсь, это принесет практический результат.
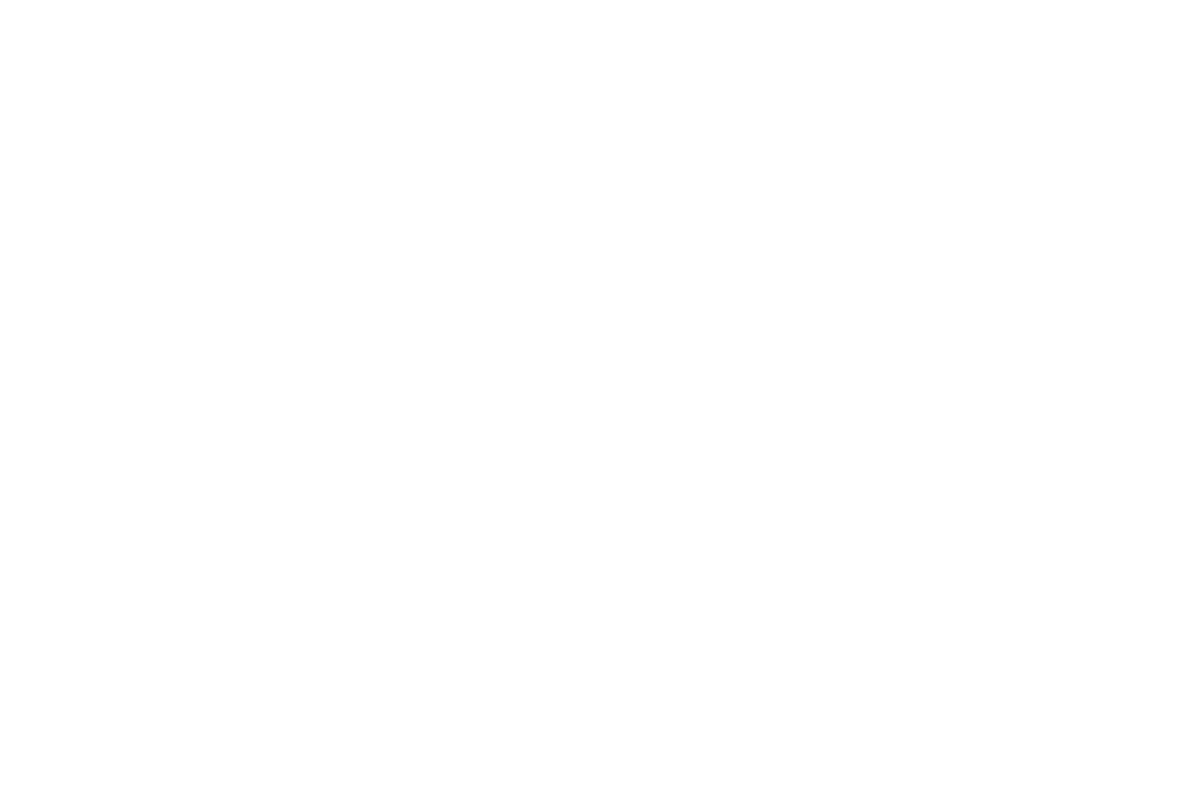
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— До этого мы говорили про растения, которые не прибегают к фотосинтезу. Можем ли мы усовершенствовать геном гречихи, чтобы выращивать ее где-нибудь в подполе, допустим?
— Быть нефотосинтезирующим растением не очень хорошо. С одной стороны, конечно, это неплохо — вам не нужен свет, с другой стороны, проблема же никуда не девается: энергия нужна, просто для большинства растений источником энергии является свет, а для нефотосинтезирующих — другие растения или грибы. И тогда нам будет нужно растение, или нужны будут грибы, или что-то другое как внешний источник энергии.
Кроме того, большинство нефотосинтезирующих растений маленькие, потому что на паразитизме большую биомассу не нарастить. Семян у них много, но они мелкие и пылевидные.
— Что самого важного произошло в вашей сфере за последние годы?
— Расшифровка генома человека — но важно это по особой причине. Раньше история была такая: у нас есть какой-то вид, который нас интересует, например дрозофилы, Arabidopsis или человек, — давайте мы для него получим геномную последовательность, это будет большое и важное достижение. В 2003 году опубликовали геном человека, и одним из самых неожиданных выводов стало то, что, в общем-то, по нему нельзя сделать никаких выводов, которые хотелось бы сделать. Это просто база, такой референс, в который надо добавлять знания об активности генов (профиль экспрессии) в разных тканях, органах, на разных стадиях развития, о разнообразии, — потому что отличия, даже в доли процента, очень важны.
Секвенировали геном белые европейцы, и они взяли геном белых европейцев, а помимо них на планете живет много других людей. Геномы людей могут отличаться по числу генов, их составу, по деталям регуляции.
И всё это сейчас активно изучается. То есть ученые стремятся расширять выборки в пределах одного вида. Глобальный тренд — расширение знаний на основе уже существующих знаний.
— Быть нефотосинтезирующим растением не очень хорошо. С одной стороны, конечно, это неплохо — вам не нужен свет, с другой стороны, проблема же никуда не девается: энергия нужна, просто для большинства растений источником энергии является свет, а для нефотосинтезирующих — другие растения или грибы. И тогда нам будет нужно растение, или нужны будут грибы, или что-то другое как внешний источник энергии.
Кроме того, большинство нефотосинтезирующих растений маленькие, потому что на паразитизме большую биомассу не нарастить. Семян у них много, но они мелкие и пылевидные.
— Что самого важного произошло в вашей сфере за последние годы?
— Расшифровка генома человека — но важно это по особой причине. Раньше история была такая: у нас есть какой-то вид, который нас интересует, например дрозофилы, Arabidopsis или человек, — давайте мы для него получим геномную последовательность, это будет большое и важное достижение. В 2003 году опубликовали геном человека, и одним из самых неожиданных выводов стало то, что, в общем-то, по нему нельзя сделать никаких выводов, которые хотелось бы сделать. Это просто база, такой референс, в который надо добавлять знания об активности генов (профиль экспрессии) в разных тканях, органах, на разных стадиях развития, о разнообразии, — потому что отличия, даже в доли процента, очень важны.
Секвенировали геном белые европейцы, и они взяли геном белых европейцев, а помимо них на планете живет много других людей. Геномы людей могут отличаться по числу генов, их составу, по деталям регуляции.
И всё это сейчас активно изучается. То есть ученые стремятся расширять выборки в пределах одного вида. Глобальный тренд — расширение знаний на основе уже существующих знаний.
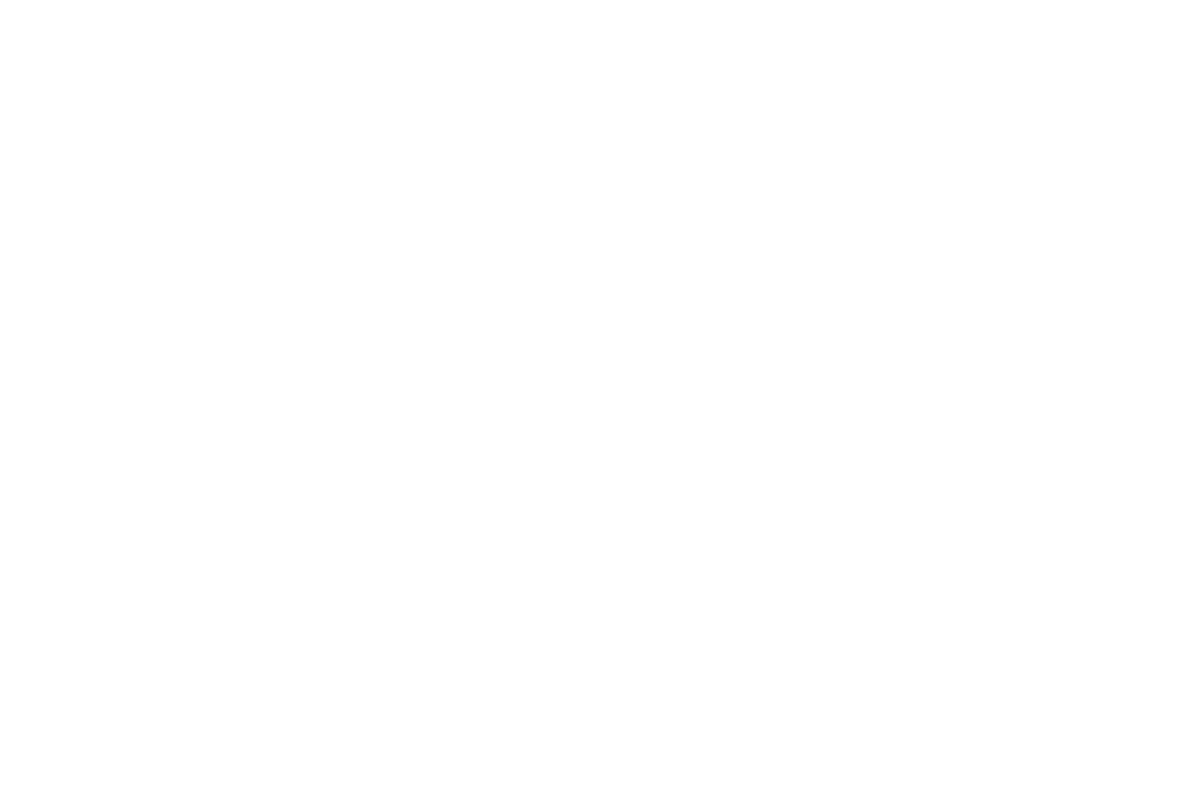
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— На стыке молекулярной биологии и ботаники это тоже прослеживается?
— Да. Раньше — определили последовательность интересующего нас вида, написали статью в Nature — и это было достижение. А сейчас ученые стараются выбирать контрастные по какому-то признаку группы. Например, если говорить про культурные злаки, многие из них различаются по времени зацветания. Некоторым (так называемым озимым) требуется период холодного времени: они переживают зиму и после этого прорастают и зацветают. А некоторые можно сеять весной, и они нормально будут развиваться и зацветать. Для того чтобы лучше понимать, как это контролируется, надо сравнить эти две контрастные группы.
Если мы возьмем только одну из них, то мы, скорее всего, ничего не поймем — ну, только если нам не повезло невероятно, что какая-то наша гипотеза подтвердилась. Если этого нет, то тогда надо изучать больше видов, отличающихся по какому-то интересующему нас признаку. Например, некоторые виды способны переносить экстремальные стрессовые условия, допустим, высокий уровень засоления почвы, а другие — нет. Сравнивая их, можно понять, почему те, которые переносят экстремальные условия, на это способны, благодаря каким генам, особенностям их активности. И дальше это можно переносить в другие виды за счет генетической модификации.
Это довольно сложный и долгий процесс, потому что растений около 300 тысяч видов, и каждый из них чем-то отличается. Они отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем, скажем, человек отличается от мыши. И то, что сработает для одного, не факт, что сработает для другого. Скорее всего, точно не сработает, потому что у многих растений свои особенности размножения, своя структура соцветия, своя способность к регенерации.
— Да. Раньше — определили последовательность интересующего нас вида, написали статью в Nature — и это было достижение. А сейчас ученые стараются выбирать контрастные по какому-то признаку группы. Например, если говорить про культурные злаки, многие из них различаются по времени зацветания. Некоторым (так называемым озимым) требуется период холодного времени: они переживают зиму и после этого прорастают и зацветают. А некоторые можно сеять весной, и они нормально будут развиваться и зацветать. Для того чтобы лучше понимать, как это контролируется, надо сравнить эти две контрастные группы.
Если мы возьмем только одну из них, то мы, скорее всего, ничего не поймем — ну, только если нам не повезло невероятно, что какая-то наша гипотеза подтвердилась. Если этого нет, то тогда надо изучать больше видов, отличающихся по какому-то интересующему нас признаку. Например, некоторые виды способны переносить экстремальные стрессовые условия, допустим, высокий уровень засоления почвы, а другие — нет. Сравнивая их, можно понять, почему те, которые переносят экстремальные условия, на это способны, благодаря каким генам, особенностям их активности. И дальше это можно переносить в другие виды за счет генетической модификации.
Это довольно сложный и долгий процесс, потому что растений около 300 тысяч видов, и каждый из них чем-то отличается. Они отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем, скажем, человек отличается от мыши. И то, что сработает для одного, не факт, что сработает для другого. Скорее всего, точно не сработает, потому что у многих растений свои особенности размножения, своя структура соцветия, своя способность к регенерации.
— Значит, общий мировой тренд на стыке молекулярной биологии и ботаники — это сравнивать разные виды растений?
— Ну и персонализация.
Есть такая концепция — пангеном. Раньше ученые мыслили так: давайте определим геном — и будет нам счастье. А сейчас они говорят, что, во-первых, есть не только геном, есть еще и транскриптом, — он показывает уровень активности генов. Часть генов работает на протяжении всей жизни, часть включается только в строго определенное время и запускает процессы, которые нужны в эти периоды. Например, увеличивается длина дня — и что-то там щелкает, некий переключатель, и запускаются гены, которые приводят к зацветанию растения. Чтобы понять, как это происходит, нам нужна детальная карта активности генов в течение разных стадий жизни разных органов организма. Помимо этого, в пределах каждого вида есть большое разнообразие строения генома.
И составление такой полной, детальной картины, сопоставление геномов разных организмов — это то, что называется пангеном.
И это сейчас преобладающая концепция, она пронизывает все области науки. Строятся пангеномы бактерий, пангеномы ячменя, пангеномы пшеницы. По животным тоже, естественно, много таких работ.
— А на какие работы ваших отечественных и зарубежных коллег стоит обратить внимание сейчас?
— Если говорить именно про геномику, тем более пангеномы, то тут, что называется, бог на стороне больших батальонов. В этой области работают большие консорциумы, в которых вклад индивидуальных авторов может быть не столь различим. Но я бы отметила работы коллег из лаборатории Павла Певзнера. Он со своей командой создал геномный сборщик — SPAdes, который развивает, приспосабливает под новые технологии. Многие важные работы по получению новых геномных последовательностей или по пангеномному сопоставлению, по сопоставлению многих геномов в пределах одного вида, по технической дошлифовке, улучшению уже существующих референсных последовательностей — это как раз работы с его участием или работы его учеников и сотрудников.
— Если мы перенесемся на несколько десятилетий вперед, что человечество сможет делать с помощью молекулярной биологии в медицине?
— Здесь, конечно, очевидный ответ, который дают все, и мне тоже этого не избежать — будет широко применяться геномное редактирование. Потенциально это дает возможность делать вещи, которые казались до недавнего времени невероятными, а именно — лечить наследственные заболевания. То есть мы можем отредактировать какой-то нуклеотид, который вызывает неблагоприятное состояние, и сделать нормальный вариант гена. Это потенциально, сейчас же, к сожалению, к применению этой технологии в терапевтических целях для людей есть масса препятствий.
Во-первых, сложно доставлять редактирующую систему внутрь конкретной клетки. Система состоит из белка и РНК: белок разрезает ДНК, а РНК как бы указывает этому белку, в каком месте надо ДНК разрезать. Всё это звучит просто, но для того, чтобы эта система заработала, нужно ее доставить в ядро. А ядро в клетке. И если мы говорим про человека, который родился, то, понятно, мы не можем отредактировать все его клетки.
А вторая проблема связана с точностью — могут возникать не только те изменения, которые мы хотим внести, но и какие-то побочные. И произойдет то, что называется «лекарство хуже болезни». Хотя, конечно, это всё будет улучшаться, хотелось бы пожелать коллегам, которые этим занимаются, удачи. Уверена, они смогут развить эту технологию. Но, думаю, на такую процедуру пойдут те люди, у которых альтернатива еще хуже.
— Ну и персонализация.
Есть такая концепция — пангеном. Раньше ученые мыслили так: давайте определим геном — и будет нам счастье. А сейчас они говорят, что, во-первых, есть не только геном, есть еще и транскриптом, — он показывает уровень активности генов. Часть генов работает на протяжении всей жизни, часть включается только в строго определенное время и запускает процессы, которые нужны в эти периоды. Например, увеличивается длина дня — и что-то там щелкает, некий переключатель, и запускаются гены, которые приводят к зацветанию растения. Чтобы понять, как это происходит, нам нужна детальная карта активности генов в течение разных стадий жизни разных органов организма. Помимо этого, в пределах каждого вида есть большое разнообразие строения генома.
И составление такой полной, детальной картины, сопоставление геномов разных организмов — это то, что называется пангеном.
И это сейчас преобладающая концепция, она пронизывает все области науки. Строятся пангеномы бактерий, пангеномы ячменя, пангеномы пшеницы. По животным тоже, естественно, много таких работ.
— А на какие работы ваших отечественных и зарубежных коллег стоит обратить внимание сейчас?
— Если говорить именно про геномику, тем более пангеномы, то тут, что называется, бог на стороне больших батальонов. В этой области работают большие консорциумы, в которых вклад индивидуальных авторов может быть не столь различим. Но я бы отметила работы коллег из лаборатории Павла Певзнера. Он со своей командой создал геномный сборщик — SPAdes, который развивает, приспосабливает под новые технологии. Многие важные работы по получению новых геномных последовательностей или по пангеномному сопоставлению, по сопоставлению многих геномов в пределах одного вида, по технической дошлифовке, улучшению уже существующих референсных последовательностей — это как раз работы с его участием или работы его учеников и сотрудников.
— Если мы перенесемся на несколько десятилетий вперед, что человечество сможет делать с помощью молекулярной биологии в медицине?
— Здесь, конечно, очевидный ответ, который дают все, и мне тоже этого не избежать — будет широко применяться геномное редактирование. Потенциально это дает возможность делать вещи, которые казались до недавнего времени невероятными, а именно — лечить наследственные заболевания. То есть мы можем отредактировать какой-то нуклеотид, который вызывает неблагоприятное состояние, и сделать нормальный вариант гена. Это потенциально, сейчас же, к сожалению, к применению этой технологии в терапевтических целях для людей есть масса препятствий.
Во-первых, сложно доставлять редактирующую систему внутрь конкретной клетки. Система состоит из белка и РНК: белок разрезает ДНК, а РНК как бы указывает этому белку, в каком месте надо ДНК разрезать. Всё это звучит просто, но для того, чтобы эта система заработала, нужно ее доставить в ядро. А ядро в клетке. И если мы говорим про человека, который родился, то, понятно, мы не можем отредактировать все его клетки.
А вторая проблема связана с точностью — могут возникать не только те изменения, которые мы хотим внести, но и какие-то побочные. И произойдет то, что называется «лекарство хуже болезни». Хотя, конечно, это всё будет улучшаться, хотелось бы пожелать коллегам, которые этим занимаются, удачи. Уверена, они смогут развить эту технологию. Но, думаю, на такую процедуру пойдут те люди, у которых альтернатива еще хуже.
— Но с растениями ведь проще. Каковы перспективы этих технологий в сельском хозяйстве?
— С растениями всё гораздо лучше, потому что здесь точно не будет возражать этический комитет, и правительство не посадит вас в тюрьму за ваши эксперименты. По большому счёту нас не очень волнует, что с растениями может случиться что-то неблагоприятное. А если мы в поисках нужного признака затронем другие, это, по крайней мере, не так критично, как в случае человека.
Поэтому — да, эта технология дает большие надежды. И высока вероятность, что такая технология будет позитивно воспринята обществом. Мы все знаем, что многие люди не любят ГМО. Сколько ни говори, что это всё безопасно, ну вот не нравится людям, когда какие-то чужеродные гены внедряют в геном той же самой родной гречихи, или пшеницы, или еще чего-то.
Новая технология позволяет не добавлять никаких искусственных конструкций, никаких генов из вируса или бактерии — только вносить изменения, аналогичные изменениям, которые постоянно происходят в ходе эволюции. Генетическое редактирование может показаться людям более естественным ходом вещей.
Спектр того, что можно поменять, очень большой. Но самое простое, что можно сделать, это просто отключить какой-то ген, скажем, тот, который определяет осыпание семян. В отдельных случаях можно, наоборот, активировать ген, придать ему больший уровень экспрессии, больший уровень активности. Так можно даже придавать растениям устойчивость к антибиотикам без всякого внедрения тяжеловесных чужеродных конструкций.
Единственное — это технически сложно. Ближайшие 2 года мы будем разрабатывать один лишь протокол такого редактирования. Это первая стадия: мы создадим методику, которая позволит другим ученым работать с интересующими их генами. Другими словами, наша цель сейчас не сделать какой-то конкретный продукт, который давал бы больше урожая, а просто показать путь — как такой продукт можно сделать.
— Мы поговорили о том, что геном полон каких-то ненужных частей, ошибок, столько всего. Есть мнение, что эволюция работает, как пьяный сантехник: система не разваливается — и ладно. Получается, это правда?
— Вы имеете в виду, что многие структуры и механизмы функционирования, которые возникают в результате эволюции, неоптимальны? Да, действительно, это так. Если прибегать к смешным сравнениям, то можно вспомнить анекдот про двух людей, которые убегают от медведя, и важно бежать не быстрее медведя, а быстрее товарища. Для того чтобы быть эволюционно успешным, не надо быть самым успешным. Надо быть лучше своих конкурентов. Это и происходит.
— С растениями всё гораздо лучше, потому что здесь точно не будет возражать этический комитет, и правительство не посадит вас в тюрьму за ваши эксперименты. По большому счёту нас не очень волнует, что с растениями может случиться что-то неблагоприятное. А если мы в поисках нужного признака затронем другие, это, по крайней мере, не так критично, как в случае человека.
Поэтому — да, эта технология дает большие надежды. И высока вероятность, что такая технология будет позитивно воспринята обществом. Мы все знаем, что многие люди не любят ГМО. Сколько ни говори, что это всё безопасно, ну вот не нравится людям, когда какие-то чужеродные гены внедряют в геном той же самой родной гречихи, или пшеницы, или еще чего-то.
Новая технология позволяет не добавлять никаких искусственных конструкций, никаких генов из вируса или бактерии — только вносить изменения, аналогичные изменениям, которые постоянно происходят в ходе эволюции. Генетическое редактирование может показаться людям более естественным ходом вещей.
Спектр того, что можно поменять, очень большой. Но самое простое, что можно сделать, это просто отключить какой-то ген, скажем, тот, который определяет осыпание семян. В отдельных случаях можно, наоборот, активировать ген, придать ему больший уровень экспрессии, больший уровень активности. Так можно даже придавать растениям устойчивость к антибиотикам без всякого внедрения тяжеловесных чужеродных конструкций.
Единственное — это технически сложно. Ближайшие 2 года мы будем разрабатывать один лишь протокол такого редактирования. Это первая стадия: мы создадим методику, которая позволит другим ученым работать с интересующими их генами. Другими словами, наша цель сейчас не сделать какой-то конкретный продукт, который давал бы больше урожая, а просто показать путь — как такой продукт можно сделать.
— Мы поговорили о том, что геном полон каких-то ненужных частей, ошибок, столько всего. Есть мнение, что эволюция работает, как пьяный сантехник: система не разваливается — и ладно. Получается, это правда?
— Вы имеете в виду, что многие структуры и механизмы функционирования, которые возникают в результате эволюции, неоптимальны? Да, действительно, это так. Если прибегать к смешным сравнениям, то можно вспомнить анекдот про двух людей, которые убегают от медведя, и важно бежать не быстрее медведя, а быстрее товарища. Для того чтобы быть эволюционно успешным, не надо быть самым успешным. Надо быть лучше своих конкурентов. Это и происходит.
Интервью впервые опубликовано на портале «Биомолекула» 24.05.2022
