РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Александр Марков и Елена Наймарк
Палеонтология как семейный подряд
Палеонтология как семейный подряд
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Александр Марков и Елена Наймарк
Палеонтология как семейный подряд
Палеонтология как семейный подряд
- Разговоро том, как двум палеонтологам живется под одной крышей, где возникают научные закрытия, как современные молекулярные методы уживаются с классической лабораторной наукой и что общего у математических и биологических теорий
- ГеройАлександр Марков, доктор биологических наук, профессор РАН;
Елена Наймарк, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН - СобеседникЕгор Быковский, научный журналист
- Беседовалив июне 2022 г.
— Александр Марков
— Елена Наймарк
— Елена Наймарк
— Что вам нравится делать вдвоем?
— Мы очень любим сидеть на балконе и пить чай, кофе.
— В ту сторону у нас виден Кремль и «золотые мозги» Академии наук. Вон на Ленинском проспекте. Могу даже в бинокль показать с этого балкона. А вот туда видно Сокольники, там — Останкинская башня.
— А по утрам за завтраком мы любим ссориться, бросая друг в друга пробирками.
— На кухне у нас прямо такие научные баталии, до драк, до обид.
— Откуда вы берёте пробирки на этой кухне? У вас дома есть лаборатория?
— Ну какие-то пробирки есть.
— Мы таскаем всё время что-то свое.
— Мухи, наверное, есть сейчас живые на подоконнике. У Ленки трихоплаксы вечно плавают.
— Чего только не плавает. Есть еще засушенные скорпионы. В общем, нам есть чем побросаться друг в друга.
— Постойте, я на самом деле совсем не с этого хотел начать! Я готовился к интервью и начал себе выписывать: Александр Владимирович Марков. Доктор биологических наук, палеонтолог, ведущий научный сотрудник Палеонтологического музея, лауреат главной в России премии в области научно-популярной литературы, лауреат премии «За верность науке», внес вклад в развитие общей теории биологической макроэволюции, математического моделирования макроэволюционных процессов.
Автор 200 научных публикаций, множества научно-популярных публикаций, в том числе известных книг, в которых вы соавторы вместе с Еленой Наймарк, у которой тоже 100 публикаций или что-то в этом роде, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь. И вы еще авторы сайта Elementy.ru. Вы оба основатели портала «Проблемы эволюции». В общем, я всё это прочитал и думаю: ну когда же вы всё это успеваете? Наверняка у вас есть какой-то секрет, и сейчас я его узнаю и воспользуюсь им потом для себя.
— Ну поскольку Ленка молчит, я тогда начну. Ленка действительно гиперактивная, она может делать сто дел одновременно и постоянно этим занимается. У нее куча проектов, и всё нужное, всё интересное. Она как такой очень мирный танк. Так что когда Ленка всё успевает — это меня совершенно не удивляет. А я наоборот, я как-то не могу несколько дел одновременно, меня такие ситуации ужасно демотивируют. Я вообще не знаю, вы там зачитали всё про какие-то старые заслуги. Не моя нынешняя жизнь, а в молодости что-то успел.
— Я вмешаюсь, я вмешаюсь. Это не так, потому что Саша всё делает удивительным образом. Он сначала долго всё обдумывает. У него уходит на обдумывание какого-то проекта и вообще всего, чего он хочет, некоторое время. Кажется, что он в это время ничего не делает. Но на самом деле это не так! Он обдумывает проблему со всех сторон, мысленно выбирает путь, наикратчайший и самый эффективный. И вдруг!.. Начинает действовать. Это происходит как будто бы вдруг, но на самом деле я знаю, что этому предшествовало очень внимательное обдумывание, довольно долгое. Но когда он всё обдумает, сфокусируется на своей собственной проблеме, он буквально как стрела.
У него всегда всё получается, потому что этому делу предшествовало осмысление очень тщательное со всех сторон. И поэтому все его действия очень эффективные. Вот это секрет Александра. Мой секрет, конечно, совершенно в другом, потому что мне сразу всего хочется, мне сразу всё интересно. И я как…
— Как Наполеон.
— Как картечь: куда-нибудь да попаду.
— Мы очень любим сидеть на балконе и пить чай, кофе.
— В ту сторону у нас виден Кремль и «золотые мозги» Академии наук. Вон на Ленинском проспекте. Могу даже в бинокль показать с этого балкона. А вот туда видно Сокольники, там — Останкинская башня.
— А по утрам за завтраком мы любим ссориться, бросая друг в друга пробирками.
— На кухне у нас прямо такие научные баталии, до драк, до обид.
— Откуда вы берёте пробирки на этой кухне? У вас дома есть лаборатория?
— Ну какие-то пробирки есть.
— Мы таскаем всё время что-то свое.
— Мухи, наверное, есть сейчас живые на подоконнике. У Ленки трихоплаксы вечно плавают.
— Чего только не плавает. Есть еще засушенные скорпионы. В общем, нам есть чем побросаться друг в друга.
— Постойте, я на самом деле совсем не с этого хотел начать! Я готовился к интервью и начал себе выписывать: Александр Владимирович Марков. Доктор биологических наук, палеонтолог, ведущий научный сотрудник Палеонтологического музея, лауреат главной в России премии в области научно-популярной литературы, лауреат премии «За верность науке», внес вклад в развитие общей теории биологической макроэволюции, математического моделирования макроэволюционных процессов.
Автор 200 научных публикаций, множества научно-популярных публикаций, в том числе известных книг, в которых вы соавторы вместе с Еленой Наймарк, у которой тоже 100 публикаций или что-то в этом роде, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь. И вы еще авторы сайта Elementy.ru. Вы оба основатели портала «Проблемы эволюции». В общем, я всё это прочитал и думаю: ну когда же вы всё это успеваете? Наверняка у вас есть какой-то секрет, и сейчас я его узнаю и воспользуюсь им потом для себя.
— Ну поскольку Ленка молчит, я тогда начну. Ленка действительно гиперактивная, она может делать сто дел одновременно и постоянно этим занимается. У нее куча проектов, и всё нужное, всё интересное. Она как такой очень мирный танк. Так что когда Ленка всё успевает — это меня совершенно не удивляет. А я наоборот, я как-то не могу несколько дел одновременно, меня такие ситуации ужасно демотивируют. Я вообще не знаю, вы там зачитали всё про какие-то старые заслуги. Не моя нынешняя жизнь, а в молодости что-то успел.
— Я вмешаюсь, я вмешаюсь. Это не так, потому что Саша всё делает удивительным образом. Он сначала долго всё обдумывает. У него уходит на обдумывание какого-то проекта и вообще всего, чего он хочет, некоторое время. Кажется, что он в это время ничего не делает. Но на самом деле это не так! Он обдумывает проблему со всех сторон, мысленно выбирает путь, наикратчайший и самый эффективный. И вдруг!.. Начинает действовать. Это происходит как будто бы вдруг, но на самом деле я знаю, что этому предшествовало очень внимательное обдумывание, довольно долгое. Но когда он всё обдумает, сфокусируется на своей собственной проблеме, он буквально как стрела.
У него всегда всё получается, потому что этому делу предшествовало осмысление очень тщательное со всех сторон. И поэтому все его действия очень эффективные. Вот это секрет Александра. Мой секрет, конечно, совершенно в другом, потому что мне сразу всего хочется, мне сразу всё интересно. И я как…
— Как Наполеон.
— Как картечь: куда-нибудь да попаду.
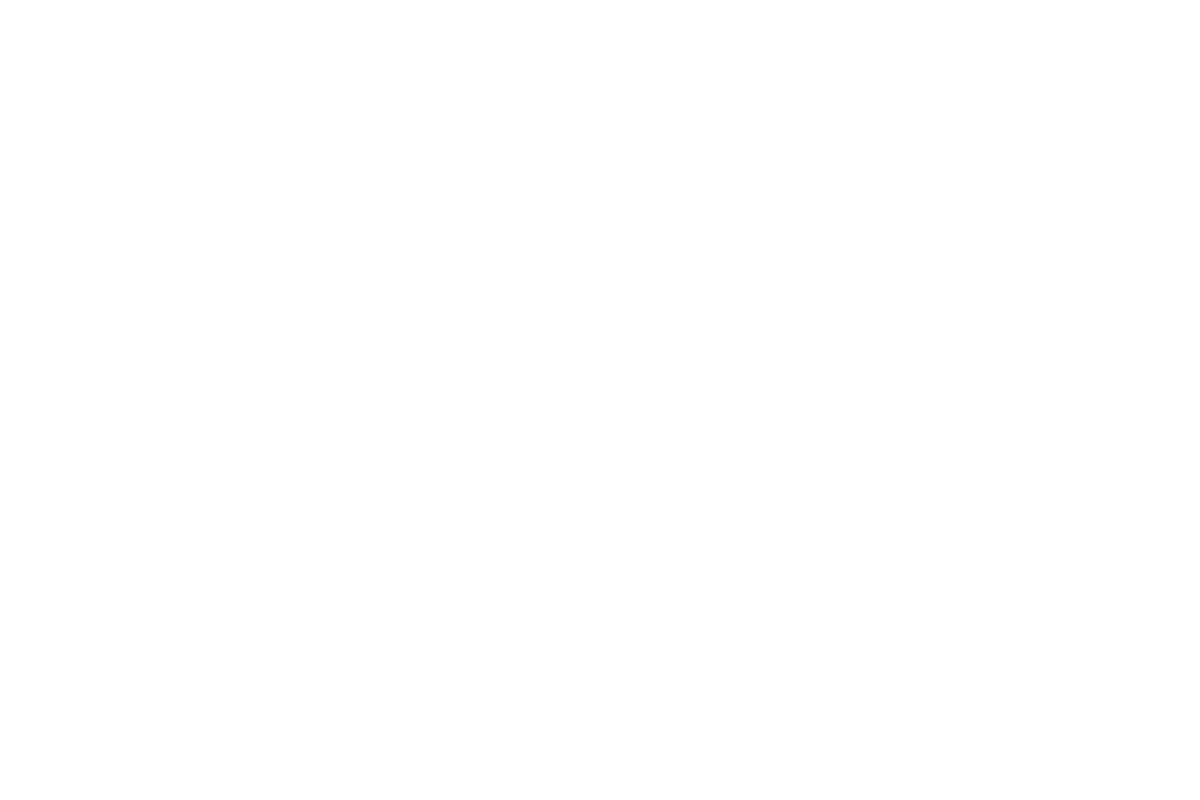
Фотограф: Надежда Андреенко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Это ж наполеоновское «Сначала ввяжемся в бой, а там будет видно», да?
— Ну я ввязываюсь во много боев разом. У меня сейчас идет по крайней мере три проекта, ужасно интересных. Если б я была Александром, я бы сфокусировалась на одном, и очень внимательно. Поэтому мы действуем абсолютно по-разному. Но, наверное, дополняем друг друга в какой-то степени.
— Постойте, как это только один? Вы же оба наверняка еще пишете книгу, помимо прочего. Я читал в вашем интервью пару лет назад, кажется, что вы обещали книжку про палеонтологию.
— Это было очень давно, я уже забыл даже про это.
— Нет, у меня это есть в голове, но так много всего научного идет в текущий момент, что руки не доходят…
— На самом деле прекрасную книгу, по-настоящему хорошую книгу по палеонтологии беспозвоночных издал недавно наш коллега и друг профессор Андрей Журавлёв. И она настолько хороша, что я ее почитал и решил, что нет смысла нам тоже это делать.
— Я думал, что вы собираетесь пошире тему взять, потому что палеонтология беспозвоночных — это же не вся палеонтология, которая есть на свете?
— Ну в палеонтологии позвоночных мы совсем не разбираемся. Мы как раз в беспозвоночных хоть чего-то можем.
— Мы опасаемся писать на темы, в которых мы плохо разбираемся
— Динозавры — это не наше.
— Вероятность того, что мы попадем впросак, равняется 100 %.
— А давайте тогда поговорим как раз о том, какие ваши темы. Когда-то давно у вас были морские ежи, я хорошо помню. У вас была сельдь с навагой в кандидатской, верно? А сейчас?
— Не знаю, с чего начать. Это будет длинный список, если перечислить все темы, по которым я, например, публиковал научные статьи. А еще есть темы, над которыми я много думал, они мне страшно интересны, но я по ним ничего не публиковал.
— Меня интересует скорее алгоритм, как вы переходите от одной темы к другой.
— У меня вынужденно широкий кругозор. Сначала, лет до 35, он был узкий, чисто палеонтология, Палеонтологический институт и круг идей, которые бултыхались в этом нашем очень узком кружочке. Потом, в начале 2000-х годов, мне неожиданно пришлось познакомиться по работе со всякой молекулярной биологией, генетикой, со всякими белками, ферментами, генами, чего я до этого вообще не знал, и это расширило мой кругозор сильно. После этого я стал заниматься популяризацией науки, тоже в начале 2000-х, — и писать книжки, потом стал читать лекции, потом, в 2014 году, позвали на биофак. И там я читаю курс эволюционной биологии, теории эволюции для всего потока. Соответственно, приходится всё время обдумывать все аспекты эволюционной биологии, готовя эти лекции, каждый год их обновляя.
И время от времени по поводу какогонибудь вопроса мне приходят мысли: о, а вот тут интересно, может быть, какая-нибудь гипотеза возникает. И можно ж ее проверить! То есть одновременно и идея, и представление о том, как ее реализовать. И я могу этим заняться.
— А насколько это просто? Ведь есть ученые, которые сидят всю жизнь на одной теме и знают ее досконально вдоль и поперек. И это, может быть, даже не очень хорошо.
— И они становятся догматиками часто.
— Такое случается, но тем не менее тему свою они знают. И вдруг приходит какой-то новый человек сбоку, который ее не знает так же хорошо. Насколько просто входить в новое, если ты там не просидел всю жизнь?
— Очень трудно! У меня сейчас идет неожиданная тема, чрезвычайно любопытная. Это мне несколько лет назад позвонили из Иркутска и сказали, что ребята нашли каких-то странных животных, которых они хотели бы мне прислать. И прислали. В прошлом году у меня наконец дошли руки посмотреть, что это такое. Оказалось, когда я стала смотреть внимательнее, что это предки ракоскорпионов, о которых я не знала ничего. Я их видела только на картинке. Пришлось входить в новую тему, просто потому что у меня был этот материал, значение которого я очень хорошо поняла. Это ведь ко мне попали самые первые хелицеровые, какие только вообще есть на планете. Вот они у меня лежат. Что делать? Я ничего не знаю про них. Я знаю вокруг, я знаю про кембрий, я знаю про членистоногих вообще. Но есть специалисты по ракоскорпионам, которые занимаются ими всю жизнь. И у них публикация за публикацией идет, с какими-то детальными подробностями: какие у них ножки, какие у них усики, как у них всё устроено… И вот еще один фрагмент усика мы нашли, ура!
А вот дышать они могли так, а питаться они могли этак. В общем, всё до тонкостей. Мне пришлось входить в эту тему абсолютно, полностью с нуля, самой. С одной стороны, это хорошо, потому что я думала, что хотела. Но с другой стороны, боже, как же мне не хватало их знаний! Как же мне хотелось, чтобы рядом сидел кто-то, кто мне сказал бы: это ты видишь то, а это ты видишь усик, а это ты видишь, вот здесь, вторую пластинку от четвертого тергита.
— Но, слава богу, никто не сидел на самом деле. Потому что предшественники ошибались, а Ленка нашла.
— Круто! А почему вы в тот момент, когда вы понимаете, что это что-то интересное, но не ваша тема, не отправляете это специалистам?
— Это вот как бывает: у нас в Палеонтологическом институте и вообще у нас в стране был всего один специалист по этим животным. К сожалению, он умер. Тогда я написала своим коллегам из Германии, которые сказали: да, конечно, очень интересные звери, мы тебе поможем, но сделай сначала описание на английском языке. Но чтобы сделать описание, нужно уже понимать, что ты видишь. А я не понимала. Поэтому получился вот такой замкнутый круг, и мне пришлось разобраться самой. И к тому времени, как я разобралась сама, немецкие коллеги мне уже были не нужны. А у нас в стране специалистов по ракоскорпионам нет.
— Минуточку — теперь есть, видимо.
— Теперь есть.
— Это Chasmataspidida, скорее предки ракоскорпионов. На свете, наверное, всего человек десять, которые знают, кто это такие.
— Вот пример, как приходится вот таким вот образом влезать в новое. А что делать? А еще для нового кураж нужен. Если куража нет, то никакой науки не будет в принципе.
— Вот Елене кто-то прислал что-то, она на это набросилась и освоила и стала одним из десяти специалистов на свете по теме. А у вас как, Александр? Примерно так же?
— Меня, конечно, бросает с темы на тему. Приятнее всего заниматься теоретизированием с помощью компьютерного моделирования. Вот просто приходит вам в голову какая-то эволюционная идея, что, например, как могли, из каких предпосылок и почему появиться митоз, мейоз и половое размножение. Происхождение эукариот. И начинаешь эту идею копать. Материала фактического всё равно нет и не будет. Начинаешь просто саму эту эволюционную идею проверять с помощью компьютерного моделирования. Несколько таких работ у меня есть. Мне это очень нравится. В соавторстве с хорошим программистом я обычно это делаю. Вот сын наш Михаил — замечательный программист. Мы с ним несколько таких работ сделали. У него это не основная работа. Просто он в порядке хобби помогает, пишет программы. Это такая работа по моделированию эволюции, в которой проверяются чисто теоретически какие-то идеи, абстрактные. Вот мне, например, понравилась в каком-то там 2006, 2007 году одна статья, где была простенькая модель эволюции мозга и… каких-то там абстрактных человечков. Мне понравилась идея, я ее обдумывал лет десять…
— Вот это как раз то самое, о чём я говорила. [Смеются.]
— Я рассказал об этой модели во втором томе «Эволюции человека», в главе «Социальность и интеллект», кажется. Там, где теория о том, что разум у человека развился в связи прежде всего с социальностью, с взаимоотношениями в обществе и т. д. И я Мишке предложил сделать программу, чтобы эту идею исследовать. Он сделал, и мы уже начали получать какие-то результаты, и тут мне попала в руки книга, из которой я радостно узнал, что эта идея уже давно придумана, и уже люди работают над этим, и уже у нее есть название! Я внимательно прочитал эту книгу, еще несколько других по теме, понял, в чём наша всё-таки работа имеет оригинальность, что мы сделали нового, — и мы сейчас двигаем эту тему. По этому поводу мы даже опубликовали уже статьи в научных рецензируемых журналах на тему, которую можно называть как угодно: «Культурный драйв», «Коэволюция мозга и культуры», «Культурная эволюция».
— Ну я ввязываюсь во много боев разом. У меня сейчас идет по крайней мере три проекта, ужасно интересных. Если б я была Александром, я бы сфокусировалась на одном, и очень внимательно. Поэтому мы действуем абсолютно по-разному. Но, наверное, дополняем друг друга в какой-то степени.
— Постойте, как это только один? Вы же оба наверняка еще пишете книгу, помимо прочего. Я читал в вашем интервью пару лет назад, кажется, что вы обещали книжку про палеонтологию.
— Это было очень давно, я уже забыл даже про это.
— Нет, у меня это есть в голове, но так много всего научного идет в текущий момент, что руки не доходят…
— На самом деле прекрасную книгу, по-настоящему хорошую книгу по палеонтологии беспозвоночных издал недавно наш коллега и друг профессор Андрей Журавлёв. И она настолько хороша, что я ее почитал и решил, что нет смысла нам тоже это делать.
— Я думал, что вы собираетесь пошире тему взять, потому что палеонтология беспозвоночных — это же не вся палеонтология, которая есть на свете?
— Ну в палеонтологии позвоночных мы совсем не разбираемся. Мы как раз в беспозвоночных хоть чего-то можем.
— Мы опасаемся писать на темы, в которых мы плохо разбираемся
— Динозавры — это не наше.
— Вероятность того, что мы попадем впросак, равняется 100 %.
— А давайте тогда поговорим как раз о том, какие ваши темы. Когда-то давно у вас были морские ежи, я хорошо помню. У вас была сельдь с навагой в кандидатской, верно? А сейчас?
— Не знаю, с чего начать. Это будет длинный список, если перечислить все темы, по которым я, например, публиковал научные статьи. А еще есть темы, над которыми я много думал, они мне страшно интересны, но я по ним ничего не публиковал.
— Меня интересует скорее алгоритм, как вы переходите от одной темы к другой.
— У меня вынужденно широкий кругозор. Сначала, лет до 35, он был узкий, чисто палеонтология, Палеонтологический институт и круг идей, которые бултыхались в этом нашем очень узком кружочке. Потом, в начале 2000-х годов, мне неожиданно пришлось познакомиться по работе со всякой молекулярной биологией, генетикой, со всякими белками, ферментами, генами, чего я до этого вообще не знал, и это расширило мой кругозор сильно. После этого я стал заниматься популяризацией науки, тоже в начале 2000-х, — и писать книжки, потом стал читать лекции, потом, в 2014 году, позвали на биофак. И там я читаю курс эволюционной биологии, теории эволюции для всего потока. Соответственно, приходится всё время обдумывать все аспекты эволюционной биологии, готовя эти лекции, каждый год их обновляя.
И время от времени по поводу какогонибудь вопроса мне приходят мысли: о, а вот тут интересно, может быть, какая-нибудь гипотеза возникает. И можно ж ее проверить! То есть одновременно и идея, и представление о том, как ее реализовать. И я могу этим заняться.
— А насколько это просто? Ведь есть ученые, которые сидят всю жизнь на одной теме и знают ее досконально вдоль и поперек. И это, может быть, даже не очень хорошо.
— И они становятся догматиками часто.
— Такое случается, но тем не менее тему свою они знают. И вдруг приходит какой-то новый человек сбоку, который ее не знает так же хорошо. Насколько просто входить в новое, если ты там не просидел всю жизнь?
— Очень трудно! У меня сейчас идет неожиданная тема, чрезвычайно любопытная. Это мне несколько лет назад позвонили из Иркутска и сказали, что ребята нашли каких-то странных животных, которых они хотели бы мне прислать. И прислали. В прошлом году у меня наконец дошли руки посмотреть, что это такое. Оказалось, когда я стала смотреть внимательнее, что это предки ракоскорпионов, о которых я не знала ничего. Я их видела только на картинке. Пришлось входить в новую тему, просто потому что у меня был этот материал, значение которого я очень хорошо поняла. Это ведь ко мне попали самые первые хелицеровые, какие только вообще есть на планете. Вот они у меня лежат. Что делать? Я ничего не знаю про них. Я знаю вокруг, я знаю про кембрий, я знаю про членистоногих вообще. Но есть специалисты по ракоскорпионам, которые занимаются ими всю жизнь. И у них публикация за публикацией идет, с какими-то детальными подробностями: какие у них ножки, какие у них усики, как у них всё устроено… И вот еще один фрагмент усика мы нашли, ура!
А вот дышать они могли так, а питаться они могли этак. В общем, всё до тонкостей. Мне пришлось входить в эту тему абсолютно, полностью с нуля, самой. С одной стороны, это хорошо, потому что я думала, что хотела. Но с другой стороны, боже, как же мне не хватало их знаний! Как же мне хотелось, чтобы рядом сидел кто-то, кто мне сказал бы: это ты видишь то, а это ты видишь усик, а это ты видишь, вот здесь, вторую пластинку от четвертого тергита.
— Но, слава богу, никто не сидел на самом деле. Потому что предшественники ошибались, а Ленка нашла.
— Круто! А почему вы в тот момент, когда вы понимаете, что это что-то интересное, но не ваша тема, не отправляете это специалистам?
— Это вот как бывает: у нас в Палеонтологическом институте и вообще у нас в стране был всего один специалист по этим животным. К сожалению, он умер. Тогда я написала своим коллегам из Германии, которые сказали: да, конечно, очень интересные звери, мы тебе поможем, но сделай сначала описание на английском языке. Но чтобы сделать описание, нужно уже понимать, что ты видишь. А я не понимала. Поэтому получился вот такой замкнутый круг, и мне пришлось разобраться самой. И к тому времени, как я разобралась сама, немецкие коллеги мне уже были не нужны. А у нас в стране специалистов по ракоскорпионам нет.
— Минуточку — теперь есть, видимо.
— Теперь есть.
— Это Chasmataspidida, скорее предки ракоскорпионов. На свете, наверное, всего человек десять, которые знают, кто это такие.
— Вот пример, как приходится вот таким вот образом влезать в новое. А что делать? А еще для нового кураж нужен. Если куража нет, то никакой науки не будет в принципе.
— Вот Елене кто-то прислал что-то, она на это набросилась и освоила и стала одним из десяти специалистов на свете по теме. А у вас как, Александр? Примерно так же?
— Меня, конечно, бросает с темы на тему. Приятнее всего заниматься теоретизированием с помощью компьютерного моделирования. Вот просто приходит вам в голову какая-то эволюционная идея, что, например, как могли, из каких предпосылок и почему появиться митоз, мейоз и половое размножение. Происхождение эукариот. И начинаешь эту идею копать. Материала фактического всё равно нет и не будет. Начинаешь просто саму эту эволюционную идею проверять с помощью компьютерного моделирования. Несколько таких работ у меня есть. Мне это очень нравится. В соавторстве с хорошим программистом я обычно это делаю. Вот сын наш Михаил — замечательный программист. Мы с ним несколько таких работ сделали. У него это не основная работа. Просто он в порядке хобби помогает, пишет программы. Это такая работа по моделированию эволюции, в которой проверяются чисто теоретически какие-то идеи, абстрактные. Вот мне, например, понравилась в каком-то там 2006, 2007 году одна статья, где была простенькая модель эволюции мозга и… каких-то там абстрактных человечков. Мне понравилась идея, я ее обдумывал лет десять…
— Вот это как раз то самое, о чём я говорила. [Смеются.]
— Я рассказал об этой модели во втором томе «Эволюции человека», в главе «Социальность и интеллект», кажется. Там, где теория о том, что разум у человека развился в связи прежде всего с социальностью, с взаимоотношениями в обществе и т. д. И я Мишке предложил сделать программу, чтобы эту идею исследовать. Он сделал, и мы уже начали получать какие-то результаты, и тут мне попала в руки книга, из которой я радостно узнал, что эта идея уже давно придумана, и уже люди работают над этим, и уже у нее есть название! Я внимательно прочитал эту книгу, еще несколько других по теме, понял, в чём наша всё-таки работа имеет оригинальность, что мы сделали нового, — и мы сейчас двигаем эту тему. По этому поводу мы даже опубликовали уже статьи в научных рецензируемых журналах на тему, которую можно называть как угодно: «Культурный драйв», «Коэволюция мозга и культуры», «Культурная эволюция».
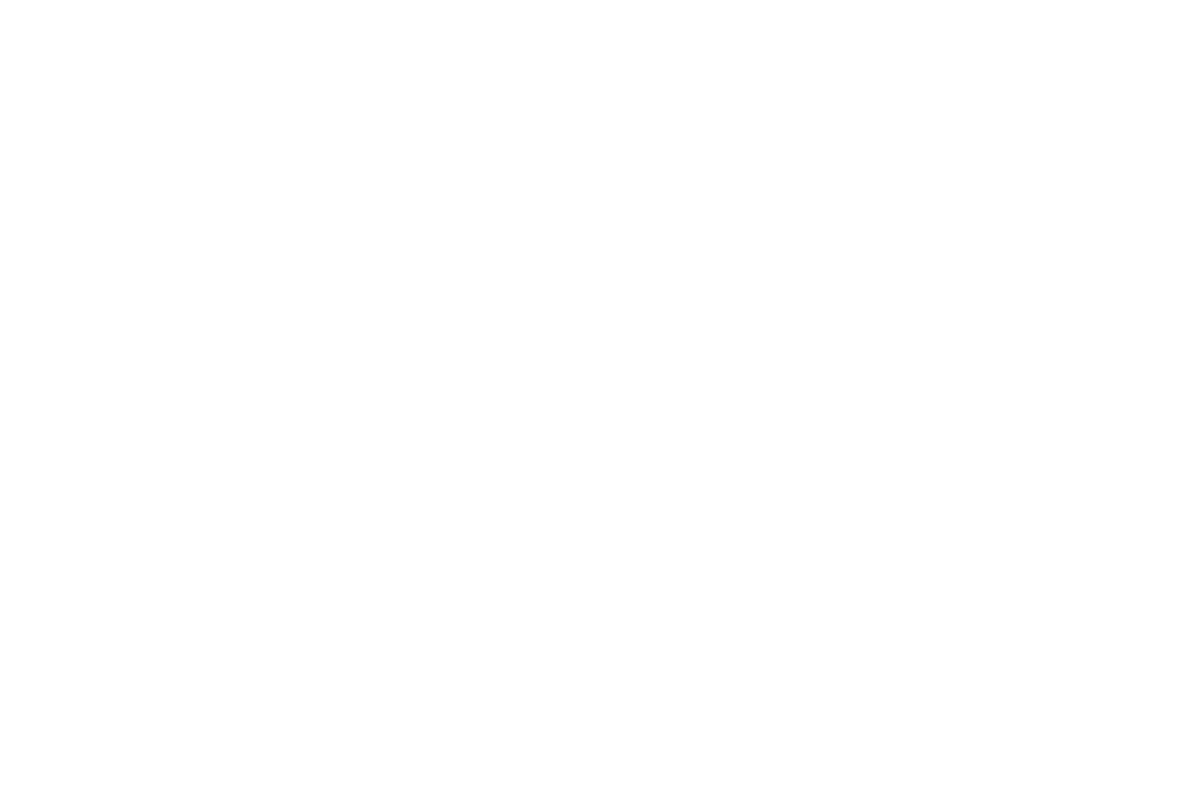
Фотограф: Надежда Андреенко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Вот я не специалист, я не очень понимаю, как можно построить корректную модель, если нет материала никакого?
— Как в точных науках, математике. Вот мы думаем так: вот если я приму такие-то аксиомы, то из них на самом-то деле можно вывести вот такую-то интересную теорему. И люди этим с диким энтузиазмом занимаются, математики.
— Материала-то как раз очень много. Материал — это вот, наши же человеческие общества. Но нам неоткуда выяснить первопричины всех событий, всего происходящего, этого у нас нет. Именно в этом смысле нет материала.
— Я когда сказал, что нет материала, я имел в виду происхождение эукариот.
— На самом деле есть. У нас же есть всякие белки, у нас есть какие-то ископаемые. У нас нет, конечно, никаких тонких деталей, но какие-то реперные точки, на которые мы можем ориентироваться, в принципе, есть.
— А дайте-ка я тогда выясню. Я про это знаю неизмеримо меньше вас, но я помню, что была такая Маргулис, правильно? Это же ее теория с симбиотическим происхождением эукариот?
— Ее первым мужем, кстати, был Карл Саган, его-то все знают.
Итак, Маргулис Линн и ее теория симбиогенеза. Ее в каких-то более, может быть, примитивных формах высказывали еще с XIX века. Изначально люди смотрели на клетку растительную в световой микроскоп, разглядывали хлоропласт и просто видели глазами, что он похож на цианобактерию, что выглядит так, как будто в растительной клетке плавают, живут какие-то симбиотические цианобактерии. Вот и приходят в голову людям правильные мысли, что это симбиогенез, да. Ранние версии были встречены насмешливым презрением, никто не обратил на эту теорию внимания, казалось, что это высосано из пальца. Маргулис тоже не могла опубликовать свою статью. Это замечательная история: она написала статью про симбиотическое происхождение эукариот, и эту статью отвергли примерно в 15 журналах. Это для меня пример удивительной настойчивости и веры в себя, вот у меня руки опускаются после второго отказа, а обычно-то и после первого. А она… В 15 журналах ее статью отклонили, а в 16-м опубликовали.
— У нее были факты, очень-очень немного. И она из этих фактов собрала очень стройную и очень красивую теорию, которая всё это объясняет, — теорию симбиогенеза. Выглядела эта теория тогда… экстравагантно. Слишком экстравагантно, чтобы поверить в нее сразу.
— Очень неожиданно для всех.
— Да, но постепенно факты накапливались. Наука же собирает факты всё время. И эти факты раз за разом укладывались в эту теорию.
— А почему она выглядела экстравагантно?
— Это 60-е годы. Тогда симбиоз как фактор эволюции не рассматривался вообще никем и никогда. Это нам сейчас понятно, что симбиоз — такой же фактор эволюции, как конкуренция. Грубо говоря, они примерно на равных действуют. А тогда не было вообще об этом разговора никакого.
— Мы на биофаке учились с 1982-го по 1987-й. И нам про симбиогенетическое происхождение эукариот не говорили вообще ни слова. У нас в курсе микробиологии и других курсах это где-то упоминалось, но по умолчанию предполагалось, что вот были прокариоты, потом они, значит, постепенно как-то усложнялись потихонечку, усложнялись и стали эукариотами. Что все эти структуры эукариотической клетки, они как-то сами дифференцировались в ходе постепенной эволюции.
— То есть нас даже этому не учили.
— Никакого симбиогенеза не было даже в конце 1980-х в программе биофака. Но я примерно тогда же прочитал книгу Маргулис и подумал: как классно, здорово всё объясняется.
— Правильно ли я понимаю, что это решает отчасти одно из узких мест в эволюции?
— Кое-какие вещи прояснились, но процесс всё время идет. То, что удалось доказать симбиогенетическое происхождение митохондрий, это был да, большой, конечно, прорыв. Ну а как доказали? Когда стали геномы секвенировать и увидели, что геномы митохондрий на деревьях филогенетических оказываются вместе с альфа-протеобактериями.
— Это было мощное доказательство.
— Очень убедительное, да, потому что сходство такого плана не может случайно возникнуть. И, соответственно, это просто никак иначе нельзя объяснить, кроме как что предками митохондрий были альфа-протеобактерии.
— То есть в эволюцию стало чуть проще поверить?
— Так ведь кроме того археи же открыли. У них особая оболочка, такая мембрана, которая вполне годится для того, чтобы принять какого-то гостя и чтобы он там прижился, в отличие от бактерии обычной, у которой мембрана, бактериальная клеточная стенка, совершенно для этого не приспособлена. Это была большая проблема симбиогенеза: кто был тем хозяином, который вместил в себя альфа-протеобактерию, митохондрию?
После публикации Линн Маргулис открыли архей. И тогда с теорией симбиогенеза как-то стало действительно проще. Вся эта история про то, как идет наука: она накапливает факты, а потом смотрит — данный факт совместим с этой интересной теорией или нет? А если нет, то почему? А если да, то как?
— Я когда-то читал в интервью Кунина, что вероятность возникновения полного репликатора — какие-то там совершенно 10 в минус десятитысячной степени, что-то в этом роде. То есть в такой степени, которая соразмерна количеству молекул во Вселенной. И не очень понятно, как вы в свое время, например, убеждали креационистов в том, что это событие случилось, потому что оно до такой степени маловероятное, что выглядит совсем узким местом в эволюционной теории.
— Рассуждение Кунина основывается на следующем допущении: что должен был сразу в готовом виде появиться такой эффективный рибозим или комплекс рибозимов, который уже хорошо умел сам себя реплицировать и в общем справлялся со всеми базовыми жизненными задачами. И для этого нужно, чтобы он был достаточно длинным, длиной в тысячу или две тысячи нуклеотидов. И Кунин также исходил из допущения, что нужна строго определенная последовательность этой тысячи нуклеотидов, чтобы такой рибозим действительно работал.
Дальше он рассчитывал вероятность случайной самосборки молекулы РНК длиной в тысячу нуклеотидов со строго определенной последовательностью. Это действительно получается не астрономически, а гиперастрономически ничтожная вероятность, для реализации которой не хватает размера Вселенной; даже если там миллиарды миллиардов планет, на каждой из них километровый слой РНК синтезируется, то вероятность того, что одна молекула из них будет вот той, которой надо…
— Разве что мы примем за аксиому, что вселенных бесконечное множество, то тогда может быть.
— Вот поэтому Кунин говорит: значит, Вселенная больше. Ну действительно, современная космология допускает, что теория инфляции, гиперинфляции и т. д., что наблюдаемая Вселенная — это лишь ничтожная часть мироздания…
— Но я в это или не поверил, или не понял. Потому что вселенных может быть много, сколько угодно, но вероятность-то рассчитывается на одну из них, а не на все сразу.
— Может быть, существует 10 в степени квадриллион в степени квадриллион вселенных, только в одной из них возникла жизнь. И естественно, что возникшие разумные существа в этой одной из бесчисленного множества вселенных сидят и удивляются: как вот так нам повезло, что мы возникли?
А просто попыток было 10 в степени 10 в степени 10 с бесчисленным количеством нулей. А при таком количестве попыток даже самые невероятные вещи становятся неизбежными. Так вот, в чём тут фишка? Почему с рассуждением Кунина можно поспорить? Я думаю, что не было такого этапа в развитии жизни, как случайная самосборка сразу огромного, сложного, эффективного рибозима из случайного комбинирования нуклеотидов.
А что дарвиновская эволюция могла стартовать гораздо раньше. Речь идет о чём? Сначала идут некие химические процессы, дарвиновская эволюция не работает пока еще. Но должны случайным образом возникнуть какие-то химические основы жизни. Чтобы тогда уже стартовала дарвиновская эволюция с размножением, наследственностью, изменчивостью, отбором. Дарвиновская эволюция — это уже такой механизм, про который мы знаем, что он может всё создавать, усложнять, усовершенствовать, создавать сложные, оптимально устроенные системы.
Нас интересует, как случайные химические процессы пришли к старту этой самой дарвиновской эволюции, потому что здесь пока всё случайно и маловероятно. Когда она стартует, дальше всё понятнее. Расчет Кунина основан на том, что дарвиновская эволюция началась только с момента появления вот этого огромного, из тысячи или двух тысяч нуклеотидов, сложнейшего, эффективнейшего рибозима. Возражение: она могла начаться гораздо раньше, если существовали подходящие условия для неферментативной репликации РНК.
Это такой реальный процесс, который идет в пробирке. Его изучали биохимики, Лесли Орджел, вот сейчас этим занимается Джек Шостак, нобелевский лауреат. И постепенно химики находят условия, в которых процесс неферментативной репликации идет лучше и лучше, точнее и точнее, быстрее и быстрее.
Поначалу он идет еще недостаточно точно, чтобы обеспечить прямо полноценную эволюцию. Слишком много ошибок, слишком медленно. Но… В общем, предположение о том, что где-то во Вселенной всё-таки на какой-то планете сложились условия для того, чтобы она шла достаточно быстро и точно, логично. Вероятность этого гораздо больше, чем вероятность сборки, самосборки вот этого гигантского рибозима из случайной последовательности нуклеотидов.
А если где-то была неферментативная репликация возможна, то дарвиновская эволюция у нас стартует уже прямо сразу, как только появляется первая любая короткая молекула РНК, уже всё, пошла эволюция.
— А живым мы что называем? Чем отличается неживое от живого? Свойствами репликатора, который у него есть, или еще чем-то?
— Сейчас, кстати, вышла совершенно прекрасная книжка Карла Циммера, называется «Живое и неживое». Она посвящена именно вот этому вопросу: как биологи отвечают на вопрос, чем живое отличается от неживого? Очень рекомендую.
— Там этот вопрос разбирается, Лена ее редактировала. Рабочее определение для нас, эволюционистов, очень простое: живой является любая химическая система, способная к дарвиновской эволюции. То есть обладающая вот этим набором из четырех свойств: размножение, наследственность, изменчивость, отбор, — хотя это немножко избыточный даже перечень. Химическая — потому что можно компьютерные вирусы легко подвести под это определение, но они будут не химические. Вот такая хитрость. [Смеются.]
— Хорошо, с первым узким местом стало, может быть, чуть понятнее, но окончательно понятно-то, наверное, никогда не станет. Разве что мы поставим какой-то свехудачный эксперимент по этому поводу.
— Да, только за последние два месяца были две шикарные работы, очень яркие, которые отвечают на новые вопросы. Из первой, она была в Science или Nature, ясно, что совсем коротенькие молекулы РНК, прямо в три-четыре нуклеотида длиной, умеют в определенных условиях синтезировать пептиды, то есть соединять аминокислоты в цепочки. Это открывает сразу колоссальные возможности…
— Как в точных науках, математике. Вот мы думаем так: вот если я приму такие-то аксиомы, то из них на самом-то деле можно вывести вот такую-то интересную теорему. И люди этим с диким энтузиазмом занимаются, математики.
— Материала-то как раз очень много. Материал — это вот, наши же человеческие общества. Но нам неоткуда выяснить первопричины всех событий, всего происходящего, этого у нас нет. Именно в этом смысле нет материала.
— Я когда сказал, что нет материала, я имел в виду происхождение эукариот.
— На самом деле есть. У нас же есть всякие белки, у нас есть какие-то ископаемые. У нас нет, конечно, никаких тонких деталей, но какие-то реперные точки, на которые мы можем ориентироваться, в принципе, есть.
— А дайте-ка я тогда выясню. Я про это знаю неизмеримо меньше вас, но я помню, что была такая Маргулис, правильно? Это же ее теория с симбиотическим происхождением эукариот?
— Ее первым мужем, кстати, был Карл Саган, его-то все знают.
Итак, Маргулис Линн и ее теория симбиогенеза. Ее в каких-то более, может быть, примитивных формах высказывали еще с XIX века. Изначально люди смотрели на клетку растительную в световой микроскоп, разглядывали хлоропласт и просто видели глазами, что он похож на цианобактерию, что выглядит так, как будто в растительной клетке плавают, живут какие-то симбиотические цианобактерии. Вот и приходят в голову людям правильные мысли, что это симбиогенез, да. Ранние версии были встречены насмешливым презрением, никто не обратил на эту теорию внимания, казалось, что это высосано из пальца. Маргулис тоже не могла опубликовать свою статью. Это замечательная история: она написала статью про симбиотическое происхождение эукариот, и эту статью отвергли примерно в 15 журналах. Это для меня пример удивительной настойчивости и веры в себя, вот у меня руки опускаются после второго отказа, а обычно-то и после первого. А она… В 15 журналах ее статью отклонили, а в 16-м опубликовали.
— У нее были факты, очень-очень немного. И она из этих фактов собрала очень стройную и очень красивую теорию, которая всё это объясняет, — теорию симбиогенеза. Выглядела эта теория тогда… экстравагантно. Слишком экстравагантно, чтобы поверить в нее сразу.
— Очень неожиданно для всех.
— Да, но постепенно факты накапливались. Наука же собирает факты всё время. И эти факты раз за разом укладывались в эту теорию.
— А почему она выглядела экстравагантно?
— Это 60-е годы. Тогда симбиоз как фактор эволюции не рассматривался вообще никем и никогда. Это нам сейчас понятно, что симбиоз — такой же фактор эволюции, как конкуренция. Грубо говоря, они примерно на равных действуют. А тогда не было вообще об этом разговора никакого.
— Мы на биофаке учились с 1982-го по 1987-й. И нам про симбиогенетическое происхождение эукариот не говорили вообще ни слова. У нас в курсе микробиологии и других курсах это где-то упоминалось, но по умолчанию предполагалось, что вот были прокариоты, потом они, значит, постепенно как-то усложнялись потихонечку, усложнялись и стали эукариотами. Что все эти структуры эукариотической клетки, они как-то сами дифференцировались в ходе постепенной эволюции.
— То есть нас даже этому не учили.
— Никакого симбиогенеза не было даже в конце 1980-х в программе биофака. Но я примерно тогда же прочитал книгу Маргулис и подумал: как классно, здорово всё объясняется.
— Правильно ли я понимаю, что это решает отчасти одно из узких мест в эволюции?
— Кое-какие вещи прояснились, но процесс всё время идет. То, что удалось доказать симбиогенетическое происхождение митохондрий, это был да, большой, конечно, прорыв. Ну а как доказали? Когда стали геномы секвенировать и увидели, что геномы митохондрий на деревьях филогенетических оказываются вместе с альфа-протеобактериями.
— Это было мощное доказательство.
— Очень убедительное, да, потому что сходство такого плана не может случайно возникнуть. И, соответственно, это просто никак иначе нельзя объяснить, кроме как что предками митохондрий были альфа-протеобактерии.
— То есть в эволюцию стало чуть проще поверить?
— Так ведь кроме того археи же открыли. У них особая оболочка, такая мембрана, которая вполне годится для того, чтобы принять какого-то гостя и чтобы он там прижился, в отличие от бактерии обычной, у которой мембрана, бактериальная клеточная стенка, совершенно для этого не приспособлена. Это была большая проблема симбиогенеза: кто был тем хозяином, который вместил в себя альфа-протеобактерию, митохондрию?
После публикации Линн Маргулис открыли архей. И тогда с теорией симбиогенеза как-то стало действительно проще. Вся эта история про то, как идет наука: она накапливает факты, а потом смотрит — данный факт совместим с этой интересной теорией или нет? А если нет, то почему? А если да, то как?
— Я когда-то читал в интервью Кунина, что вероятность возникновения полного репликатора — какие-то там совершенно 10 в минус десятитысячной степени, что-то в этом роде. То есть в такой степени, которая соразмерна количеству молекул во Вселенной. И не очень понятно, как вы в свое время, например, убеждали креационистов в том, что это событие случилось, потому что оно до такой степени маловероятное, что выглядит совсем узким местом в эволюционной теории.
— Рассуждение Кунина основывается на следующем допущении: что должен был сразу в готовом виде появиться такой эффективный рибозим или комплекс рибозимов, который уже хорошо умел сам себя реплицировать и в общем справлялся со всеми базовыми жизненными задачами. И для этого нужно, чтобы он был достаточно длинным, длиной в тысячу или две тысячи нуклеотидов. И Кунин также исходил из допущения, что нужна строго определенная последовательность этой тысячи нуклеотидов, чтобы такой рибозим действительно работал.
Дальше он рассчитывал вероятность случайной самосборки молекулы РНК длиной в тысячу нуклеотидов со строго определенной последовательностью. Это действительно получается не астрономически, а гиперастрономически ничтожная вероятность, для реализации которой не хватает размера Вселенной; даже если там миллиарды миллиардов планет, на каждой из них километровый слой РНК синтезируется, то вероятность того, что одна молекула из них будет вот той, которой надо…
— Разве что мы примем за аксиому, что вселенных бесконечное множество, то тогда может быть.
— Вот поэтому Кунин говорит: значит, Вселенная больше. Ну действительно, современная космология допускает, что теория инфляции, гиперинфляции и т. д., что наблюдаемая Вселенная — это лишь ничтожная часть мироздания…
— Но я в это или не поверил, или не понял. Потому что вселенных может быть много, сколько угодно, но вероятность-то рассчитывается на одну из них, а не на все сразу.
— Может быть, существует 10 в степени квадриллион в степени квадриллион вселенных, только в одной из них возникла жизнь. И естественно, что возникшие разумные существа в этой одной из бесчисленного множества вселенных сидят и удивляются: как вот так нам повезло, что мы возникли?
А просто попыток было 10 в степени 10 в степени 10 с бесчисленным количеством нулей. А при таком количестве попыток даже самые невероятные вещи становятся неизбежными. Так вот, в чём тут фишка? Почему с рассуждением Кунина можно поспорить? Я думаю, что не было такого этапа в развитии жизни, как случайная самосборка сразу огромного, сложного, эффективного рибозима из случайного комбинирования нуклеотидов.
А что дарвиновская эволюция могла стартовать гораздо раньше. Речь идет о чём? Сначала идут некие химические процессы, дарвиновская эволюция не работает пока еще. Но должны случайным образом возникнуть какие-то химические основы жизни. Чтобы тогда уже стартовала дарвиновская эволюция с размножением, наследственностью, изменчивостью, отбором. Дарвиновская эволюция — это уже такой механизм, про который мы знаем, что он может всё создавать, усложнять, усовершенствовать, создавать сложные, оптимально устроенные системы.
Нас интересует, как случайные химические процессы пришли к старту этой самой дарвиновской эволюции, потому что здесь пока всё случайно и маловероятно. Когда она стартует, дальше всё понятнее. Расчет Кунина основан на том, что дарвиновская эволюция началась только с момента появления вот этого огромного, из тысячи или двух тысяч нуклеотидов, сложнейшего, эффективнейшего рибозима. Возражение: она могла начаться гораздо раньше, если существовали подходящие условия для неферментативной репликации РНК.
Это такой реальный процесс, который идет в пробирке. Его изучали биохимики, Лесли Орджел, вот сейчас этим занимается Джек Шостак, нобелевский лауреат. И постепенно химики находят условия, в которых процесс неферментативной репликации идет лучше и лучше, точнее и точнее, быстрее и быстрее.
Поначалу он идет еще недостаточно точно, чтобы обеспечить прямо полноценную эволюцию. Слишком много ошибок, слишком медленно. Но… В общем, предположение о том, что где-то во Вселенной всё-таки на какой-то планете сложились условия для того, чтобы она шла достаточно быстро и точно, логично. Вероятность этого гораздо больше, чем вероятность сборки, самосборки вот этого гигантского рибозима из случайной последовательности нуклеотидов.
А если где-то была неферментативная репликация возможна, то дарвиновская эволюция у нас стартует уже прямо сразу, как только появляется первая любая короткая молекула РНК, уже всё, пошла эволюция.
— А живым мы что называем? Чем отличается неживое от живого? Свойствами репликатора, который у него есть, или еще чем-то?
— Сейчас, кстати, вышла совершенно прекрасная книжка Карла Циммера, называется «Живое и неживое». Она посвящена именно вот этому вопросу: как биологи отвечают на вопрос, чем живое отличается от неживого? Очень рекомендую.
— Там этот вопрос разбирается, Лена ее редактировала. Рабочее определение для нас, эволюционистов, очень простое: живой является любая химическая система, способная к дарвиновской эволюции. То есть обладающая вот этим набором из четырех свойств: размножение, наследственность, изменчивость, отбор, — хотя это немножко избыточный даже перечень. Химическая — потому что можно компьютерные вирусы легко подвести под это определение, но они будут не химические. Вот такая хитрость. [Смеются.]
— Хорошо, с первым узким местом стало, может быть, чуть понятнее, но окончательно понятно-то, наверное, никогда не станет. Разве что мы поставим какой-то свехудачный эксперимент по этому поводу.
— Да, только за последние два месяца были две шикарные работы, очень яркие, которые отвечают на новые вопросы. Из первой, она была в Science или Nature, ясно, что совсем коротенькие молекулы РНК, прямо в три-четыре нуклеотида длиной, умеют в определенных условиях синтезировать пептиды, то есть соединять аминокислоты в цепочки. Это открывает сразу колоссальные возможности…
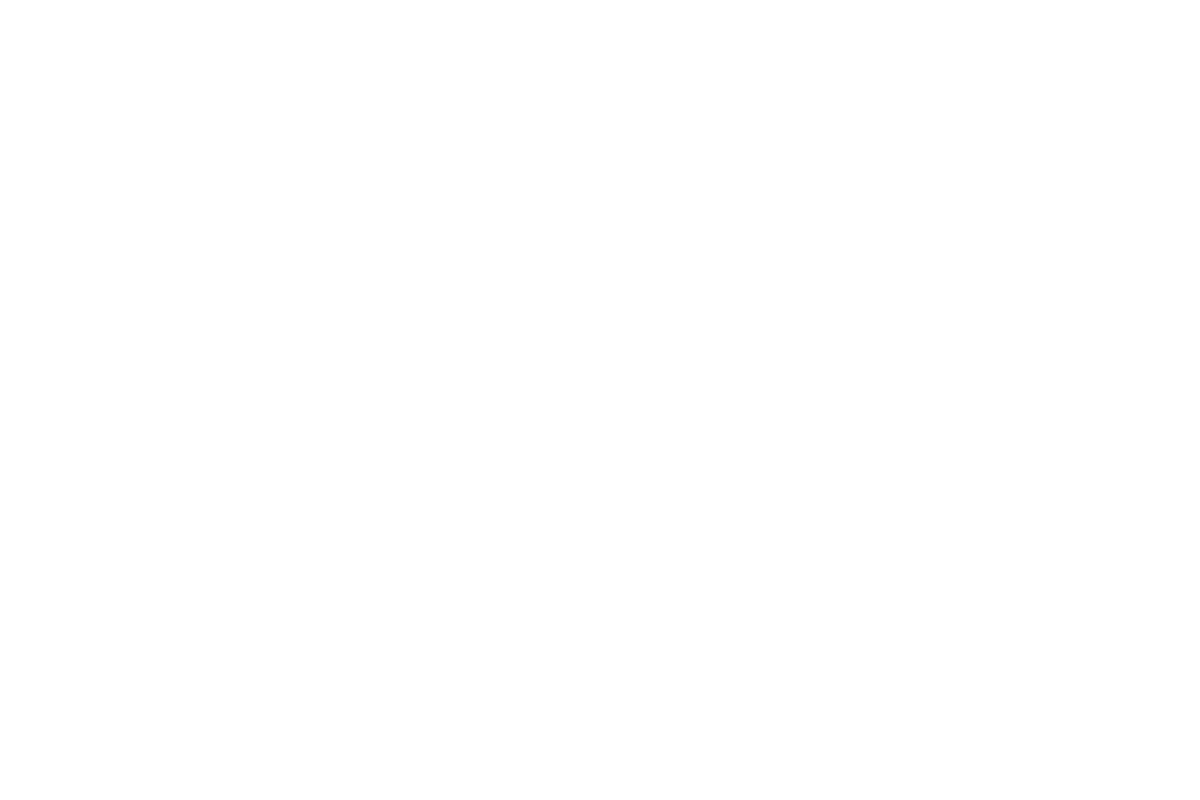
Фотограф: Надежда Андреенко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— А условия какие-то очень специфические или?..
— Авторы пишут, что они, как сейчас говорят, prebiotically plausible, то есть, в принципе, могли существовать в пребиотических условиях, на древней Земле. Никакой фантастики там нет химической. Если уже крошечные совсем молекулы РНК умели синтезировать пептиды какие-то, это сразу расширяет возможности этих крошечных молекул. А вот крошечные молекулы РНК с помощью этой самой неферментативной репликации могли бы размножаться. Потому что там с удлинением молекулы появляются проблемы с точностью. Чем крупнее молекулу нужно реплицировать, тем более точная должна быть система репликации.
— То есть репликатор — это не только рибозим, но и вообще могут быть совсем маленькие всякие штучки?
— Именно — фактически в роли рибозимов, синтезирующих простые пептиды, могут выступать совсем крошечные молекулы РНК. А вторая статья была в журнале Astrobiology: про то, что из нуклеотидов синтезируются довольно длинные молекулы РНК на капельках вулканического стекла, которых должно было быть много в базальтах на поверхности ранней Земли.
— Базальтовое стекло — это же фактически аморфный кремний, а кремний — очень хороший катализатор для очень многих биологических процессов. Собственно, так и глина работает, как прекрасный катализатор.
— Так что же, если мы движемся такими темпами, то да, может быть, пройдет еще лет 10–20, и мы прямо воспроизведем полностью весь процесс… Стало ли происхождение жизни не таким узким местом за последние годы?
— Ну прогресс идет бодрый и радостный. Михаил Никитин уже целую толстую книгу написал про происхождение жизни.
— А у нас, кстати, потрясающая с Михаилом работа идет, я сейчас открою все секреты наши. Я занималась фоссилизацией мягкотелых организмов, разбиралась, почему бесскелетные животные, червяки, например, могут окаменеть. У меня довольно много статей на эту тему, штук пять или шесть. Но в последней — я наконец добралась, как мне казалось, до сути: почему, собственно, мягкотелое животное может в принципе фоссилизироваться. Что там за химия такая вот происходит? И до меня дошло каким-то чудесным образом, что дело в особых молекулах — молекулы адгезии они называются, — которые соединяют между собой клетки (мы потому и многоклеточные, что наши клетки не разлетаются в облако, а соединяются вместе их адгезивными молекулами). Эти молекулы химически так устроены, что должны быстро присоединиться либо к субстрату, либо друг к другу. Поэтому если у организма появился вот этот адгезивный комплекс, это значит, что после смерти организма эти молекулы присоединяют к себе всё, что на них падает, причем в силу своих химических свойств очень быстро. Происходит мгновенная…
— Мгновенная в палеонтологическом смысле?
— Нет! Мгновенная — это в течение часов, даже минут — фоссилизация, представляете? Это уже не биология, это химия. На вот этих адгезивных молекулах происходит осаждение катионов металлов из окружающей среды: из воды, из осадка, откуда угодно. И поэтому отмерший организм — мягкотелый, именно мягкотелый, без наружного панциря, не покрытый ничем этаким, оставляет после себя минерализованный межклеточный каркас. Это нужно было экспериментально проверить. И мы это сделали очень красиво, с этого началась наша работа с Михаилом Никитиным и другими нашими коллегами. Мы взяли колониальную амебу, у которой есть одноклеточная стадия, когда она не синтезирует адгезивные молекулы, и у нее есть многоклеточная стадия — плодовое тело, когда оно делает многоклеточную такую структуру и синтезирует адгезивные молекулы.
Во всём остальном, биохимически, эти организмы одинаковы: одноклеточный и многоклеточный. Генетически это один и тот же организм, из одинаковых клеток, но только вот на одной стадии адгезивные молекулы есть, а на другой нет. И провели такую фоссилизацию быстренькую на обеих стадиях.
Налили в воду раствор с алюмо-катионом (а этот катион участвует в консервации и фоссилизации) и посмотрели через 30 минут. Всего-то 30 минут, вот почему я говорю, что эта фоссилизация очень быстрая. Оказалось, что многоклеточная стадия осадила на себе очень быстро алюминий, а одноклеточная — нет.
Очень красиво получилось, и мы опубликовали на эту тему совершенно прекрасную работу. Поэтому, как только появляются многоклеточные, должна появиться сразу же ископаемая летопись. Но почему-то появляется не сразу, а только в позднем докембрии, около 560 миллионов лет назад. Почему? Тогда мы взяли просто устроенного трихоплакса и стали смотреть: почему же от трихоплакса-то в палеонтологической летописи ничего не остается? Стали смотреть, как он умирает и как могут выглядеть его посмертные останки. Оказалось, что трихоплакс после смерти как бы взрывается, распадается на облако отдельных клеток.
Поэтому палеонтолог в принципе не может обнаружить от животного типа трихоплакса ничего. Никто никогда в жизни не исследовал, как умирает вот это простейшее животное. Как умирает человек или гидра — известно. Как умирает простейшее животное, никому в голову не приходило посмотреть.
Но это еще не конец истории. Мы с Мишей решили поставить эксперимент и посмотреть, может ли вот это простейшее животное трихоплакс оставить не body fossils, не телесные останки, а какие-то следы от своего движения. Он же ползает, он же двигается, и мы с Мишей смоделировали вот эти вот следы. Оказалось, что он оставляет такие фантастические дорожки! А потом мы обнаружили в ископаемой летописи аналоги этих следов, неожиданных, ни на что не похожих, но они нашлись. Вот так наша работа по фоссилизации привела в результате к удивительному, совершенно неожиданному открытию.
— Я хочу уточнить. В ископаемой летописи вы обнаружили подтверждения этих дорожек, а раньше — они были описаны, но непонятно было, что это такое?
— Да, это называется «проблематичные следы», у них есть специальное название, это целый класс следов, называются «менискообразные следы».
— Далекому от науки человеку часто кажется, что ученых очень много и на каждый предмет есть хоть по одному. А что собой представляет сейчас российская палеонтология? Много ли в ней людей и как они себя чувствуют, как они финансируются?
— Я могу привести более или менее точные цифры про специалистов по трилобитам. Может быть, Саша потом скажет что-то другое про специалистов по морским ежам. Трилобиты — это такая огромная группа ископаемых членистоногих, которых в палеозое было чрезвычайно много.
В палеозое трилобиты встречаются всегда и везде, по ним делали стратиграфию, в 1970–80-х годах собирались даже специальные конференции по трилобитам, и они были огромные. И у нас в стране было, наверное, около 400–500 специалистов по трилобитам, так как это гигантская группа животных, огромная, очень разнообразная.
Были отдельные специалисты по трилобитам перми и девона, ордовика и кембрия. По одним только кембрийским трилобитам в Советском Союзе было примерно 150–200 специалистов. А сейчас нас осталось, работающих специалистов, наверное, четверо. И только по кембрию. По остальному палеозою нет ни одного специалиста.
— Ничего себе у вас цифры, у трилобитчиков. У морских ежей было в лучшие времена, где-то в 1950–60-е годы, дай бог, если несколько десятков на Советский Союз специалистов. А сейчас уже давно их вообще гораздо меньше.
— Отлично. Давайте из этих двух случаев выведем корреляцию: везде количество специалистов снижается по темам, а почему? С чем это связано?
— Палеонтология была в большой чести в определенный период истории Советского Союза, потому что всю геологическую корреляцию, геологическое картирование делали в основном по палеонтологическим данным.
— Всё картирование геологических тел: на какую глубину они уходят, до какой географической точки простираются эти геологические тела, где нужно бурить — это вам говорил палеонтолог.
— А сейчас есть очень точные методы абсолютного радиометрического датирования, и поэтому гораздо проще, чем заморачиваться с палеонтологом, который будет ковырять конодонтов и фораминифер из осадочных прослоев, просто взять магматический прослой в вашем керне и сдать на радиометрический анализ, вам возраст скажут — и всё.
— Кроме того, есть ультразвуковые зонды, которые обрисовывают очертания геологических тел гораздо точнее, лучше, чем это сделает палеонтолог.
— Так что народно-хозяйственное значение палеонтологии снизилось, мне кажется.
— А для интеллектуального развлечения, наверное, хватает нас, оставшихся.
— И второй фактор падения численности палеонтологов, который я бы назвал, это общий некий упадок такой области биологии, как биологическая систематика, музейное дело, коллекции. Потому что сейчас молекулярная филогенетика вытеснила классическую систематику, классическая систематика уже считается чуть ли не лженаукой, и, соответственно, сокращается число музейных работников, число таких людей, которые сидят при музее, определяют 80 лет жучков, пишут определители по усикам, по лапкам. Сейчас уже считается, что жучка надо просто гомогенизировать, засунуть в секвенатор и получить последовательность ДНК — и всё про этого жучка станет ясно. А рассматривать его лапки и вовсе незачем.
— А это не так?
— Родственные связи жучков по ДНК действительно определять проще и надежнее, чем по усикам и лапкам. Но вы при этом не поймете эволюцию жучка. Вы будете знать, как изменилась его нуклеотидная последовательность, но интересно-то на самом деле нам, биологам, почему у этого жучка такие усики.
— В какой он был среде, почему он так изменился?
— Да-да.
— Тогда эти методы должны дополнять друг друга. Почему один из них вдруг, как вы сказали, начинает считаться лженаукой?
— Лженаукой теперь считаются старые методы систематики, когда люди просто много лет изучали какую-то группу, разглядывали сотни, тысячи жучков и потом просто своим экспертным мнением объявляли, что вот второй членик антенны — это важнейший признак для выделения семейств. А первый членик антенн — это родовой признак. Мог появиться другой специалист, который говорит наоборот: «Нет, это фигня. Вот как раз второй членик усиков — это родовой признак. А как семейственный он не работает». И невозможно было разрешить такой спор, если два крупных мировых эксперта сталкивались лбами.
— Авторы пишут, что они, как сейчас говорят, prebiotically plausible, то есть, в принципе, могли существовать в пребиотических условиях, на древней Земле. Никакой фантастики там нет химической. Если уже крошечные совсем молекулы РНК умели синтезировать пептиды какие-то, это сразу расширяет возможности этих крошечных молекул. А вот крошечные молекулы РНК с помощью этой самой неферментативной репликации могли бы размножаться. Потому что там с удлинением молекулы появляются проблемы с точностью. Чем крупнее молекулу нужно реплицировать, тем более точная должна быть система репликации.
— То есть репликатор — это не только рибозим, но и вообще могут быть совсем маленькие всякие штучки?
— Именно — фактически в роли рибозимов, синтезирующих простые пептиды, могут выступать совсем крошечные молекулы РНК. А вторая статья была в журнале Astrobiology: про то, что из нуклеотидов синтезируются довольно длинные молекулы РНК на капельках вулканического стекла, которых должно было быть много в базальтах на поверхности ранней Земли.
— Базальтовое стекло — это же фактически аморфный кремний, а кремний — очень хороший катализатор для очень многих биологических процессов. Собственно, так и глина работает, как прекрасный катализатор.
— Так что же, если мы движемся такими темпами, то да, может быть, пройдет еще лет 10–20, и мы прямо воспроизведем полностью весь процесс… Стало ли происхождение жизни не таким узким местом за последние годы?
— Ну прогресс идет бодрый и радостный. Михаил Никитин уже целую толстую книгу написал про происхождение жизни.
— А у нас, кстати, потрясающая с Михаилом работа идет, я сейчас открою все секреты наши. Я занималась фоссилизацией мягкотелых организмов, разбиралась, почему бесскелетные животные, червяки, например, могут окаменеть. У меня довольно много статей на эту тему, штук пять или шесть. Но в последней — я наконец добралась, как мне казалось, до сути: почему, собственно, мягкотелое животное может в принципе фоссилизироваться. Что там за химия такая вот происходит? И до меня дошло каким-то чудесным образом, что дело в особых молекулах — молекулы адгезии они называются, — которые соединяют между собой клетки (мы потому и многоклеточные, что наши клетки не разлетаются в облако, а соединяются вместе их адгезивными молекулами). Эти молекулы химически так устроены, что должны быстро присоединиться либо к субстрату, либо друг к другу. Поэтому если у организма появился вот этот адгезивный комплекс, это значит, что после смерти организма эти молекулы присоединяют к себе всё, что на них падает, причем в силу своих химических свойств очень быстро. Происходит мгновенная…
— Мгновенная в палеонтологическом смысле?
— Нет! Мгновенная — это в течение часов, даже минут — фоссилизация, представляете? Это уже не биология, это химия. На вот этих адгезивных молекулах происходит осаждение катионов металлов из окружающей среды: из воды, из осадка, откуда угодно. И поэтому отмерший организм — мягкотелый, именно мягкотелый, без наружного панциря, не покрытый ничем этаким, оставляет после себя минерализованный межклеточный каркас. Это нужно было экспериментально проверить. И мы это сделали очень красиво, с этого началась наша работа с Михаилом Никитиным и другими нашими коллегами. Мы взяли колониальную амебу, у которой есть одноклеточная стадия, когда она не синтезирует адгезивные молекулы, и у нее есть многоклеточная стадия — плодовое тело, когда оно делает многоклеточную такую структуру и синтезирует адгезивные молекулы.
Во всём остальном, биохимически, эти организмы одинаковы: одноклеточный и многоклеточный. Генетически это один и тот же организм, из одинаковых клеток, но только вот на одной стадии адгезивные молекулы есть, а на другой нет. И провели такую фоссилизацию быстренькую на обеих стадиях.
Налили в воду раствор с алюмо-катионом (а этот катион участвует в консервации и фоссилизации) и посмотрели через 30 минут. Всего-то 30 минут, вот почему я говорю, что эта фоссилизация очень быстрая. Оказалось, что многоклеточная стадия осадила на себе очень быстро алюминий, а одноклеточная — нет.
Очень красиво получилось, и мы опубликовали на эту тему совершенно прекрасную работу. Поэтому, как только появляются многоклеточные, должна появиться сразу же ископаемая летопись. Но почему-то появляется не сразу, а только в позднем докембрии, около 560 миллионов лет назад. Почему? Тогда мы взяли просто устроенного трихоплакса и стали смотреть: почему же от трихоплакса-то в палеонтологической летописи ничего не остается? Стали смотреть, как он умирает и как могут выглядеть его посмертные останки. Оказалось, что трихоплакс после смерти как бы взрывается, распадается на облако отдельных клеток.
Поэтому палеонтолог в принципе не может обнаружить от животного типа трихоплакса ничего. Никто никогда в жизни не исследовал, как умирает вот это простейшее животное. Как умирает человек или гидра — известно. Как умирает простейшее животное, никому в голову не приходило посмотреть.
Но это еще не конец истории. Мы с Мишей решили поставить эксперимент и посмотреть, может ли вот это простейшее животное трихоплакс оставить не body fossils, не телесные останки, а какие-то следы от своего движения. Он же ползает, он же двигается, и мы с Мишей смоделировали вот эти вот следы. Оказалось, что он оставляет такие фантастические дорожки! А потом мы обнаружили в ископаемой летописи аналоги этих следов, неожиданных, ни на что не похожих, но они нашлись. Вот так наша работа по фоссилизации привела в результате к удивительному, совершенно неожиданному открытию.
— Я хочу уточнить. В ископаемой летописи вы обнаружили подтверждения этих дорожек, а раньше — они были описаны, но непонятно было, что это такое?
— Да, это называется «проблематичные следы», у них есть специальное название, это целый класс следов, называются «менискообразные следы».
— Далекому от науки человеку часто кажется, что ученых очень много и на каждый предмет есть хоть по одному. А что собой представляет сейчас российская палеонтология? Много ли в ней людей и как они себя чувствуют, как они финансируются?
— Я могу привести более или менее точные цифры про специалистов по трилобитам. Может быть, Саша потом скажет что-то другое про специалистов по морским ежам. Трилобиты — это такая огромная группа ископаемых членистоногих, которых в палеозое было чрезвычайно много.
В палеозое трилобиты встречаются всегда и везде, по ним делали стратиграфию, в 1970–80-х годах собирались даже специальные конференции по трилобитам, и они были огромные. И у нас в стране было, наверное, около 400–500 специалистов по трилобитам, так как это гигантская группа животных, огромная, очень разнообразная.
Были отдельные специалисты по трилобитам перми и девона, ордовика и кембрия. По одним только кембрийским трилобитам в Советском Союзе было примерно 150–200 специалистов. А сейчас нас осталось, работающих специалистов, наверное, четверо. И только по кембрию. По остальному палеозою нет ни одного специалиста.
— Ничего себе у вас цифры, у трилобитчиков. У морских ежей было в лучшие времена, где-то в 1950–60-е годы, дай бог, если несколько десятков на Советский Союз специалистов. А сейчас уже давно их вообще гораздо меньше.
— Отлично. Давайте из этих двух случаев выведем корреляцию: везде количество специалистов снижается по темам, а почему? С чем это связано?
— Палеонтология была в большой чести в определенный период истории Советского Союза, потому что всю геологическую корреляцию, геологическое картирование делали в основном по палеонтологическим данным.
— Всё картирование геологических тел: на какую глубину они уходят, до какой географической точки простираются эти геологические тела, где нужно бурить — это вам говорил палеонтолог.
— А сейчас есть очень точные методы абсолютного радиометрического датирования, и поэтому гораздо проще, чем заморачиваться с палеонтологом, который будет ковырять конодонтов и фораминифер из осадочных прослоев, просто взять магматический прослой в вашем керне и сдать на радиометрический анализ, вам возраст скажут — и всё.
— Кроме того, есть ультразвуковые зонды, которые обрисовывают очертания геологических тел гораздо точнее, лучше, чем это сделает палеонтолог.
— Так что народно-хозяйственное значение палеонтологии снизилось, мне кажется.
— А для интеллектуального развлечения, наверное, хватает нас, оставшихся.
— И второй фактор падения численности палеонтологов, который я бы назвал, это общий некий упадок такой области биологии, как биологическая систематика, музейное дело, коллекции. Потому что сейчас молекулярная филогенетика вытеснила классическую систематику, классическая систематика уже считается чуть ли не лженаукой, и, соответственно, сокращается число музейных работников, число таких людей, которые сидят при музее, определяют 80 лет жучков, пишут определители по усикам, по лапкам. Сейчас уже считается, что жучка надо просто гомогенизировать, засунуть в секвенатор и получить последовательность ДНК — и всё про этого жучка станет ясно. А рассматривать его лапки и вовсе незачем.
— А это не так?
— Родственные связи жучков по ДНК действительно определять проще и надежнее, чем по усикам и лапкам. Но вы при этом не поймете эволюцию жучка. Вы будете знать, как изменилась его нуклеотидная последовательность, но интересно-то на самом деле нам, биологам, почему у этого жучка такие усики.
— В какой он был среде, почему он так изменился?
— Да-да.
— Тогда эти методы должны дополнять друг друга. Почему один из них вдруг, как вы сказали, начинает считаться лженаукой?
— Лженаукой теперь считаются старые методы систематики, когда люди просто много лет изучали какую-то группу, разглядывали сотни, тысячи жучков и потом просто своим экспертным мнением объявляли, что вот второй членик антенны — это важнейший признак для выделения семейств. А первый членик антенн — это родовой признак. Мог появиться другой специалист, который говорит наоборот: «Нет, это фигня. Вот как раз второй членик усиков — это родовой признак. А как семейственный он не работает». И невозможно было разрешить такой спор, если два крупных мировых эксперта сталкивались лбами.
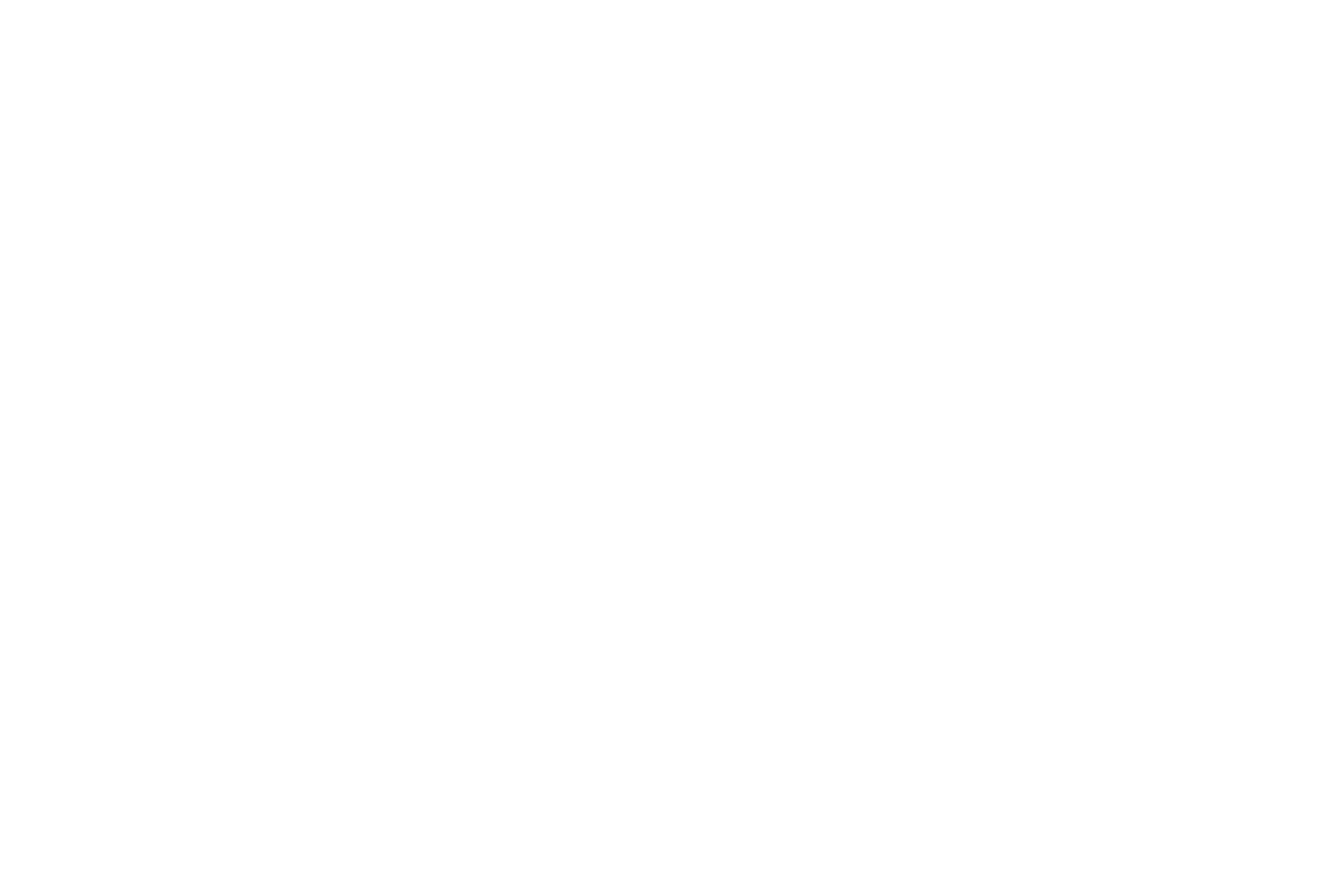
Фотограф: Надежда Андреенко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— А тут появился третейский судья в образе секвенатора.
— Точно. И, в общем, это очень похоже, действительно, на объективный критерий, потому что да, нейтральные мутации накапливаются по определенным статистическим закономерностям с определенной скоростью. Трудно спорить, что это более объективный способ.
— Проблема в том, что классические систематики, которые на усики и членики смотрят, не очень верят молекулярным биологам, мягко выражаясь. А молекулярные биологи этих, которые усики изучают, тоже ни в грош не ставят: «Да ну, старье, зачем нам это всё нужно?»
А так как наука — это всё-таки скорее удел молодых, так считается, по крайней мере, то всё это старье довольно быстро выходит на свалку, и о нём забывают. И у меня есть по этому поводу такой довольно странный пример. Раньше как определяли, из чего построен скелет ископаемого животного? Брали, капали каким-то специальным реагентом. Окрасилось в голубой цвет — так, кальций есть. Окрасилось в желтый цвет — так, значит, там есть барий и стронций. Всё отлично.
Эти наборы реактивов прекрасно работали, быстро и очень эффективно. Некоторое время назад, лет, наверное, 20 назад, когда развилась приборная аналитика, молодые специалисты решили, что реагенты ни к чему: «Сейчас на атомном спектрометре посмотрим. Вот, кальций есть. Вот барий. Всё, ваши, значит, реактивы можно на свалку».
И сейчас уже никто не помнит, какими пользоваться реактивами. У некоторых специалистов они остались на полках, на тех, которые высоко под потолком. Если там порыться, то есть и справочники, как готовить эти реактивы. Наверное.
И ведь иногда (а то и часто) очень хочется быстро взять и посмотреть, что у тебя тут за кость такая. И реактивы работают лучше, чем аналитика, потому что это очень дешево, на них не нужно специальных сеансов приборного времени, не нужно искать связи, получать гранты. Но уже мало кто помнит, что это за реактивы такие.
— Нам придется через какое-то время заводить палеонтологов науки.
— [Смеется.] Я не знаю. Но, в общем, такая вот история произошла с химической палеонтологией, к сожалению. Сейчас все уповают на эти приборные, молекулярные методы, хотя мне жалко, что старые, проверенные уже ушли и о них все забыли.
— Жалко, когда какие-то области науки умирают, хотя они могли бы еще пригодиться. Но вообще-то прогресс везде, безусловно, хорош. И эти анализаторы лучше, чем эти реактивы. Но сейчас вот, когда нужно найти специалиста по какому-нибудь семейству мух, оказывается, что в стране нет ни одного, а то и во всём мире нет. Семейство мух есть, там может быть тысяча видов, а специалистов нет, как в том анекдоте, да? [Смеются.]
— Где чаще приходится работать и с чем интереснее: с научными открытиями или с научными закрытиями? Накопилось, наверное, столько всего за последние хотя бы десятки лет, столько гипотез, предположений, экспериментов, что мне кажется, что часть из них надо уже закрыть.
— Наша кафедра специализируется на научных закрытиях. Наша дрозофилийная группа сделала два научных закрытия. Собственно, это были те идеи, которые побудили меня заняться дрозофилами.
В 80-е годы вышла сенсационная статья в журнале Evolution, что, дескать, посадили дрозофил, мух на разные корма, и за несколько поколений адаптации к этим разным неблагоприятным для них кормам эти линии фактически стали превращаться в разные виды, и когда их ссаживали вместе, они уже не хотели друг с другом скрещиваться. А вот свои со своими скрещивались.
— Может, они просто друг другу не нравились, а способность оставалась?
— А это неважно. Для того чтобы была репродуктивная изоляция, совершенно неважно, по каким причинам они не скрещиваются: потому что не могут, или потому что не хотят, или потому что хотят, но не очень. Важно, что зародилась частичная репродуктивная изоляция. Первый шаг к видообразованию — это очень круто. А всего лишь потому, что они десять поколений жили на разной диете. Меня очень вдохновили в свое время эти результаты, потом еще была пара статей, где это вроде как воспроизводилось.
— Он лет пять обдумывал.
— Ну да, может быть, даже больше. Потом, когда я пришел на кафедру эволюции и узнал, что там есть дрозофилы, есть возможность их разводить, я сразу затеял эксперимент: мы поймали дрозофилу на помойке и посадили на разные корма у себя в лаборатории. Я верил в результаты коллег и думал: вот мы сейчас получим лабораторную модель начальных этапов видообразования и будем изучать, почему они отказываются скрещиваться, от каких факторов это зависит, можно ли дальше, совсем из них сделать полностью изолированные виды таким способом.
— А ваши взяли и не отказались скрещиваться.
— Ну, грубо говоря, да. То есть если всё сделать так, как наши предшественники, то действительно возникает впечатление, что вроде бы они не хотят друг с другом скрещиваться. А на самом деле это не так. Это иллюзия, которая возникает просто в силу того, что линии, содержащиеся на разных плохих диетах, начинают различаться просто по своей активности, энергичности и, так сказать, мотивированности. И когда их ссаживают всех вместе, самцов и самок из обеих линий, то сильные и бодрые находят друг друга первыми и скрещиваются друг с другом. Остаются слабые, которым уже ничего не остается, кроме как спустя два часа скреститься друг с другом.
Но если мы возьмем конкурентный тест — одна самка и за нее конкурируют два самца из двух разных линий, если бы это была избирательность, то побеждал бы свой самец, из той же линии, что и самка.
— А побеждает вместо этого сильнейший, что рушит гипотезу. Но это не совсем закрытие, это, может быть, можно считать новым открытием. Я когда спрашивал про закрытия, хотел спросить, удобно ли с точки зрения научной карьеры ими заниматься. Потому что всё равно, наверное, интереснее делать открытия, чем закрытия.
— Да мы же не хотели ничего закрывать, мы надеялись воспроизвести и развивать эту тему дальше. Второй пример — с культурой у дрозофил. Шикарнейшая серия публикаций была у французских коллег, что, дескать, у дрозофил есть социальное обучение, культура, культурные традиции. Самка смотрит, с какими самцами спариваются другие самки, и после этого сама предпочитает спариваться тоже с такими самцами, с модными.
— С этими же или с такими же?
— С такими же. Там пудрили самцов зеленой и розовой пудрой и устраивали демонстрацию. Вот наивная девственная самка смотрит через тонкое стеклышко на другую самку…
— Которая спаривается с розовым самцом.
— А зеленого отвергает. И после наблюдения этого зрелища наблюдательнице тоже предлагают двух самцов на выбор. А она уже знает, что…
— Розовые лучше.
— Что, дрозофилы настолько ориентируются на цвет?
— По этим статьям получалось, что да. Ну конечно, они цвет различают, но надо сказать, что в выборе партнера огромную роль играют запахи, контактные, нелетучие феромоны, облизывание брюшка и звуки, потому что самец поет песенку ухаживания. Внешнее зрение не такую уж важную роль играет. Но вот такие были публикации.
Мы попытались воспроизвести их эксперименты, но у нас ничего не воспроизвелось, хотя мы очень старались. Наши самки-наблюдательницы спаривались, но не меняли свои базовые предпочтения после того, как наблюдали других самок, спаривающихся с самцом определенного цвета. Никакого эффекта.
— Лена, а у вас были такие случаи, когда что-то такое вызвало восторг, мол, давайте повторим, но что-то не выходит?
— Однажды я делала каталог трилобитов по своей группе и очень рассчитывала в одном питерском музее, в коллекции, найти один вид, эндемичный для Алтая. Он был описан, у него есть видовое название, у него есть голотип. Мне ужасно хотелось, чтобы этот экземпляр здесь нашелся.
И я поехала в музей в Питере, взяла этот описанный голотип, тот самый экземпляр. Это должен был быть экземпляр хвоста трилобита. А когда я на него посмотрела, это оказалась, во-первых, голова, а никакой не хвост, а во-вторых, вид, который был давно-давно описан, и распространенный в разных местах по миру. Я, с одной стороны, расстроилась, а с другой стороны, прикольно. [Смеются.] Такие вещи всё время случаются, но…
— Это завидное качество — воспринимать это как прикол.
— Наука иногда движется забавными путями. А еще случай у меня был интересный, когда я ставила эксперименты по фоссилизации.
Это эксперимент долгий, потому что фоссилизация может идти долго. Мой эксперимент шел 3 года. Я честно ждала 3 года. Ну конечно, я делала какие-то еще вещи в это время, не сидела сложа руки… И вот ко мне пришел электрик менять лампу. А у меня в кабинете стоят высокие такие пробирки, в которых налит толстый слой осадка, в котором, собственно, и происходит фоссилизация.
Всё подписано, всё честь по чести. И вдруг этот электрик своей лестницей, не знаю даже как, просто взял и часть пробирок мне скинул на пол. Они разбились. Эксперимент уже шел к этому времени 2,5 года и уже заканчивался. А у меня там повторности, естественно, стояли с контролями, всё как нужно. Оказалось, что он своей лестницей сбил все контроли. Если бы он какие-то экспериментальные повторности сбил, ну чёрт с ним, просто хуже была бы статистика… Но когда сбивают контроль, сравнить не с чем, поэтому весь трехлетний эксперимент на выброс. Я сначала плакала, потом смеялась. [Смеется.] Да, так тоже бывает.
— У вас чудесный характер. Я бы, наверное, только плакал.
— Я стала смеяться, когда одна моя коллега — всё же переживали все за мой эксперимент — пришла ко мне с предложением. Этот эксперимент был на минерале, который очень трудно было достать. Тогда, в кембрии, его было много, а сейчас нет, мне из геологического музея дали какой-то кусочек, и я его использовала. И она мне говорила: «Лена, ну ты не плачь. Вот у меня есть из этого минерала заколка. Давай ее размелем и поставим новый эксперимент. Я тебе свою заколку отдам». И тут мне стало смешно. [Смеется.]
Вроде как наука, а вроде как жизнь. Пришел электрик менять лампу. И нет кусочка науки! Пришла коллега с заколкой — и есть кусочек обратно.
— Я последние лет 15 разговариваю со многими учеными так или иначе. И вижу, что в некоторых областях происходит просто революция. Материаловедение вообще перелицевалось полностью. А в вашей области новые методы и инструменты принесли что-нибудь такое прямо совсем потрясающее?
— Возьмем последние 15 лет. До этого времени вся наука палеонтология базировалась на скелетах, зубах, твердых каких-то частях, оставшихся от животных, и считалось, и учили, что ничего, кроме вот этих твердых минерализованных частей, остаться в принципе не может. А если что-то остается, то это какая-то абсолютная экзотика, курьез, и вообще обращать внимание на это не нужно, потому что это на самом деле не тот массовый материал, на котором можно делать сколько-то содержательные выводы. И теория формирования ископаемых тоже была заточена под минеральные находки. Идет перминерализация твердых частей тела, то есть они впитывают в себя те или иные соли, становятся твердыми или, не знаю, какими-то другими по составу. Всё, точка.
Но что произошло лет, наверное, 15–20 назад? Тогда люди согласились увидеть и признать то, что на самом деле уже было, но они-то считали, что это курьез и что этого быть не может. Увидеть огромное количество ископаемых остатков мягкотелых организмов: медуз, червяков, членистоногих.
Тех, кто не имеет ни зубов, ни панцирей никаких, ни ракушек — ничего. И оказалось, что таких ископаемых чрезвычайно много. Есть такой термин «лагерштетт» — это местонахождение с остатками бесскелетных организмов. Так вот, до 2000 года таких лагерштеттов было известно примерно, может быть, два-три десятка. И видов было описано тоже несколько десятков. Лет 10–15 назад люди согласились, что лагерштетты не экзотика, а норма, надо только искать получше. И начали очень быстро находить такие места с сохранными остатками мягкотелых животных. Так что теперь их известно не меньше 700–800.
— Это прямо взрыв количества данных получился.
— Настоящий взрыв! Кроме того, оказалось, что морфология, строение этих ископаемых животных в местонахождениях типа лагерштеттов сохраняются с гораздо большей детальностью, они гораздо информативнее, чем в обычном каменном материале. Ну вот что мы можем восстановить по ракушке? Где у них там, может быть, прикреплялся мускул. Всё. А что мы видим на этих лагерштеттах? Мускулы, пищеварительные тракты, у некоторых сохраняются даже какие-то сосуды. Описана детально нервная система кембрийских предков хелицеровых. Видно, как нервы идут в голове и туловище! То есть информации стало гораздо больше.
Кроме того, изменилось полностью наше представление о том, как идет сама фоссилизация, потому что отмерший мягкотелый трупик не будет очень долго ждать, пока его пропитают какие-то окружающие соли из поровых вод или еще откуда-нибудь, он просто разложится на молекулы. Раз он всё же сохраняется, значит, дело не в пропитке солями. Огромное, огромное количество новой информации, и гораздо большей детальности. С чем это сравнить? Ну это примерно как… после светового микроскопа перейти на электронный. Примерно такая же революция у нас произошла в палеонтологии.
И сейчас, конечно, по крайней мере на Западе, львиная доля палеонтологов занимается ископаемыми из лагерштеттов. У нас, к сожалению, специалистов по лагерштеттам практически нет. Ну еще появятся, конечно.
— Наш бывший директор Алексей Юрьевич Розанов говорил, что все ваши лагерштетты — это фигня, надо изучать нормальную палеонтологию.
— Точно. И, в общем, это очень похоже, действительно, на объективный критерий, потому что да, нейтральные мутации накапливаются по определенным статистическим закономерностям с определенной скоростью. Трудно спорить, что это более объективный способ.
— Проблема в том, что классические систематики, которые на усики и членики смотрят, не очень верят молекулярным биологам, мягко выражаясь. А молекулярные биологи этих, которые усики изучают, тоже ни в грош не ставят: «Да ну, старье, зачем нам это всё нужно?»
А так как наука — это всё-таки скорее удел молодых, так считается, по крайней мере, то всё это старье довольно быстро выходит на свалку, и о нём забывают. И у меня есть по этому поводу такой довольно странный пример. Раньше как определяли, из чего построен скелет ископаемого животного? Брали, капали каким-то специальным реагентом. Окрасилось в голубой цвет — так, кальций есть. Окрасилось в желтый цвет — так, значит, там есть барий и стронций. Всё отлично.
Эти наборы реактивов прекрасно работали, быстро и очень эффективно. Некоторое время назад, лет, наверное, 20 назад, когда развилась приборная аналитика, молодые специалисты решили, что реагенты ни к чему: «Сейчас на атомном спектрометре посмотрим. Вот, кальций есть. Вот барий. Всё, ваши, значит, реактивы можно на свалку».
И сейчас уже никто не помнит, какими пользоваться реактивами. У некоторых специалистов они остались на полках, на тех, которые высоко под потолком. Если там порыться, то есть и справочники, как готовить эти реактивы. Наверное.
И ведь иногда (а то и часто) очень хочется быстро взять и посмотреть, что у тебя тут за кость такая. И реактивы работают лучше, чем аналитика, потому что это очень дешево, на них не нужно специальных сеансов приборного времени, не нужно искать связи, получать гранты. Но уже мало кто помнит, что это за реактивы такие.
— Нам придется через какое-то время заводить палеонтологов науки.
— [Смеется.] Я не знаю. Но, в общем, такая вот история произошла с химической палеонтологией, к сожалению. Сейчас все уповают на эти приборные, молекулярные методы, хотя мне жалко, что старые, проверенные уже ушли и о них все забыли.
— Жалко, когда какие-то области науки умирают, хотя они могли бы еще пригодиться. Но вообще-то прогресс везде, безусловно, хорош. И эти анализаторы лучше, чем эти реактивы. Но сейчас вот, когда нужно найти специалиста по какому-нибудь семейству мух, оказывается, что в стране нет ни одного, а то и во всём мире нет. Семейство мух есть, там может быть тысяча видов, а специалистов нет, как в том анекдоте, да? [Смеются.]
— Где чаще приходится работать и с чем интереснее: с научными открытиями или с научными закрытиями? Накопилось, наверное, столько всего за последние хотя бы десятки лет, столько гипотез, предположений, экспериментов, что мне кажется, что часть из них надо уже закрыть.
— Наша кафедра специализируется на научных закрытиях. Наша дрозофилийная группа сделала два научных закрытия. Собственно, это были те идеи, которые побудили меня заняться дрозофилами.
В 80-е годы вышла сенсационная статья в журнале Evolution, что, дескать, посадили дрозофил, мух на разные корма, и за несколько поколений адаптации к этим разным неблагоприятным для них кормам эти линии фактически стали превращаться в разные виды, и когда их ссаживали вместе, они уже не хотели друг с другом скрещиваться. А вот свои со своими скрещивались.
— Может, они просто друг другу не нравились, а способность оставалась?
— А это неважно. Для того чтобы была репродуктивная изоляция, совершенно неважно, по каким причинам они не скрещиваются: потому что не могут, или потому что не хотят, или потому что хотят, но не очень. Важно, что зародилась частичная репродуктивная изоляция. Первый шаг к видообразованию — это очень круто. А всего лишь потому, что они десять поколений жили на разной диете. Меня очень вдохновили в свое время эти результаты, потом еще была пара статей, где это вроде как воспроизводилось.
— Он лет пять обдумывал.
— Ну да, может быть, даже больше. Потом, когда я пришел на кафедру эволюции и узнал, что там есть дрозофилы, есть возможность их разводить, я сразу затеял эксперимент: мы поймали дрозофилу на помойке и посадили на разные корма у себя в лаборатории. Я верил в результаты коллег и думал: вот мы сейчас получим лабораторную модель начальных этапов видообразования и будем изучать, почему они отказываются скрещиваться, от каких факторов это зависит, можно ли дальше, совсем из них сделать полностью изолированные виды таким способом.
— А ваши взяли и не отказались скрещиваться.
— Ну, грубо говоря, да. То есть если всё сделать так, как наши предшественники, то действительно возникает впечатление, что вроде бы они не хотят друг с другом скрещиваться. А на самом деле это не так. Это иллюзия, которая возникает просто в силу того, что линии, содержащиеся на разных плохих диетах, начинают различаться просто по своей активности, энергичности и, так сказать, мотивированности. И когда их ссаживают всех вместе, самцов и самок из обеих линий, то сильные и бодрые находят друг друга первыми и скрещиваются друг с другом. Остаются слабые, которым уже ничего не остается, кроме как спустя два часа скреститься друг с другом.
Но если мы возьмем конкурентный тест — одна самка и за нее конкурируют два самца из двух разных линий, если бы это была избирательность, то побеждал бы свой самец, из той же линии, что и самка.
— А побеждает вместо этого сильнейший, что рушит гипотезу. Но это не совсем закрытие, это, может быть, можно считать новым открытием. Я когда спрашивал про закрытия, хотел спросить, удобно ли с точки зрения научной карьеры ими заниматься. Потому что всё равно, наверное, интереснее делать открытия, чем закрытия.
— Да мы же не хотели ничего закрывать, мы надеялись воспроизвести и развивать эту тему дальше. Второй пример — с культурой у дрозофил. Шикарнейшая серия публикаций была у французских коллег, что, дескать, у дрозофил есть социальное обучение, культура, культурные традиции. Самка смотрит, с какими самцами спариваются другие самки, и после этого сама предпочитает спариваться тоже с такими самцами, с модными.
— С этими же или с такими же?
— С такими же. Там пудрили самцов зеленой и розовой пудрой и устраивали демонстрацию. Вот наивная девственная самка смотрит через тонкое стеклышко на другую самку…
— Которая спаривается с розовым самцом.
— А зеленого отвергает. И после наблюдения этого зрелища наблюдательнице тоже предлагают двух самцов на выбор. А она уже знает, что…
— Розовые лучше.
— Что, дрозофилы настолько ориентируются на цвет?
— По этим статьям получалось, что да. Ну конечно, они цвет различают, но надо сказать, что в выборе партнера огромную роль играют запахи, контактные, нелетучие феромоны, облизывание брюшка и звуки, потому что самец поет песенку ухаживания. Внешнее зрение не такую уж важную роль играет. Но вот такие были публикации.
Мы попытались воспроизвести их эксперименты, но у нас ничего не воспроизвелось, хотя мы очень старались. Наши самки-наблюдательницы спаривались, но не меняли свои базовые предпочтения после того, как наблюдали других самок, спаривающихся с самцом определенного цвета. Никакого эффекта.
— Лена, а у вас были такие случаи, когда что-то такое вызвало восторг, мол, давайте повторим, но что-то не выходит?
— Однажды я делала каталог трилобитов по своей группе и очень рассчитывала в одном питерском музее, в коллекции, найти один вид, эндемичный для Алтая. Он был описан, у него есть видовое название, у него есть голотип. Мне ужасно хотелось, чтобы этот экземпляр здесь нашелся.
И я поехала в музей в Питере, взяла этот описанный голотип, тот самый экземпляр. Это должен был быть экземпляр хвоста трилобита. А когда я на него посмотрела, это оказалась, во-первых, голова, а никакой не хвост, а во-вторых, вид, который был давно-давно описан, и распространенный в разных местах по миру. Я, с одной стороны, расстроилась, а с другой стороны, прикольно. [Смеются.] Такие вещи всё время случаются, но…
— Это завидное качество — воспринимать это как прикол.
— Наука иногда движется забавными путями. А еще случай у меня был интересный, когда я ставила эксперименты по фоссилизации.
Это эксперимент долгий, потому что фоссилизация может идти долго. Мой эксперимент шел 3 года. Я честно ждала 3 года. Ну конечно, я делала какие-то еще вещи в это время, не сидела сложа руки… И вот ко мне пришел электрик менять лампу. А у меня в кабинете стоят высокие такие пробирки, в которых налит толстый слой осадка, в котором, собственно, и происходит фоссилизация.
Всё подписано, всё честь по чести. И вдруг этот электрик своей лестницей, не знаю даже как, просто взял и часть пробирок мне скинул на пол. Они разбились. Эксперимент уже шел к этому времени 2,5 года и уже заканчивался. А у меня там повторности, естественно, стояли с контролями, всё как нужно. Оказалось, что он своей лестницей сбил все контроли. Если бы он какие-то экспериментальные повторности сбил, ну чёрт с ним, просто хуже была бы статистика… Но когда сбивают контроль, сравнить не с чем, поэтому весь трехлетний эксперимент на выброс. Я сначала плакала, потом смеялась. [Смеется.] Да, так тоже бывает.
— У вас чудесный характер. Я бы, наверное, только плакал.
— Я стала смеяться, когда одна моя коллега — всё же переживали все за мой эксперимент — пришла ко мне с предложением. Этот эксперимент был на минерале, который очень трудно было достать. Тогда, в кембрии, его было много, а сейчас нет, мне из геологического музея дали какой-то кусочек, и я его использовала. И она мне говорила: «Лена, ну ты не плачь. Вот у меня есть из этого минерала заколка. Давай ее размелем и поставим новый эксперимент. Я тебе свою заколку отдам». И тут мне стало смешно. [Смеется.]
Вроде как наука, а вроде как жизнь. Пришел электрик менять лампу. И нет кусочка науки! Пришла коллега с заколкой — и есть кусочек обратно.
— Я последние лет 15 разговариваю со многими учеными так или иначе. И вижу, что в некоторых областях происходит просто революция. Материаловедение вообще перелицевалось полностью. А в вашей области новые методы и инструменты принесли что-нибудь такое прямо совсем потрясающее?
— Возьмем последние 15 лет. До этого времени вся наука палеонтология базировалась на скелетах, зубах, твердых каких-то частях, оставшихся от животных, и считалось, и учили, что ничего, кроме вот этих твердых минерализованных частей, остаться в принципе не может. А если что-то остается, то это какая-то абсолютная экзотика, курьез, и вообще обращать внимание на это не нужно, потому что это на самом деле не тот массовый материал, на котором можно делать сколько-то содержательные выводы. И теория формирования ископаемых тоже была заточена под минеральные находки. Идет перминерализация твердых частей тела, то есть они впитывают в себя те или иные соли, становятся твердыми или, не знаю, какими-то другими по составу. Всё, точка.
Но что произошло лет, наверное, 15–20 назад? Тогда люди согласились увидеть и признать то, что на самом деле уже было, но они-то считали, что это курьез и что этого быть не может. Увидеть огромное количество ископаемых остатков мягкотелых организмов: медуз, червяков, членистоногих.
Тех, кто не имеет ни зубов, ни панцирей никаких, ни ракушек — ничего. И оказалось, что таких ископаемых чрезвычайно много. Есть такой термин «лагерштетт» — это местонахождение с остатками бесскелетных организмов. Так вот, до 2000 года таких лагерштеттов было известно примерно, может быть, два-три десятка. И видов было описано тоже несколько десятков. Лет 10–15 назад люди согласились, что лагерштетты не экзотика, а норма, надо только искать получше. И начали очень быстро находить такие места с сохранными остатками мягкотелых животных. Так что теперь их известно не меньше 700–800.
— Это прямо взрыв количества данных получился.
— Настоящий взрыв! Кроме того, оказалось, что морфология, строение этих ископаемых животных в местонахождениях типа лагерштеттов сохраняются с гораздо большей детальностью, они гораздо информативнее, чем в обычном каменном материале. Ну вот что мы можем восстановить по ракушке? Где у них там, может быть, прикреплялся мускул. Всё. А что мы видим на этих лагерштеттах? Мускулы, пищеварительные тракты, у некоторых сохраняются даже какие-то сосуды. Описана детально нервная система кембрийских предков хелицеровых. Видно, как нервы идут в голове и туловище! То есть информации стало гораздо больше.
Кроме того, изменилось полностью наше представление о том, как идет сама фоссилизация, потому что отмерший мягкотелый трупик не будет очень долго ждать, пока его пропитают какие-то окружающие соли из поровых вод или еще откуда-нибудь, он просто разложится на молекулы. Раз он всё же сохраняется, значит, дело не в пропитке солями. Огромное, огромное количество новой информации, и гораздо большей детальности. С чем это сравнить? Ну это примерно как… после светового микроскопа перейти на электронный. Примерно такая же революция у нас произошла в палеонтологии.
И сейчас, конечно, по крайней мере на Западе, львиная доля палеонтологов занимается ископаемыми из лагерштеттов. У нас, к сожалению, специалистов по лагерштеттам практически нет. Ну еще появятся, конечно.
— Наш бывший директор Алексей Юрьевич Розанов говорил, что все ваши лагерштетты — это фигня, надо изучать нормальную палеонтологию.
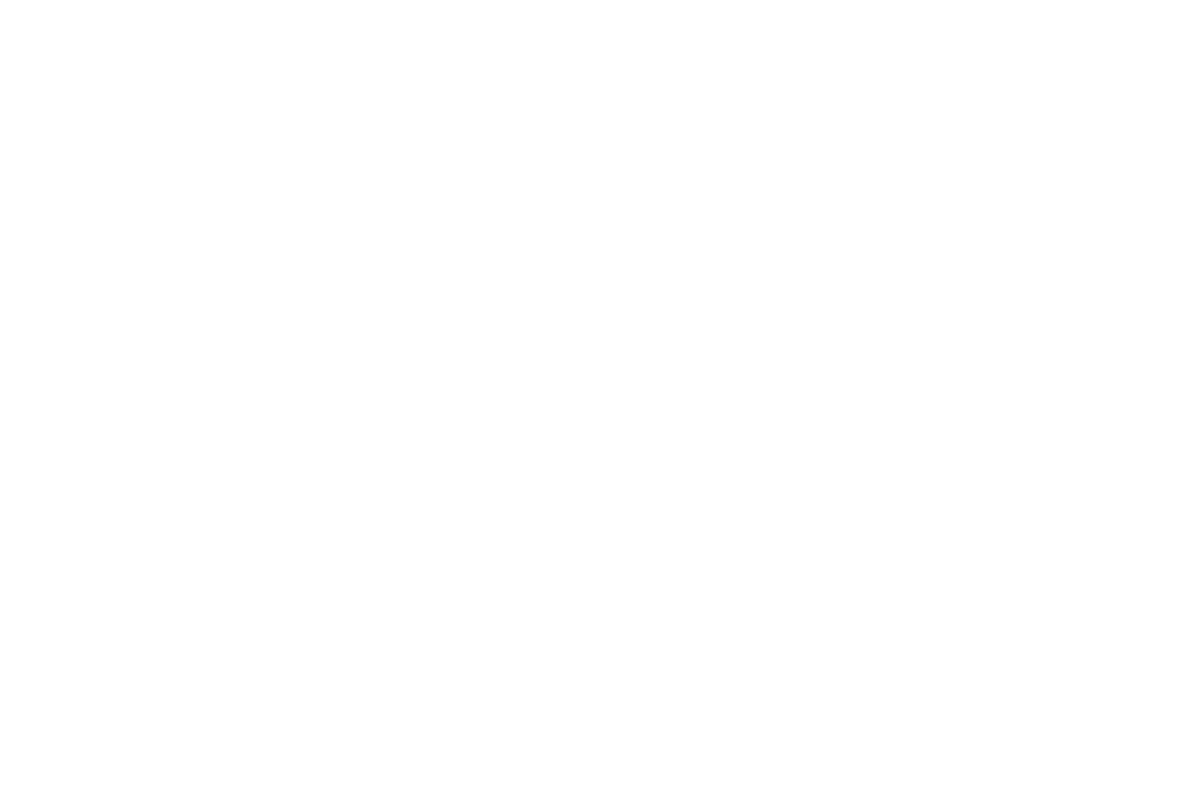
Фотограф: Надежда Андреенко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— А нормальная — это какая?
— Ракушки, зубы, панцири. А это всё ерунда, это всё вы не делом занимаетесь. Но если посмотреть на общий тренд в палеонтологии, на то, что публикуется в наших интересных научных журналах, то это будет в большой мере информация по мягкотелым остаткам.
— Мне кажется, что за последние, сколько вы сказали, 15 лет случился грандиозный прорыв вообще в понимании того, что происходило в докембрии. То есть мы сейчас видим докембрийскую историю жизни на Земле гораздо детальнее, чем 15 лет назад, во всех отношениях. Дело не только в лагерштеттах — геологи тоже очень здорово продвинулись: как формировались материки, как вот эта тектоника плит эволюционировала с течением времени, почему и как менялся уровень кислорода и почему происходил вот этот скучный миллиард, почему там было сероводородное заражение. Стала ясна роль геологических процессов в эволюции жизни на Земле. И наоборот, роль биологических процессов в геологической эволюции планеты. Хотя в середине прошлого века это была такая terra incognita, докембрийская жизнь, «затерянный мир» Дарвина. Дарвин-то его еще вообще не знал, при Дарвине еще не была известна никакая жизнь в докембрии.
— А еще же есть палеогенетика. Она, собственно, появилась в это время. И развилась в фантастическую область науки, просто феноменально огромную, интереснейшую, очень полезную для нас для всех.
— Это один из самых ярких и неожиданных прорывов, то, во что почти никто не верил, что научатся выделять ДНК ископаемых организмов. И долго большинство ученых считало, что это нереально, что ДНК не сохраняется так долго.
— И когда Сванте Паабо начал свои эксперименты с клетками мумий, он держал это в тайне, потому что он совершенно справедливо считал, что его засмеют. Он еще в студенческие годы заинтересовался историей Древнего Египта, пытался у историков какие-то курсы слушать, но они его страшно разочаровали: чушь какая-то, домыслы. И он в собственный отпуск поехал в Берлин, ему дали поковыряться в мумиях, он взял пробы из нескольких мумий — и вдруг, о боже мой, обнаружил там клетки с ядрами. Это было просто чудо, статья об этом вышла в конце 80-х годов. Вот это и было зарождение науки палеогенетики, когда обнаружилось, что там, в этих клетках мумий, красится ДНК, просто обычным гистологическим способом красится. А через 5 или 6 лет Паабо уже прочитал первые гены в кости неандертальца.
— И это действительно выглядит как чудо, потому что было впечатление, что тайны глубокого прошлого человеческой истории никогда не разгадают. Эти классические антропологи могли бы еще веками спорить, где произошел Homo sapiens. Было совершенно непонятно, как проверять и доказывать гипотезы о происхождении человека, потому что кости, черепа, зубы — их эволюцию можно интерпретировать множеством способов. То есть не всегда сходство зубов говорит о родстве, это просто конвергенция.
— Ну понятно, да, что денисовский человек появился на свет благодаря палеогенетике.
— Исключительно благодаря ей. И теперь мы знаем, что было как минимум три разных популяции денисовцев, которые в разных местах и в разное время скрещивались с сапиенсами, тоже с разными группами сапиенсов.
А теперь научились даже из пещерных отложений, просто из грунта ДНК выделять. И тогда можно понять, кто там жил. Даже костей вообще нет, никаких, а в пещерном грунте сохранилась человеческая ДНК. И это позволило связать орудия из определенного слоя в Денисовой пещере именно с денисовцами. То есть понять, какая у них была материальная культура.
— Костей нет, а человек есть.
— Это сногсшибательно вообще. И это всё именно за последние 15 лет появилось.
— Давайте сыграем в прогноз. Что мы узнаем потрясающего следующим номером или какие новые научные инструменты хочется получить?
— Вот что бы хотелось изменить, что бы хотелось увидеть в будущем — это другую организацию науки, чтобы мы не были до такой степени зависимы от публикаций в хороших журналах или в плохих журналах. И чтобы, конечно, у ученого был более какой-то легкий доступ ко всяким «пещерам Аладдина». Приходишь в какой-нибудь Курчатовский институт, там есть всё! Всё! И думаешь: так, я бы это сделал, это, это, это и могу все свои гипотезы проверить! А тебе говорят: э, нет, посмотреть на экскурсии вы можете, а вот воспользоваться — нет.
— Хочу, чтобы стоял на столе у каждого ученого такой небольшой, компактный приборчик, который бы делал всё. Здесь вот, допустим, ты капаешь капельку гомогенизированного жука, нажимаешь кнопочку, тебе через 30 секунд готов, прочтен геном, собран, все хромосомки, проаннотирован, все гены найдены, энхансеры и полный, значит, отчет. И еще с реконструкцией фенотипа по этому геному.
— О чём вы спорите на кухне? Вы оба умные симпатичные люди, я себе не могу представить, что вы действительно кидаете друг в друга пробирками.
— Ой, вы даже не представляете себе. Мы когда были студентами, мы спорили ужасно… Мы шли домой, я помню, я доказывала, что математическое моделирование — это совершенно прекрасный исследовательский метод, а Александр Владимирович, тогда еще тоже студент, говорил, что я вообще-то не биолог, раз так говорю, и рассуждать про моделирование — это чушь собачья.
Мы орали на улице, почти развелись к концу скандала. Но потом я его научила программировать, через год, наверное, он занялся моделированием. Такой был у нас прекрасный скандал. Я помню, потому что мы скандалили на улице, очень громко, остановиться не могли, на тему, кто же из нас настоящий биолог. [Смеются.] Помнишь?
— Ну насчет того, что «я тебя научила моделировать», это вообще круто. На самом деле мы обычно выясняем, кто из нас кого уважает, во время этих скандалов. Вот, например, не ты меня научила программировать. Я сам пошел в библиотеку!
— А когда мы занимались мухами, мы скандалили, какие нам контроли ставить. Я хотела побольше контролей, а Александр Владимирович говорил, что этого хватит.
—Но это как бы технологические разногласия. А у вас есть научные разногласия? Вы же уникальный случай: два ученых, которые живут вместе, и работают в одной области практически, и пишут вместе. Любопытно, как вам удается выживать.
— Ну как-то договариваемся. Вот, скажем, Саша сделал свою модель культурного драйва. Там же очень много построено на предположениях, на гипотезах. И мы много спорили по поводу того, какая гипотеза основная, какую стоит моделировать, какую не стоит моделировать. У нас были серьезные споры, например, вводить ли фактор репутации в модели? Я говорила, что репутация — это очень важно, обязательно нужно вводить, ну как же без этого? Это очень значимый фактор общественной жизни, основополагающий.
— Я бы согласился, наверное.
— А Александр Владимирович говорил: нет, ты ничего не понимаешь. Я правильно говорю? Мы спорили на эту тему долго.
— Смотря какая задача ставится. Я сейчас подумал, что самая интересная задача была бы — эволюция в культуре репутации. При каких условиях она сама возникла? Просто если ввести туда репутацию, скажем, что самый крутой охотник получает самую большую долю, то результаты будут вполне предсказуемы.
Ну да, они будут все очень стараться становиться хорошими охотниками. Ну и что? Но откуда возьмется эта репутация? Можно было бы попытаться смоделировать, что сначала никакого института репутации нет, но есть, в принципе, возможность, что такая культура разовьется, и посмотреть, когда она разовьется, а когда нет.
Модель такая, что туда можно, да, добавлять бесконечное разнообразие всяких факторов. Действительно, у меня есть какие-то свои идеи о том, что в первую очередь туда нужно добавить. У Ленки какие-то свои. Но на самом деле это вообще всё никуда не движется, потому что ни у меня нет времени, ни у программистов нет времени этим заниматься. Эта работа такая очень времяемкая.
— Или я, например, говорю за завтраком: «Вот, я такая бедная, мне никто не помогает, я даже не знаю, что это я такое вижу на своем ископаемом зверьке, вот эта вот дырка — это рот или это не рот, а просто вмятина? Что мне, несчастной, делать? Я даже не знаю, где что читать. А ты мне не можешь помочь, и вообще тебе наплевать на то, чем я занимаюсь». Ну и так далее в таком же минорном духе. Александр Владимирович начинает говорить, что нет, мне не наплевать, но у меня своих дел очень много, зачем мне твои ракоскорпионы? В общем, мы ссоримся и расходимся. А через два часа он присылает мне статьи и говорит: «Я понял, это рот». [Смеется.]
— Ну да, ищешь, изучаешь эмбриональное развитие мечехвоста, скорпиона, еще какого-то тухлого жука, разглядываешь, где у него закладывается этот рот, как он расположен относительно их всех этих хелицер. И в итоге даешь резюме: да, эта ямочка может быть ртом.
— Кажется, это прекрасное окончание беседы. Но на прощание назовите по паре недавних книжек, которые вы бы рекомендовали прочитать тем миллионам людей, которые прочитают это интервью. А.М.: Я очень прицельно рекомендую сейчас две книги, которые считаю очень актуальными для тех, кто пытается всерьез понять, какого чёрта происходит в этом мире сейчас. Первая книга еще не переведена на русский язык, но, может быть, будет в будущем переведена, хотя сейчас трудно предсказывать будущее. Джозеф Хенрик, The WEIRDest People in the World. И там двухтомник, и я сейчас рекомендую именно второй том. Кому надо, пусть хоть скачают из Интернета и хоть Google Translate им переведет, потому что эта книга очень сейчас нужная и правильная.
Она объясняет, почему в одних странах такая культура, а в других сякая культура. Почему в одних есть уважение к личным свободам, а в других, значит, интересы государства превыше всего, роды, кланы и т. д. Почему одни хотят империю создать, а другие не очень. Там не про политику, там ровно про культуру.
Но тем не менее она очень актуальная, если вникнуть в то, что там изложено. И вторая книга, которая переведена на русский язык, которую все знают, которую я тоже очень целенаправленно именно сейчас всем рекомендую, это Пинкер, «Лучшее в нас», The Better Angels. Книга, которую бешено критикуют определенные круги людей, но эта критика в значительной части политически мотивирована и отчасти справедлива. Но там огромное количество глубоких, мудрых, правильных, актуальных соображений и ответов на актуальнейшие сегодня вопросы, включая, например, вопрос о том, который многих сейчас волнует, как люди, вроде бы с виду нормальные, добрые, симпатичные, человечные, могут на полном серьезе поддерживать и оправдывать чудовищные злодеяния, например. Как это вот психологически происходит? С точки зрения культуры, с точки зрения индивидуальной психологии — как это получается?
— Я, со своей стороны, считаю, что очень актуальная книга сейчас — это книга Райха «Кто мы и откуда мы пришли?». Райх, кстати, палеогенетик. Она может быть очень актуальна, если человек бьет себя в грудь и говорит: «Я русский!», «Я грузин!», «Я эстонец!», «Я американец!», «Я папуас!». Вот чтобы в принципе было понятно, что под этим имеется в виду и как воспринимать такие слова именно с точки зрения биологии.
Мы, например, считаем, что настоящий швед должен быть высоким, светловолосым, голубоглазым. Но Райх показывает, что в каком-нибудь V веке н. э. никаких таких шведов не было, а были какие-то темноволосые темнокожие люди на этой территории.
А светловолосые пришельцы прикатили на своих колесных повозках из байкальских степей, привнесли свои гены и сформировали образ нынешнего шведа. Поэтому очень трудно провести границу между любыми нациями, человеческими любыми популяциями.
— Ну, может быть, тогда порекомендовать еще и Сапольски «Биология добра и зла»?
— Я не стану, она очень толстая!
— Пинкер, я уже порекомендовал Пинкера, она вот такущей толщины. А книга Сапольски очень к ней в пару подойдет, она такая же. [Смеются.]
— Ракушки, зубы, панцири. А это всё ерунда, это всё вы не делом занимаетесь. Но если посмотреть на общий тренд в палеонтологии, на то, что публикуется в наших интересных научных журналах, то это будет в большой мере информация по мягкотелым остаткам.
— Мне кажется, что за последние, сколько вы сказали, 15 лет случился грандиозный прорыв вообще в понимании того, что происходило в докембрии. То есть мы сейчас видим докембрийскую историю жизни на Земле гораздо детальнее, чем 15 лет назад, во всех отношениях. Дело не только в лагерштеттах — геологи тоже очень здорово продвинулись: как формировались материки, как вот эта тектоника плит эволюционировала с течением времени, почему и как менялся уровень кислорода и почему происходил вот этот скучный миллиард, почему там было сероводородное заражение. Стала ясна роль геологических процессов в эволюции жизни на Земле. И наоборот, роль биологических процессов в геологической эволюции планеты. Хотя в середине прошлого века это была такая terra incognita, докембрийская жизнь, «затерянный мир» Дарвина. Дарвин-то его еще вообще не знал, при Дарвине еще не была известна никакая жизнь в докембрии.
— А еще же есть палеогенетика. Она, собственно, появилась в это время. И развилась в фантастическую область науки, просто феноменально огромную, интереснейшую, очень полезную для нас для всех.
— Это один из самых ярких и неожиданных прорывов, то, во что почти никто не верил, что научатся выделять ДНК ископаемых организмов. И долго большинство ученых считало, что это нереально, что ДНК не сохраняется так долго.
— И когда Сванте Паабо начал свои эксперименты с клетками мумий, он держал это в тайне, потому что он совершенно справедливо считал, что его засмеют. Он еще в студенческие годы заинтересовался историей Древнего Египта, пытался у историков какие-то курсы слушать, но они его страшно разочаровали: чушь какая-то, домыслы. И он в собственный отпуск поехал в Берлин, ему дали поковыряться в мумиях, он взял пробы из нескольких мумий — и вдруг, о боже мой, обнаружил там клетки с ядрами. Это было просто чудо, статья об этом вышла в конце 80-х годов. Вот это и было зарождение науки палеогенетики, когда обнаружилось, что там, в этих клетках мумий, красится ДНК, просто обычным гистологическим способом красится. А через 5 или 6 лет Паабо уже прочитал первые гены в кости неандертальца.
— И это действительно выглядит как чудо, потому что было впечатление, что тайны глубокого прошлого человеческой истории никогда не разгадают. Эти классические антропологи могли бы еще веками спорить, где произошел Homo sapiens. Было совершенно непонятно, как проверять и доказывать гипотезы о происхождении человека, потому что кости, черепа, зубы — их эволюцию можно интерпретировать множеством способов. То есть не всегда сходство зубов говорит о родстве, это просто конвергенция.
— Ну понятно, да, что денисовский человек появился на свет благодаря палеогенетике.
— Исключительно благодаря ей. И теперь мы знаем, что было как минимум три разных популяции денисовцев, которые в разных местах и в разное время скрещивались с сапиенсами, тоже с разными группами сапиенсов.
А теперь научились даже из пещерных отложений, просто из грунта ДНК выделять. И тогда можно понять, кто там жил. Даже костей вообще нет, никаких, а в пещерном грунте сохранилась человеческая ДНК. И это позволило связать орудия из определенного слоя в Денисовой пещере именно с денисовцами. То есть понять, какая у них была материальная культура.
— Костей нет, а человек есть.
— Это сногсшибательно вообще. И это всё именно за последние 15 лет появилось.
— Давайте сыграем в прогноз. Что мы узнаем потрясающего следующим номером или какие новые научные инструменты хочется получить?
— Вот что бы хотелось изменить, что бы хотелось увидеть в будущем — это другую организацию науки, чтобы мы не были до такой степени зависимы от публикаций в хороших журналах или в плохих журналах. И чтобы, конечно, у ученого был более какой-то легкий доступ ко всяким «пещерам Аладдина». Приходишь в какой-нибудь Курчатовский институт, там есть всё! Всё! И думаешь: так, я бы это сделал, это, это, это и могу все свои гипотезы проверить! А тебе говорят: э, нет, посмотреть на экскурсии вы можете, а вот воспользоваться — нет.
— Хочу, чтобы стоял на столе у каждого ученого такой небольшой, компактный приборчик, который бы делал всё. Здесь вот, допустим, ты капаешь капельку гомогенизированного жука, нажимаешь кнопочку, тебе через 30 секунд готов, прочтен геном, собран, все хромосомки, проаннотирован, все гены найдены, энхансеры и полный, значит, отчет. И еще с реконструкцией фенотипа по этому геному.
— О чём вы спорите на кухне? Вы оба умные симпатичные люди, я себе не могу представить, что вы действительно кидаете друг в друга пробирками.
— Ой, вы даже не представляете себе. Мы когда были студентами, мы спорили ужасно… Мы шли домой, я помню, я доказывала, что математическое моделирование — это совершенно прекрасный исследовательский метод, а Александр Владимирович, тогда еще тоже студент, говорил, что я вообще-то не биолог, раз так говорю, и рассуждать про моделирование — это чушь собачья.
Мы орали на улице, почти развелись к концу скандала. Но потом я его научила программировать, через год, наверное, он занялся моделированием. Такой был у нас прекрасный скандал. Я помню, потому что мы скандалили на улице, очень громко, остановиться не могли, на тему, кто же из нас настоящий биолог. [Смеются.] Помнишь?
— Ну насчет того, что «я тебя научила моделировать», это вообще круто. На самом деле мы обычно выясняем, кто из нас кого уважает, во время этих скандалов. Вот, например, не ты меня научила программировать. Я сам пошел в библиотеку!
— А когда мы занимались мухами, мы скандалили, какие нам контроли ставить. Я хотела побольше контролей, а Александр Владимирович говорил, что этого хватит.
—Но это как бы технологические разногласия. А у вас есть научные разногласия? Вы же уникальный случай: два ученых, которые живут вместе, и работают в одной области практически, и пишут вместе. Любопытно, как вам удается выживать.
— Ну как-то договариваемся. Вот, скажем, Саша сделал свою модель культурного драйва. Там же очень много построено на предположениях, на гипотезах. И мы много спорили по поводу того, какая гипотеза основная, какую стоит моделировать, какую не стоит моделировать. У нас были серьезные споры, например, вводить ли фактор репутации в модели? Я говорила, что репутация — это очень важно, обязательно нужно вводить, ну как же без этого? Это очень значимый фактор общественной жизни, основополагающий.
— Я бы согласился, наверное.
— А Александр Владимирович говорил: нет, ты ничего не понимаешь. Я правильно говорю? Мы спорили на эту тему долго.
— Смотря какая задача ставится. Я сейчас подумал, что самая интересная задача была бы — эволюция в культуре репутации. При каких условиях она сама возникла? Просто если ввести туда репутацию, скажем, что самый крутой охотник получает самую большую долю, то результаты будут вполне предсказуемы.
Ну да, они будут все очень стараться становиться хорошими охотниками. Ну и что? Но откуда возьмется эта репутация? Можно было бы попытаться смоделировать, что сначала никакого института репутации нет, но есть, в принципе, возможность, что такая культура разовьется, и посмотреть, когда она разовьется, а когда нет.
Модель такая, что туда можно, да, добавлять бесконечное разнообразие всяких факторов. Действительно, у меня есть какие-то свои идеи о том, что в первую очередь туда нужно добавить. У Ленки какие-то свои. Но на самом деле это вообще всё никуда не движется, потому что ни у меня нет времени, ни у программистов нет времени этим заниматься. Эта работа такая очень времяемкая.
— Или я, например, говорю за завтраком: «Вот, я такая бедная, мне никто не помогает, я даже не знаю, что это я такое вижу на своем ископаемом зверьке, вот эта вот дырка — это рот или это не рот, а просто вмятина? Что мне, несчастной, делать? Я даже не знаю, где что читать. А ты мне не можешь помочь, и вообще тебе наплевать на то, чем я занимаюсь». Ну и так далее в таком же минорном духе. Александр Владимирович начинает говорить, что нет, мне не наплевать, но у меня своих дел очень много, зачем мне твои ракоскорпионы? В общем, мы ссоримся и расходимся. А через два часа он присылает мне статьи и говорит: «Я понял, это рот». [Смеется.]
— Ну да, ищешь, изучаешь эмбриональное развитие мечехвоста, скорпиона, еще какого-то тухлого жука, разглядываешь, где у него закладывается этот рот, как он расположен относительно их всех этих хелицер. И в итоге даешь резюме: да, эта ямочка может быть ртом.
— Кажется, это прекрасное окончание беседы. Но на прощание назовите по паре недавних книжек, которые вы бы рекомендовали прочитать тем миллионам людей, которые прочитают это интервью. А.М.: Я очень прицельно рекомендую сейчас две книги, которые считаю очень актуальными для тех, кто пытается всерьез понять, какого чёрта происходит в этом мире сейчас. Первая книга еще не переведена на русский язык, но, может быть, будет в будущем переведена, хотя сейчас трудно предсказывать будущее. Джозеф Хенрик, The WEIRDest People in the World. И там двухтомник, и я сейчас рекомендую именно второй том. Кому надо, пусть хоть скачают из Интернета и хоть Google Translate им переведет, потому что эта книга очень сейчас нужная и правильная.
Она объясняет, почему в одних странах такая культура, а в других сякая культура. Почему в одних есть уважение к личным свободам, а в других, значит, интересы государства превыше всего, роды, кланы и т. д. Почему одни хотят империю создать, а другие не очень. Там не про политику, там ровно про культуру.
Но тем не менее она очень актуальная, если вникнуть в то, что там изложено. И вторая книга, которая переведена на русский язык, которую все знают, которую я тоже очень целенаправленно именно сейчас всем рекомендую, это Пинкер, «Лучшее в нас», The Better Angels. Книга, которую бешено критикуют определенные круги людей, но эта критика в значительной части политически мотивирована и отчасти справедлива. Но там огромное количество глубоких, мудрых, правильных, актуальных соображений и ответов на актуальнейшие сегодня вопросы, включая, например, вопрос о том, который многих сейчас волнует, как люди, вроде бы с виду нормальные, добрые, симпатичные, человечные, могут на полном серьезе поддерживать и оправдывать чудовищные злодеяния, например. Как это вот психологически происходит? С точки зрения культуры, с точки зрения индивидуальной психологии — как это получается?
— Я, со своей стороны, считаю, что очень актуальная книга сейчас — это книга Райха «Кто мы и откуда мы пришли?». Райх, кстати, палеогенетик. Она может быть очень актуальна, если человек бьет себя в грудь и говорит: «Я русский!», «Я грузин!», «Я эстонец!», «Я американец!», «Я папуас!». Вот чтобы в принципе было понятно, что под этим имеется в виду и как воспринимать такие слова именно с точки зрения биологии.
Мы, например, считаем, что настоящий швед должен быть высоким, светловолосым, голубоглазым. Но Райх показывает, что в каком-нибудь V веке н. э. никаких таких шведов не было, а были какие-то темноволосые темнокожие люди на этой территории.
А светловолосые пришельцы прикатили на своих колесных повозках из байкальских степей, привнесли свои гены и сформировали образ нынешнего шведа. Поэтому очень трудно провести границу между любыми нациями, человеческими любыми популяциями.
— Ну, может быть, тогда порекомендовать еще и Сапольски «Биология добра и зла»?
— Я не стану, она очень толстая!
— Пинкер, я уже порекомендовал Пинкера, она вот такущей толщины. А книга Сапольски очень к ней в пару подойдет, она такая же. [Смеются.]
Интервью впервые опубликовано на портале Naked Science 12.12.2022
