Григорий Кабатянский
Для меня нет деления на чистую и прикладную математику. Есть математика, которая уже нашла приложения, и математика, которую это еще ждет
Беседовала Светлана Соколова, Егор Антощенко
Фото Артема Поповича
Фото Артема Поповича
Григорий Кабатянский
Для меня нет деления на чистую и прикладную математику. Есть математика, которая уже нашла приложения, и математика, которую это еще ждет
Беседовала Светлана Соколова, Егор Антощенко
Фото Артема Поповича
Фото Артема Поповича
ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КАБАТЯНСКИЙ — доктор физико-математических наук, вице-президент по науке и академическому сотрудничеству Сколковского института науки и технологий (Сколтех).
Интервью с Григорием Анатольевичем началось в коридорах лицея «Вторая школа», где учились и учатся одаренные в математических науках дети. На Доске почета — имена ныне известных ученых, писателей, бизнесменов и государственных деятелей. Профессор Кабатянский рассказал, что именно здесь началась его дорога в мир науки.
— Я учился в обычной школе в Марьиной Роще. После окончания 8-го класса нужно было искать, где заканчивать девятый и десятый. Учительница математики сказала мне, что в нашем районе есть школа им. Горького, где не только литература, но и хорошая математика. Я пришел в ту школу, побеседовал с учителем математики, может быть, даже какой-то экзамен написал. Он подумал и сказал: «У нас, конечно, тебе будет хорошо, но вот есть такая вторая школа…» Поступить во «Вторую» — в моей жизни это был, наверное, первый вызов. Оказалось, что я ничего не знаю. Я участвовал только в районных олимпиадах. Выигрывал их и не знал, что есть олимпиады другого, университетского уровня. Во Второй школе в какой-то момент я был на пороге отчисления. Евгений Борисович Дынкин, который руководил матклассами, был замечательный математик и великий педагог. Он любил устраивать прогулки по реке: покупал детям билеты на теплоходик. Как ни странно, он брал маргиналов: самых сильных и самых слабых. Я в первый раз на теплоход попал как слабый. Дынкин у меня поспрашивал несколько задачек, я их решил. Он сказал, что все не так плохо, как он думал. Первую четверть я как-то пережил. А потом, как это часто бывает, успех стал порождать интерес, а интерес — успех. Дело даже не в том, что меня научили здесь математике и литературе, меня научили тому, что по-английски называется think different: я получил первые уроки свободомыслия. Школу году в семидесятом закрыли из-за дел диссидентов.
— Как это — «закрыли»?
— Нет, она осталась. Но учителей, которые проповедовали якобы неправильные взгляды, их, так сказать... Ну, один человек точно попал под суд. Наверное, последние классы школы были лучшими годами моей жизни. Такого интенсивного общения и бурления мысли у меня больше никогда не было. Одним из разочарований в университете стало понимание, что математика — это каждодневный труд и успехи бывают вовсе не так часто, как на олимпиадах. Представьте, что вас все время кормят пирожными. Очень вкусными пирожными. А потом вдруг оказывается, что еще есть картошка, черный хлеб, супчик. И если их не есть, то толку не будет. Для меня это было некоторым ударом. Плюс я увидел среди старших людей тех, кто принципиально сильнее меня в математике.
— Это было не очень приятно?
— Представьте, что вы самый сильный парень в своей деревне, а потом приезжаете в город и приходите в секцию бокса, и там уже не вы, а вас колотят. И хотя я пришел из секции, но ситуация была похожа. И наконец, я себя математиком не считаю.
— Кем же вы себя считаете?
— Я занимаюсь наукой, использую свои небольшие знания математики для решения интересных задач. В конце университета я понял, что не знаю, какие задачи надо решать, а какие не надо. Я занимался теорией групп, теорией представлений у Эрнеста Борисовича Винберга. Это замечательный математик и человек очень хороший. Он говорил мне, что нужно решить ту или иную задачу. А почему именно эту — я не понимал. Теперь-то уже, будучи раза в два старше, чем Винберг, когда он меня учил, я знаю, как это происходит: когда ты становишься профессионалом, у тебя появляется «чутье на задачи».
— Как в ваше время ощущались возможности после вуза? Как вы представляли, куда плыть?
— Понимаете, с точки зрения научной жизни то, что было тогда, и то, что есть сейчас… Представьте, что вы разорились и из дома на Рублевке переехали в тьмутаракань. То же самое произошло с профессиональной наукой. Самое главное — занятие наукой перестало быть престижным в глазах общества, как это было в 50—70-е годы. Уже в 80-е молодежь еще шла в науку, но в каком-то смысле по инерции. Ну а про 90-е не хочется и вспоминать — науку выбросили, как бессердечные дети сдают старых родителей в дом для престарелых… Когда я закончил мехмат МГУ, то собирался в аспирантуру Министерства высшего образования. В ней учились не три года, а четыре, после чего тебя посылали в какую-нибудь страну Азии или Африки, а путешествовать я любил и до сих пор люблю. Но мест не дали. И вот я пошел в «почтовый ящик», где проработал почти 20 лет. Там я узнал слово «коды». Случилось это так: мой будущий начальник дал мне только что вышедшую переводную книгу известного американского математика Э. Берлекампа «Алгебраическая теория кодирования». Когда я начал ее читать, то возникло ощущение, что через полгода я, наверное, все проблемы там решу. Прошло 40 с чем-то лет, но я продолжаю находить в ней задачки, которые не знаю, как решать. В начале жизненного пути маленькая песчинка может изменить траекторию жизни совершенно удивительным образом. Вообще, занятие наукой — это профессиональный спорт.
— А что там от профессионального спорта?
— Никто не думает о своем здоровье, все заботятся только о том, чтобы быть первым.
— Неужели в науке так же?
— Да, абсолютно. Когда Евгений Борисович Дынкин уговаривал меня на втором курсе продолжать интенсивно заниматься математикой, то спросил: «Неужели вы не хотите быть первым?» Я сказал, что у меня, наверное, есть тщеславие, но какое-то недоразвитое. А он ответил: «Без тщеславия в математике нечего делать». Понимаете, запоминается только тот, кто первым доказал результат. Кроме того, очень мало ученых, которые прекращали заниматься математикой, а потом возвращались в дело. И, как в профессиональном спорте, лучшее время — до 30—40 лет, после чего надо начинать учить других, что я сейчас с удовольствием и делаю.
— Расскажите о своих первых серьезных решенных задачах.
— У меня есть только один хороший математический результат — так называемая граница Кабатянского — Левенштейна. Владимир Иосифович Левенштейн и я развили и применили методы, придуманные в теории кодирования, к задаче о плотной упаковке шаров в n-мерном пространстве. Задача очень интересная, и ей четыре сотни лет. Для нашего обычного трехмерного пространства она впервые была сформулирована следующим образом: «Английские корабли перевозят пушечные ядра в Америку для военных действий. Надо набить ядрами трюм как можно плотнее, но так, чтобы не потонул корабль. Как?» Для этого надо знать, какая упаковка шаров будет самой плотной. В 1998 году Томас Хейлз решил эту задачу для трехмерного евклидова пространства, а совсем недавно Марина Вязовская доказала, что некая очень хорошая упаковка в восьмимерном пространстве — самая лучшая.
— Как это — «закрыли»?
— Нет, она осталась. Но учителей, которые проповедовали якобы неправильные взгляды, их, так сказать... Ну, один человек точно попал под суд. Наверное, последние классы школы были лучшими годами моей жизни. Такого интенсивного общения и бурления мысли у меня больше никогда не было. Одним из разочарований в университете стало понимание, что математика — это каждодневный труд и успехи бывают вовсе не так часто, как на олимпиадах. Представьте, что вас все время кормят пирожными. Очень вкусными пирожными. А потом вдруг оказывается, что еще есть картошка, черный хлеб, супчик. И если их не есть, то толку не будет. Для меня это было некоторым ударом. Плюс я увидел среди старших людей тех, кто принципиально сильнее меня в математике.
— Это было не очень приятно?
— Представьте, что вы самый сильный парень в своей деревне, а потом приезжаете в город и приходите в секцию бокса, и там уже не вы, а вас колотят. И хотя я пришел из секции, но ситуация была похожа. И наконец, я себя математиком не считаю.
— Кем же вы себя считаете?
— Я занимаюсь наукой, использую свои небольшие знания математики для решения интересных задач. В конце университета я понял, что не знаю, какие задачи надо решать, а какие не надо. Я занимался теорией групп, теорией представлений у Эрнеста Борисовича Винберга. Это замечательный математик и человек очень хороший. Он говорил мне, что нужно решить ту или иную задачу. А почему именно эту — я не понимал. Теперь-то уже, будучи раза в два старше, чем Винберг, когда он меня учил, я знаю, как это происходит: когда ты становишься профессионалом, у тебя появляется «чутье на задачи».
— Как в ваше время ощущались возможности после вуза? Как вы представляли, куда плыть?
— Понимаете, с точки зрения научной жизни то, что было тогда, и то, что есть сейчас… Представьте, что вы разорились и из дома на Рублевке переехали в тьмутаракань. То же самое произошло с профессиональной наукой. Самое главное — занятие наукой перестало быть престижным в глазах общества, как это было в 50—70-е годы. Уже в 80-е молодежь еще шла в науку, но в каком-то смысле по инерции. Ну а про 90-е не хочется и вспоминать — науку выбросили, как бессердечные дети сдают старых родителей в дом для престарелых… Когда я закончил мехмат МГУ, то собирался в аспирантуру Министерства высшего образования. В ней учились не три года, а четыре, после чего тебя посылали в какую-нибудь страну Азии или Африки, а путешествовать я любил и до сих пор люблю. Но мест не дали. И вот я пошел в «почтовый ящик», где проработал почти 20 лет. Там я узнал слово «коды». Случилось это так: мой будущий начальник дал мне только что вышедшую переводную книгу известного американского математика Э. Берлекампа «Алгебраическая теория кодирования». Когда я начал ее читать, то возникло ощущение, что через полгода я, наверное, все проблемы там решу. Прошло 40 с чем-то лет, но я продолжаю находить в ней задачки, которые не знаю, как решать. В начале жизненного пути маленькая песчинка может изменить траекторию жизни совершенно удивительным образом. Вообще, занятие наукой — это профессиональный спорт.
— А что там от профессионального спорта?
— Никто не думает о своем здоровье, все заботятся только о том, чтобы быть первым.
— Неужели в науке так же?
— Да, абсолютно. Когда Евгений Борисович Дынкин уговаривал меня на втором курсе продолжать интенсивно заниматься математикой, то спросил: «Неужели вы не хотите быть первым?» Я сказал, что у меня, наверное, есть тщеславие, но какое-то недоразвитое. А он ответил: «Без тщеславия в математике нечего делать». Понимаете, запоминается только тот, кто первым доказал результат. Кроме того, очень мало ученых, которые прекращали заниматься математикой, а потом возвращались в дело. И, как в профессиональном спорте, лучшее время — до 30—40 лет, после чего надо начинать учить других, что я сейчас с удовольствием и делаю.
— Расскажите о своих первых серьезных решенных задачах.
— У меня есть только один хороший математический результат — так называемая граница Кабатянского — Левенштейна. Владимир Иосифович Левенштейн и я развили и применили методы, придуманные в теории кодирования, к задаче о плотной упаковке шаров в n-мерном пространстве. Задача очень интересная, и ей четыре сотни лет. Для нашего обычного трехмерного пространства она впервые была сформулирована следующим образом: «Английские корабли перевозят пушечные ядра в Америку для военных действий. Надо набить ядрами трюм как можно плотнее, но так, чтобы не потонул корабль. Как?» Для этого надо знать, какая упаковка шаров будет самой плотной. В 1998 году Томас Хейлз решил эту задачу для трехмерного евклидова пространства, а совсем недавно Марина Вязовская доказала, что некая очень хорошая упаковка в восьмимерном пространстве — самая лучшая.
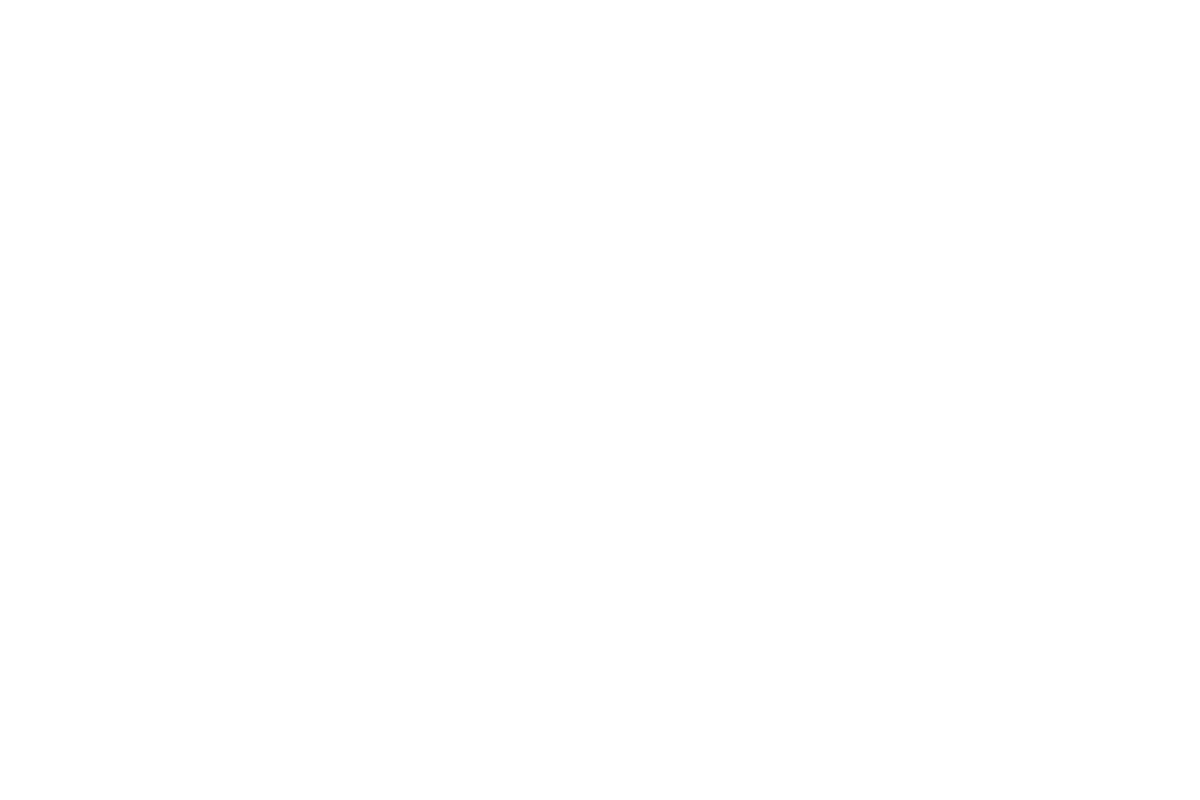
— Можете объяснить, что такое коды, на примере смартфона?
— Да, вот только надо различать коды, исправляющие ошибки, и коды криптографии. Потому что обычно код у людей ассоциируется с криптографией. Так вот, когда вы включаете режим LTE на смартфоне, то работает код, исправляющий ошибки. Допустим, у вас ненадежная передача ваших битов — то есть плохая связь, и вы хотите это исправить. Как? Если вы говорите по телефону и плохо слышно, то вы начинаете повторять слова. Если не получается, то произносите их по буквам. Это и есть простейшее кодирование. Мы нашу информацию «запихиваем» в гораздо более длинную последовательность, получаются кодовые слова, которые расположены друг от друга достаточно далеко, если мерить «далеко» количеством различающихся позиций. Это и позволяет нам правильно восстанавливать информацию в случае ошибок.
— Верно ли, что когда мы передаем информацию, то используем некие физические явления, которые могут быть как-то изменены?
— На самом деле вот что происходит. У вас есть какое-то физическое средство, которое передает информацию. Например, модем. И он передает вам нолики и единички. Например, в виде плюс-минус единичек. Но в канале есть шум. И в один прекрасный момент к вам пришла не единичка и не минус единичка, а, скажем, 0,2. «Ну, если 0,2, то, наверное, это была плюс единица, а не минус единица», — подумали вы. Но если пришло 0,01, то вы уже думаете: «Может, мне вообще стереть этот символ?» Но даже когда пришло 0,2, выбор единички может быть ошибкой. Теперь математика говорит нам: «Передавай не просто информацию, а припиши к ней еще избыточные нолики и единички, и тогда будет тебе счастье. В том смысле, что у тебя будут появляться ошибки, но ты сможешь их исправлять». Первым это сделал Клод Шеннон — создатель теории информации, наверное, последний универсальный гений.
— То есть у нас есть поток нулей и единиц… Что с ним происходит?
— Возьмем самый известный код — это код Ричарда Хэмминга. Мы «режем» поток из нулей и единиц на кусочки по четыре бита подряд. К каждым четырем битам мы приписываем три бита согласно определенным правилам (правилам кодирования), и вот этот новый блок из 7 бит посылаем по каналу передачи информации. И опять делаем то же самое, то есть к четырем информационным битам добавляем три проверочных и все это посылаем по каналу. Конечно, мы уменьшили скорость передачи информации по каналу в 1,75 раза, но зато если в канале происходит одна ошибка в блоке длины 7, то мы ее исправляем! На самом деле все это очень похоже на популярную и простую задачу: «Вам загадали число от единицы до миллиона, и вы хотите узнать — какое, задавая вопросы, на которые получаете ответ „да“ или „нет“. Сколько вам нужно вопросов?» Правильно, 20. Вы берете миллион, делите пополам и спрашиваете: «Это в первых пятистах тысячах или во вторых?» В зависимости от того, что вам сказали, вы выбирает половину и делите ее пополам. Вы спросили, вам ответили, вы подумали и тогда задали следующий вопрос. И это знали всегда. Хэмминг же увидел, что на самом деле загаданное число можно узнать, задавая вопросы за один раз. Не дожидаясь ответа. Вы ничего не теряете. Все равно получается 20 вопросов. Кстати, одна из моих последних работ, которая мне нравится, касается задачи Станислава Улама о лжеце. Улам сформулировал очень простой вопрос: «Мы знаем, что если загадать число от одного до миллиона, то нужно 20 вопросов, чтобы угадать это число стопроцентно, без ошибок. А что если тот, кто нам дает ответ „да“ или „нет“, может один раз соврать?» Ответ забавный: вместо 20 вопросов понадобится 25. Дальше возникает мысль: «Ну хорошо, а что будет происходить дальше? Если я загадаю число до миллиарда или до триллиона?» Чтобы его угадать, нужно N вопросов, если оно записывается N битами. А теперь, если происходит ошибка, сколько нужно добавить? Ответ удивительный. Нам кажется, что это будет весомая добавка, но оказывается, что за одного лжеца приходится немного платить. К N вопросам нужно добавить еще двоичный логарифм N. Более того, если вы знаете, что соврать он может пять раз, то пяти логарифмов N хватит.
— Существует ли граница между «чистой» и прикладной математикой?
— Андрей Николаевич Колмогоров говорил, что не делит математику на чистую и прикладную. Математика либо есть, либо ее нет. Мое субъективное мнение простое: математика без приложения быстро выхолащивается. Она начинает жить своими собственными интересами, и остаются только внутренние мотивы самосовершенствования. Это обедняет науку. Для меня нет деления на чистую и прикладную математику. Есть математика, которая уже нашла приложения, и математика, которую это еще ждет.
— Вы считаете, что любая математическая теория может быть применима на практике?
— Я так не считаю. Но любую математическую теорию я на спор готов притянуть к какой-нибудь прикладной задаче. Грубо говоря, если мне предложат завлекательный приз, я готов потратить время и даже статью про это написать, а лучше книжку.
— Криптографией вы тоже занимаетесь?
— Да, но только любительски. Никогда не занимался ею профессионально и не хотел заниматься.
— Криптографию все ассоциируют в основном с безопасностью.
— Сегодняшняя криптография — это гораздо больше, чем просто спрятать смысл того, что вы передаете.
— А ведь гарантия безопасности основывается на том, что мы не можем, условно говоря, за какое-то рациональное время подобрать ключ?
— Не совсем так. Смотрите, в начале 70-х возникла так называемая криптография с открытым ключом. Потому что та криптография, которую описал основатель теории информации Клод Шеннон, была с секретным ключом: у вас есть ключ, у другого человека тот же ключ, и вы оба с этим ключом работаете. Открытая криптография возникла, потому что сказали: «У нас теперь есть тысячи пользователей, и они друг с другом хотят общаться. Что же, нам нужны миллионы ключей? И нам нужно ключи как-то между ними распределять? Нельзя ли сделать как-нибудь так, чтобы каждый участник свой секрет хранил при себе, а некий „слепок“ этого секрета клал в общий файл?» И действительно придумали, что это как-то работает. Но все системы с так называемыми открытыми ключами рано или поздно ломаются.
— А ведь коммуникация между людьми — это тоже своего рода некие сигналы?
— Первые мои статьи были про коды, исправляющие всего одну ошибку. В то время папа подарил мне книгу, написав, что, видимо, ошибки в жизни не так просто исправлять, как в сигналах. Увы, в человеческих коммуникациях теория кодирования не помогает.
— Да, вот только надо различать коды, исправляющие ошибки, и коды криптографии. Потому что обычно код у людей ассоциируется с криптографией. Так вот, когда вы включаете режим LTE на смартфоне, то работает код, исправляющий ошибки. Допустим, у вас ненадежная передача ваших битов — то есть плохая связь, и вы хотите это исправить. Как? Если вы говорите по телефону и плохо слышно, то вы начинаете повторять слова. Если не получается, то произносите их по буквам. Это и есть простейшее кодирование. Мы нашу информацию «запихиваем» в гораздо более длинную последовательность, получаются кодовые слова, которые расположены друг от друга достаточно далеко, если мерить «далеко» количеством различающихся позиций. Это и позволяет нам правильно восстанавливать информацию в случае ошибок.
— Верно ли, что когда мы передаем информацию, то используем некие физические явления, которые могут быть как-то изменены?
— На самом деле вот что происходит. У вас есть какое-то физическое средство, которое передает информацию. Например, модем. И он передает вам нолики и единички. Например, в виде плюс-минус единичек. Но в канале есть шум. И в один прекрасный момент к вам пришла не единичка и не минус единичка, а, скажем, 0,2. «Ну, если 0,2, то, наверное, это была плюс единица, а не минус единица», — подумали вы. Но если пришло 0,01, то вы уже думаете: «Может, мне вообще стереть этот символ?» Но даже когда пришло 0,2, выбор единички может быть ошибкой. Теперь математика говорит нам: «Передавай не просто информацию, а припиши к ней еще избыточные нолики и единички, и тогда будет тебе счастье. В том смысле, что у тебя будут появляться ошибки, но ты сможешь их исправлять». Первым это сделал Клод Шеннон — создатель теории информации, наверное, последний универсальный гений.
— То есть у нас есть поток нулей и единиц… Что с ним происходит?
— Возьмем самый известный код — это код Ричарда Хэмминга. Мы «режем» поток из нулей и единиц на кусочки по четыре бита подряд. К каждым четырем битам мы приписываем три бита согласно определенным правилам (правилам кодирования), и вот этот новый блок из 7 бит посылаем по каналу передачи информации. И опять делаем то же самое, то есть к четырем информационным битам добавляем три проверочных и все это посылаем по каналу. Конечно, мы уменьшили скорость передачи информации по каналу в 1,75 раза, но зато если в канале происходит одна ошибка в блоке длины 7, то мы ее исправляем! На самом деле все это очень похоже на популярную и простую задачу: «Вам загадали число от единицы до миллиона, и вы хотите узнать — какое, задавая вопросы, на которые получаете ответ „да“ или „нет“. Сколько вам нужно вопросов?» Правильно, 20. Вы берете миллион, делите пополам и спрашиваете: «Это в первых пятистах тысячах или во вторых?» В зависимости от того, что вам сказали, вы выбирает половину и делите ее пополам. Вы спросили, вам ответили, вы подумали и тогда задали следующий вопрос. И это знали всегда. Хэмминг же увидел, что на самом деле загаданное число можно узнать, задавая вопросы за один раз. Не дожидаясь ответа. Вы ничего не теряете. Все равно получается 20 вопросов. Кстати, одна из моих последних работ, которая мне нравится, касается задачи Станислава Улама о лжеце. Улам сформулировал очень простой вопрос: «Мы знаем, что если загадать число от одного до миллиона, то нужно 20 вопросов, чтобы угадать это число стопроцентно, без ошибок. А что если тот, кто нам дает ответ „да“ или „нет“, может один раз соврать?» Ответ забавный: вместо 20 вопросов понадобится 25. Дальше возникает мысль: «Ну хорошо, а что будет происходить дальше? Если я загадаю число до миллиарда или до триллиона?» Чтобы его угадать, нужно N вопросов, если оно записывается N битами. А теперь, если происходит ошибка, сколько нужно добавить? Ответ удивительный. Нам кажется, что это будет весомая добавка, но оказывается, что за одного лжеца приходится немного платить. К N вопросам нужно добавить еще двоичный логарифм N. Более того, если вы знаете, что соврать он может пять раз, то пяти логарифмов N хватит.
— Существует ли граница между «чистой» и прикладной математикой?
— Андрей Николаевич Колмогоров говорил, что не делит математику на чистую и прикладную. Математика либо есть, либо ее нет. Мое субъективное мнение простое: математика без приложения быстро выхолащивается. Она начинает жить своими собственными интересами, и остаются только внутренние мотивы самосовершенствования. Это обедняет науку. Для меня нет деления на чистую и прикладную математику. Есть математика, которая уже нашла приложения, и математика, которую это еще ждет.
— Вы считаете, что любая математическая теория может быть применима на практике?
— Я так не считаю. Но любую математическую теорию я на спор готов притянуть к какой-нибудь прикладной задаче. Грубо говоря, если мне предложат завлекательный приз, я готов потратить время и даже статью про это написать, а лучше книжку.
— Криптографией вы тоже занимаетесь?
— Да, но только любительски. Никогда не занимался ею профессионально и не хотел заниматься.
— Криптографию все ассоциируют в основном с безопасностью.
— Сегодняшняя криптография — это гораздо больше, чем просто спрятать смысл того, что вы передаете.
— А ведь гарантия безопасности основывается на том, что мы не можем, условно говоря, за какое-то рациональное время подобрать ключ?
— Не совсем так. Смотрите, в начале 70-х возникла так называемая криптография с открытым ключом. Потому что та криптография, которую описал основатель теории информации Клод Шеннон, была с секретным ключом: у вас есть ключ, у другого человека тот же ключ, и вы оба с этим ключом работаете. Открытая криптография возникла, потому что сказали: «У нас теперь есть тысячи пользователей, и они друг с другом хотят общаться. Что же, нам нужны миллионы ключей? И нам нужно ключи как-то между ними распределять? Нельзя ли сделать как-нибудь так, чтобы каждый участник свой секрет хранил при себе, а некий „слепок“ этого секрета клал в общий файл?» И действительно придумали, что это как-то работает. Но все системы с так называемыми открытыми ключами рано или поздно ломаются.
— А ведь коммуникация между людьми — это тоже своего рода некие сигналы?
— Первые мои статьи были про коды, исправляющие всего одну ошибку. В то время папа подарил мне книгу, написав, что, видимо, ошибки в жизни не так просто исправлять, как в сигналах. Увы, в человеческих коммуникациях теория кодирования не помогает.
Интервью опубликовано в № 33—34 журнала «Кот Шредингера».