Фото Алена Каплина
Фото Алена Каплина
МАКСИМ ЛЬВОВИЧ КОНЦЕВИЧ — один из самых крупных и известных математиков мира, лауреат Филдсовской премии за доказательство гипотезы Виттена и ряда других значимых математических премий. Единственный человек, который получил премию Breakthrough Prize и по фундаментальной физике, и по фундаментальной математике. Родился 25 августа 1964 года в подмосковных Химках в семье известного востоковеда Льва Концевича. Закончил мехмат МГУ в 1985 году. Затем несколько лет работал в ИППИ РАН, получил кандидатскую степень в 1992 году в Боннском университете (Германия). Приглашен работать в самые престижные университеты мира — Принстон, Беркли и Гарвард. Сейчас занимает должность постоянного профессора Института высших научных исследований под Парижем и профессора (distinguished visitor) Университета Майами в США.
— Математика, как и другие области деятельности, вещь огромная, и я не могу сказать, что слежу за всем сразу. Каждый день на arxiv.org публикуется около сотни новых статей. Раньше я просматривал их все, но уже пару лет как перестал, поэтому о многом происходящем слышу от других людей.
Так что, с одной стороны, у меня есть своя точка зрения по очень многим вопросам, с другой — я знаю, что серьезно понимаю далеко не все, что происходит. Наверняка есть какие-то новые идеи, которые до меня просто не дошли.
— Из тех идей, которые до вас дошли, что, на ваш взгляд, наиболее интересно?
— Сегодня активно развиваются очень многие сферы. Где-то это происходит оттого, что десятилетиями продолжалось поступательное движение, накапливались знания, и это привело к прорывам. Хороший пример — гипотеза Пуанкаре, которую доказал Перельман. Эта гипотеза в некоторым смысле является частью программы геометризации Терстона, которая до Перельмана примерно на 70 % была сделана Гамильтоном. Но он остановился в самом сложном случае положительной кривизны и застрял там лет на десять. У Перельмана появилась одна главная идея, которая все это разрулила и поставила точку.
Существуют похожие вещи, которые менее известны широкой публике. Например, есть такой замечательный математик, тополог Джакоб Лури, который сейчас работает в Принстоне. Он доказал гипотезу кобордизмов, высказанную математическими физиками порядка 25 лет назад. Эта гипотеза связывает комбинаторику, теорию категорий и топологию гладких многообразий. Его теорию высших категорий тоже можно считать естественным развитием идей, которые витали в воздухе лет 20—30, но никто не мог положить это на бумагу. Лури смог, а чтобы вы понимали, о чем идет речь, — это пара томов по тысяче страниц. Я их, честно говоря, не читал, но продумывал. Там есть пять-шесть реально новых идей, одна из которых, геометрическая, действительно очень важна, это настоящий прорыв, который случается далеко не каждый год.
— О чем же тогда оставшиеся тысячи страниц?
— Развитие теории. Само доказательство гипотезы кобордизма я считаю более важным, но оно, к сожалению, не доведено до конца.
Еще одна важная вещь была сделана в 2000 году в Вене: Сергей Фомин и Андрей Зелевинский (1953—2013) придумали так называемую кластерную алгебру. Это поразительное новое направление в математике, замечательная, совершенно неожиданная комбинаторная структура, которая возникает из теории представлений.
Еще лет 15 назад было сделано замечательное открытие французского коллеги Бертрана Эйнара — топологическая рекурсия. Оно до сих пор математиками полностью не осознано. Понимание структуры этих новых формул приводит к действительно важным вещам.
— Еще на слуху имя лауреата премии Филдса Петера Шольце, который сейчас работает в Бонне. Некоторые называют его гением современности.
— Думаю, можно сказать и так. Я несколько раз слушал курс его лекций и что-то понял. Сначала он придумал так называемые перфектоидные пространства (класс фрактальных структур. — Прим. ред.). А несколько лет назад предложил нечто под названием конденсированная математика. Это общий вопрос к алгебраизации топологии. И тут у меня, честно говоря, есть некоторые сомнения, потому что я предпочитаю структуры, в которых можно что-то пощупать и что-то посчитать. В некотором смысле его структуры основаны на таких больших кардиналах, что я чувствую себя очень неуверенно.
Так что в математике есть много вещей, которые я хотел бы понять, но пока у меня не было времени реально в них вникнуть. Я верю остальным людям, что это замечательно, но всегда должен попробовать разобраться сам.
— Интересно соотношение своих идей и идей, высказанных кем-то. С какими вам работать интереснее?
— Для меня в некотором смысле неважно, своя идея или нет. Главное, продумал я ее математическую структуру или нет.
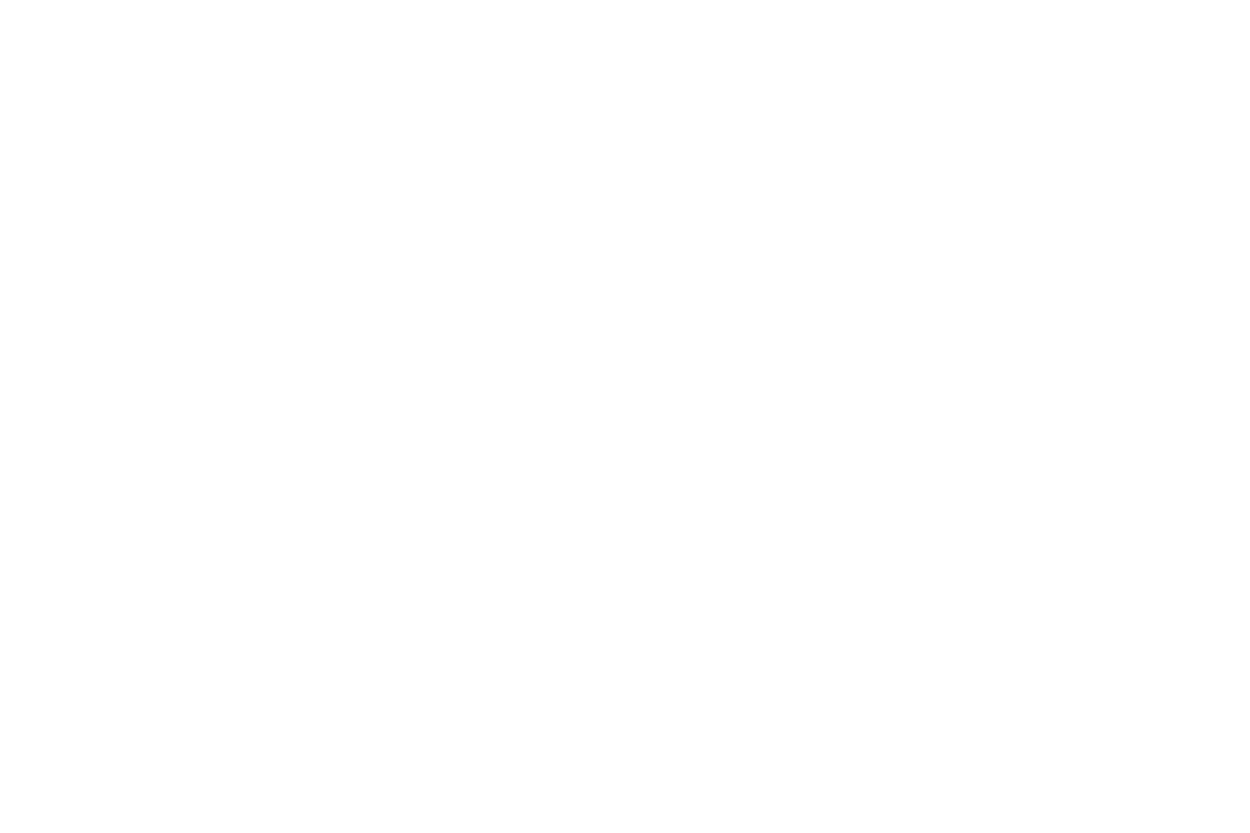
— Нет, это не тупик, потому что постепенно с этим можно справиться. Но на самом деле сложное доказательство — не очень хороший признак. Я предпочитаю заниматься простыми вещами, которые можно объяснить в двух словах, буквально на полстранички. Сложные и непонятные доказательства зачастую касаются фактов, в которых мы не сомневаемся.
— Как вы относитесь к проверке математических доказательств с помощью компьютера? Насколько это работает всерьез?
— За этим, несомненно, будущее, потому что время от времени приходится делать какие-то вычисления вручную, а при этом ошибки неизбежны. Этим уже много лет назад начали заниматься несколько профессиональных математиков. Например, Карлос Симпсон и Володя Воеводский (1966—2017). Они все думали о том, как компьютер мог бы проверять, нет ли ошибок в сложных доказательствах.
Сегодня серьезно автоматической проверкой доказательств занимаются три группы людей. Существует несколько языков, в том числе Coq и Lean, на которых можно вводить какие-то аксиоматические определения или свойства, и эти системы могут помочь искать доказательства. Лично я не пробовал, но многие знакомые говорили, что это очень утомительный процесс.
— Почему? Сколько по времени занимает такая проверка?
— Много. Дело в том, что обычно математики пишут довольно неряшливо. А здесь, наоборот, нужно делать все чрезвычайно аккуратно, потому что система будет строго следить, что у вас не доказано, что является определением, а что — нет.
Пару лет назад во Франции один мой знакомый геометр, который занимается симплектической топологией, «на спор» проверил доказательство теоремы того самого Шольце. У него была доказана некая очень сложная и непонятная теорема, но при этом Шольце сам не был уверен в некоем совершенно абстрактном формализме. И вот мой знакомый, не имеющий к этому никакого отношения, за полгода формально разобрался с определениями и проверил доказательство. Шольце был этим поражен.
— Есть сегодня какие-то области в математике, которые вы могли бы порекомендовать молодым математикам? Чем стоит заниматься?
— Мой совет в том, что каждый должен найти свое. Я вижу некоторые основные направления, которые стали слишком популярны. Например, главным вопросом в течение многих десятилетий называется программа Ленглендса. В ней есть очень много конкретных задач, над которыми сегодня работает огромное количество людей. Мне кажется, даже излишне много, потому что развивается техника, а радикально новых идей нет. И тогда область превращается в некую индустрию, и мне сегодня не очень понятно, стоит ли этим заниматься.
В целом же в математике уже, наверное, нет такого понятия, как «область». Все слишком переплетено и связно. Например, вот уже восемь лет мы думаем об одной такой теме с моим постоянным соавтором Яном Сойбельманом. Она представляет собой очень красивую картину, но это не область математики, а много областей сразу. Мы назвали это голоморфной теорией Флоера. Это новый вид той зеркальной симметрии, которую я когда-то придумал. С ее помощью можно понять огромное количество вещей и в алгебре, и в геометрии, и в анализе. Вообще, гомологическая зеркальная симметрия открыла поразительные возможности, это как новые очки, с помощью которых можно смотреть на старые объекты и все становится понятно.
— Кого вы считаете своим учителем? Какая у вас математическая генеалогия?
— Интерес к математике мне привил мой старший брат Леонид. Он в свое время, как и я, учился в математической школе, только он во второй, а я — в девяносто первой. Сейчас он живет в Сан-Франциско и занимается компьютерным зрением. Моим первым учителем я считаю его одноклассника логика Александра Шеня. Нельзя сказать, что он привил мне вкус к логике, но повлиял достаточно сильно.
Еще когда я был старшеклассником, меня представили Израилю Моисеевичу Гельфанду. И, собственно, с первого курса я ходил на его семинары, несколько раз беседовал с ним и стал его учеником. Правда, был довольно независимым.
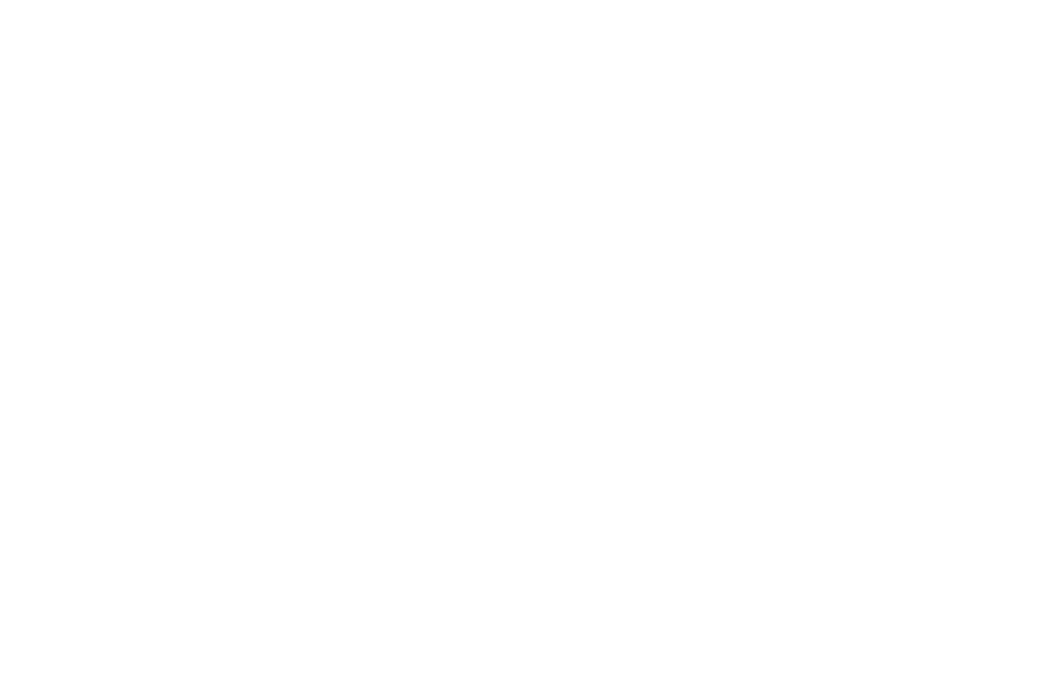
— Вряд ли с ним можно было спорить, потому что он оставался абсолютно доминирующей фигурой. Семинар был целым миром, большой компанией, где меня пестовал предыдущий ученик Гельфанда Саша Гончаров. Это был мой старший товарищ и учитель.
Кроме Гельфанда, я рассматриваю в качестве своих учителей Владимира Игоревича Арнольда и Юрия Ивановича Манина, к котором тоже ходил на семинары. При этом, пока я был в университете, с Маниным даже не разговаривал, потому что боялся к нему подойти. А потом мы оказались вместе с ним в Институте Макса Планка.
— Как и когда это произошло?
— В 1987 году, когда я в Москве уже закончил университет, то написал некую работу. Очень интересно посмотреть, откуда она возникла. Как-то раз я пришел к Гельфанду домой, и у него на столе лежала правка короткой, буквально на страничку, заметки Манина, которую он послал в журнал. Это был примерно 1986—1987 год, когда возникла теория струн. Белавин, Поляков, Замолодчиков и Книжник часто приходили на семинар Гельфанда и рассказывали об этой только что появившейся области. Тогда речь шла не о самой теории, а о близкой ей конформной теории поля. Ее придумали как раз физики-теоретики Белавин с Поляковым, но основана она была на старой идее Вилсона 70-х годов, у которой до того времени не было ни одного примера. Участники семинара Гельфанда и, собственно, его ученики просчитали некоторые вещи, и тогда стало понятно, какие числа должны возникать в физике. Тесный контакт между физикой и математикой существовал с самого начала, и тут невозможно сказать, что было первым: курица или яйцо.
— Так что же вы увидели в заметке Манина?
— У конформной теории поля было два математических языка — через геометрию (модули кривых) и через алгебру (алгебра Вирасоро). И вот, когда я увидел эту заметку, то сообразил, как все можно объяснить. К тому времени эта идея уже витала в воздухе, и тогда приблизительно в одно время то же самое поняли примерно пять групп, но я опубликовал это первый. К сожалению, я не стал защищать диссертацию по ней. Дело в том, что тогда в Москве этим занимались Саша Бейлинсон и Вадим Шехтман. При этом Саша был на несколько лет старше меня, и у него к тому времени была совершенно потрясающая работа по теории чисел. Он решил защищать диссертацию в то же время и ровно по той же теме, что и я. Так что я отказался от этой идеи.
После университета с 1985-го по 1990 год у меня не было диссертации, и я просто работал младшим научным сотрудником в ИППИ РАН. И, видимо, благодаря статье 1987 года меня позвали в Институт Макса Планка. Я приехал туда в 1990 году. Тогда в начале лета там регулярно происходило событие под названием Arbeitstagung. Это неформальный математический конгресс, где люди собираются без известных заранее докладчиков. В первый день выступают «аксакалы», а затем предлагают выступить кому-то из публики, рассказать, кто что слышал интересного, и докладчики выбираются голосованием.
— Что тогда было самым интересным?
— Открывающий доклад был сделан сэром Майклом Атьей про гипотезу Виттена, которая тогда только что появилась. Меня это настолько поразило, что в тот момент я ее почти что доказал прямо на этом Arbeitstagung. После этого меня позвали в Институт Макса Планка и одновременно позицию предложили Юрию Ивановичу Манину. То есть мы оказались там вместе, и это было очень хорошее время. Мы написали вместе несколько статей и открыли новое направление. Затем я уехал во Францию, где мы оказались вместе с Арнольдом и очень тесно общались.
— Всегда очень интересно соотношение физики и математики. В недавнем разговоре Дмитрий Олегович Орлов сказал, что вы, видимо, единственный человек, который может мыслить и как математик, и как физик.
— Физики и математики действительно думают по-разному. У меня был опыт как раз того, что такое «мыслить как физик». Несколько лет назад я был на конференции среди теоретических физиков в Институте Perimeter в Канаде. Я провел там неделю в очень тесном контакте, и вот примерно на третий день у меня произошел фазовый переход, и я вдруг стал физиком, стал говорить с ними на равных. Я стал все понимать, передо мной открылся огромный мир, все стало очень интересно и хорошо. Потом я уехал, туман рассеялся, и с тех пор больше так не могу. А некоторые могут.
В свое время я предложил нанять на работу директору Perimeter замечательного молодого математика Кевина Костелло. Он сперва начал делать работы по математическим основаниям физики, и потом в некотором смысле сам превратился в физика. Теперь я его не понимаю. Костелло, видимо, единственный человек, который действительно принадлежит двум наукам.
— Тем не менее вы единственный человек, который получил премию TheBreakthroughPrize и по физике, и по математике.
— Абсолютно единственный, мне осталось получить только по биологии. Я шучу, конечно.
— И ваша самая главная работа в математике — гомологическая зеркальная симметрия — родилась как раз из физики.
— Теоретическая физика — это не физика в обычном смысле. Это физика, не имеющая отношения ни к действительности, ни к экспериментам. Гомологическая зеркальная симметрия — довольно абстрактная штука, которая оперирует некими категориями и объектами категории. И через несколько лет после меня физики сами по себе придумали эти объекты под названием D-браны. То есть тут математика как раз была первой. Затем возникло еще продолжение из этой математики уже в 2009—2010 годах сделать то, что называется переходы через стенку — Wallcrossing. Это уже я придумал со своим соавтором Яном Сойбельманом. Это было чистой математикой, но вдруг совпало с некими вычислениями при изучении черных дыр у физиков. Это для меня остается главной темой.
А что сейчас в физике происходит, я, честно говоря, уже не знаю, давно не следил, но, мне кажется, развитие несколько приостановилось и там до сих пор главным вопросом остается то, что называется непертурбативная струна.я, иногда достаточно просто не мешать.
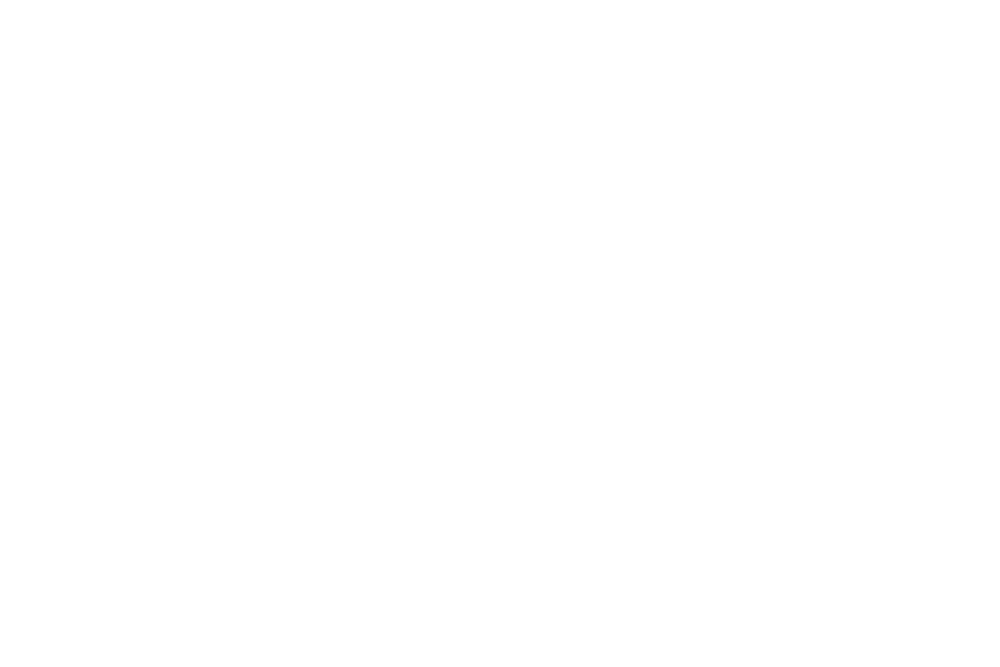
— Математическая в неформальном смысле, нужно понять это строго или хотя бы как схему вычислений.
— Сколько групп в мире сейчас занимается этой задачей?
— Не так много. Сейчас я, кстати, участвую в некоем проекте про то, что называется ресургентность, ресуммирование. Мы получили европейский грант на шесть лет на несколько человек. У нас два физика и два математика.
Пока у нас дело движется хорошо. Кажется, мы разобрались со структурой ресуммирования. Какие-то вопросы, которым сто лет примерно, сейчас прояснились.
— Насколько вам в принципе важно, чтобы теории струн было дано экспериментальное подтверждение?
— Для меня это непродуманный вопрос, я не могу на этот счет ничего сказать. Вообще, теория струн — это поразительное явление. В некотором смысле она возникла как раз из-за того, что многие десятки лет не было новых экспериментальных данных. Стандартная модель по большому счету стоит на одном месте. Сейчас появляются какие-то намеки на поправки, но долгое время не было ничего, и люди начали думать об этом чисто абстрактно. В итоге физики напридумывали уйму вещей, с которыми нам, математикам, предстоит разбираться много десятков, а может, и сотен лет. Были открыты совершенно удивительные структуры, но никто не гарантирует, что это имеет какое-то отношение к действительности.
— Некоторые физики считают теорию огромной тратой времени и интеллектуальных усилий, учитывая, что экспериментального подтверждения нет и вряд ли будет.
— Да, экспериментов нет, но интеллектуальный продукт, возникший благодаря ей, — это вершина интеллектуальной цивилизации.
— Вы уже почти 20 лет работаете в Институте высших научных исследований под Парижем. Соотносите ли вы себя с какой-нибудь математической школой? Московской или французской?
— Скорее я сам по себе. Раньше я чаще ходил на семинары в Париже, но в последнее время у меня достаточно деятельности прямо в институте. Так что время от времени я общаюсь с внешним миром французским, но крайне нерегулярно.
— Расскажите, как вы перебирались во Францию из Америки. И почему это место, по вашим словам, идеально для занятий математикой?
— Сейчас уже не так идеально, потому что все со временем меняется. Первую половину 1990-х годов я провел в основном в Институте Макса Планка, но затем мне нужно было выбирать постоянную работу. У меня было несколько предложений, и я выбрал Беркли по той причине, что там в Сан-Франциско работает мой брат. Там я проработал чуть меньше года, потому что получил предложение отсюда, и на тот момент это была, конечно, лучшая возможность для математика. Понимаете, в Москве я пять лет был в ИППИ, думал о своих вещах и никогда не преподавал. А в Беркли в некотором смысле сменил профессию, что мне не очень подошло, потому что я хотел остаться чистым исследователем.
— А сейчас что поменялось?
— Я только что посмотрел на афишу, кто у нас сейчас есть в институте. Там первые две строчки занимают постоянные профессора и долговременные визитеры CNRS, то есть это тоже практически постоянные сотрудники. И вот всего нас там примерно десять человек. Дальше там идет три студента, шесть студентов, которые пишут диссертацию, двадцать постдоков и три визитера. Это, на мой взгляд, перебор. В лучшие времена, при Александре Гротендике, никаких постдоков не было. Институт действительно поменял свое лицо, как, кстати, и Институт Макса Планка. Сейчас в каком-то смысле очевидно перепроизводство молодых математиков, и это, видимо, общая проблема.
— Это очень интересно, потому что не так давно во Франции собирались вводить специальную программу для повышения привлекательности математических специальностей для французской молодежи.
— Сегодня происходит интересное социологическое явление: математика становится профессией для третьего мира, и сегодня есть много прекрасных математиков молодого поколения из Бразилии, Индии, Китая. Чисто американских математиков сегодня, кстати, тоже совсем немного, в основном это мигранты первого поколения.
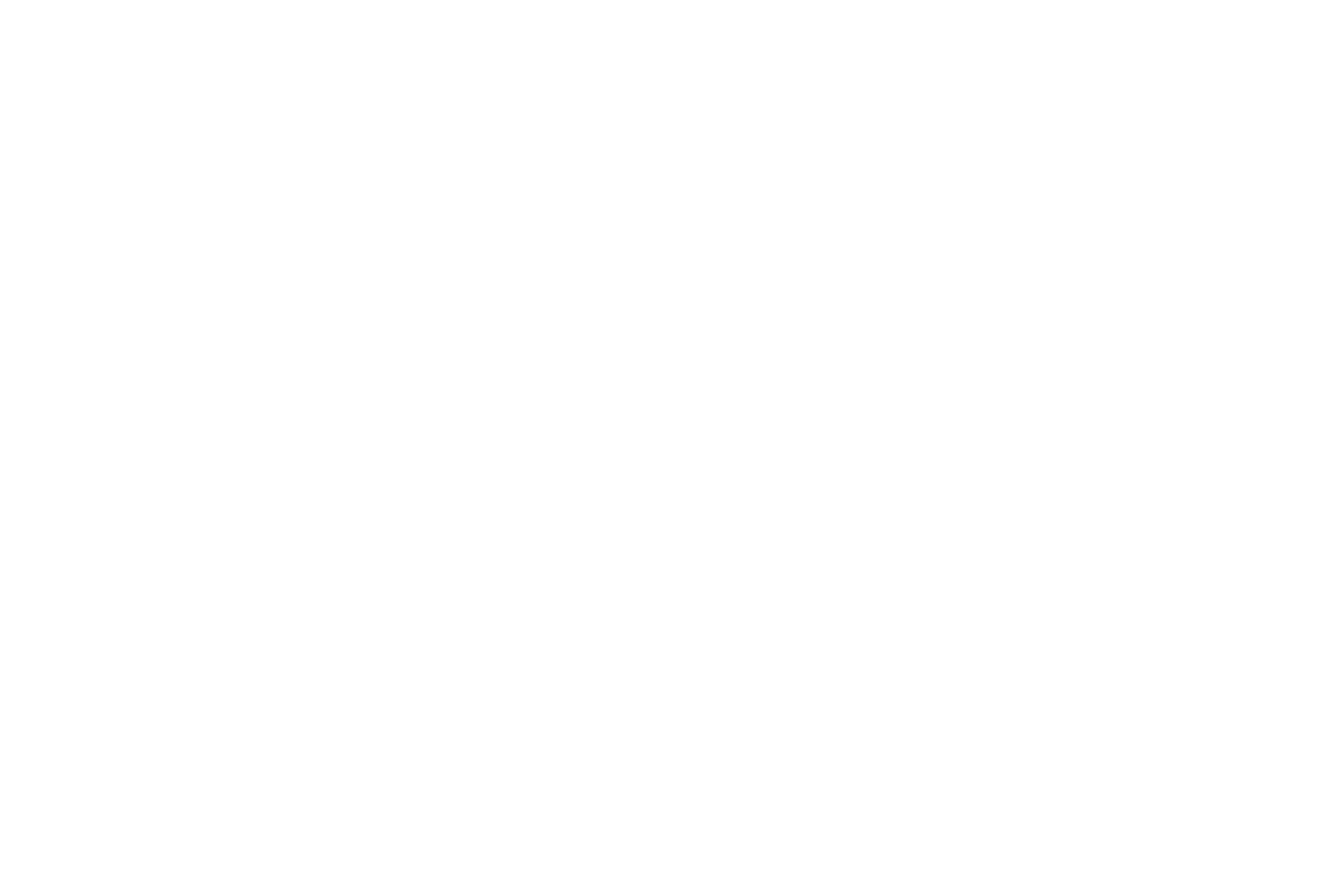
— Да, к этому добавляется еще какое-то сохранившееся традиционное уважение к науке, поэтому в целом оттуда приезжают действительно очень способные ребята.
— А можно назвать какие-то математические центры сегодня?
— Традиционно Париж, в Америке — Принстон, но не только, есть еще центры вокруг Чикаго, в Бостоне, есть еще, конечно, Кембридж и Оксфорд в Англии. Но вместе с тем появляется все больше работающих групп даже в Бразилии и Мексике. Уже 15 лет работает важный центр в Японии, под Токио, где трудятся такие две замечательные фигуры, как Алексей Бондал и Миша Капранов. Многие годы проводил в Киото Боря Фейгин.
— А Китай?
— Про Китай я пока еще ничего толком сказать не могу, но туда уже сейчас перемещаются многие люди, что может служить хорошим показателем; например, мой знакомый Коля Решетихин из питерской школы Фадеева долгое время был профессором в Беркли, а сейчас стал китайским математиком.
— Насколько математические премии играют роль в перераспределении интереса внутри науки? Повлияли они положительно на вас как на ученого? Или это просто приятный материальный бонус?
— В материальном плане это стало некоторым фактором, когда финансовый вопрос перестал волновать меня и мою семью, что, конечно, здорово. В целом же к премиям люди относятся очень по-разному. Я считаю, что, особенно для молодых людей, они могут быть какими-то важными вехами. Хотя сейчас премии все больше напоминают лотерею. В 60-е и 70-е годы всегда была некая явная группа лидеров, группа ведущих математиков, которые с какой-то долей уверенности заслуживали премии. А сейчас такого нет, так как математика сильно разрослась и раздробилась. И есть совершенно выдающиеся люди, тот же Джакоб Лури, которые так и не получили Филдсовскую медаль.
— Максим Львович, как выглядит ваш рабочий день? Многие математики, как Андрей Николаевич Колмогоров, предпочитали строгое расписание с обязательными многочасовыми прогулками, которые помогали сконцентрироваться и подумать. У вас есть что-то похожее?
— Честно говоря, я хотел бы так работать. Но я в основном работаю, разговаривая с людьми, обсуждаю самые разнообразные темы. Другая часть работы связана с написанием статей, и тут все происходит очень медленно, иногда это может затянуться на годы. Например, не так давно мы с Сашей Гончаровым написали статью, которую начали обсуждать ровно 10 лет назад.
— Что значит — идея вас глубоко поразила? Как может какая-то математическая идея поражать, а какая-то — нет? Как вы выбираете вот эти идеи?
— Вы знаете, тут сложно ошибиться. Вы вдруг видите поразительные связи между разными частями математики, которых никто никогда не мог даже представить. Вроде бы две разные области математики, и вдруг оказывается, что работают одни и те же формулы, потому что у них, видимо, была одна и та же скрытая структура. Есть некие вещи, даже более простые, которые до сих пор не поняты. Физики говорят, что они их как-то понимают, но я, честно говоря, не знаю, как это объяснить математически. Например, чуть поправленные числа Бернулли совпадают с тем, что называется Эйлеровы характеристики пространств модулей кривых. Это самый главный объект их теории струн. Об этом я думаю уже лет 30, и никаких идей пока нет. Сейчас у нас отсутствует понимание каких-то базисных вещей. И это понимание не следует ни из какого естественного развития знаний. Здесь нужно придумать что-то абсолютно новое.
— Яков Григорьевич Синай говорил про озарение. Вам кажется, озарение важно в математике? Это то, о чем вы говорите?
— Ну, озарение озарением, но, честно говоря, у меня в основном это непрерывный процесс, что-то происходит, происходит, происходит — и вдруг оказывается, что уже все понятно. Но в какой момент это произошло, иногда и не скажешь. Несколько раз мне какие-то идеи приходили во сне, я понимал, что нужно вскочить и записать их, но буквы буквально сразу исчезали, и в итоге ни разу ничего полезного не получилось. Так что это просто мозг имитирует эйфорию от того, что что-то сложилось.
— Мне кажется, вы подытожили такой математический образ мышления: эйфория от того, что что-то сложилось. Это, наверное, то, ради чего математики занимаются математикой?
— Для меня это более медленный процесс, скорее речь идет о том, что какие-то структуры постепенно проясняются.
— Вы росли не в самой обычной семье, учитывая, что ваш отец был известным востоковедом. Как вас воспитывали?
— Ну, детство у меня было очень хорошее. Семья была простая, в предыдущем поколении мой прадед был дьяконом из Тамбова. Оттуда была папина родня, а мамина — с юга Украины. Мой дед и моя мама работали на заводе «Факел» в Химках. Именно поэтому в Химках у нас была маленькая квартира, где я провел детство. «Факел» до сих пор существует, там делают двигатели для ракет. Я читал, что где-то года два назад завод участвовал в немецко-российском проекте, запустили спутник с телескопом в рентгеновском диапазоне.
Я очень благодарен своим родителям, что они никак меня специально не воспитывали. В некотором роде я рос сам по себе, потому что родители поздно возвращались домой и у них на меня не было особого времени. Но когда у тебя полквартиры занято полками с книгами, это, конечно, оказывает некое влияние.
— Ваш отец одно время жил в Корее; вы не ездили вместе с ним за границу?
— В свое время, при советской власти, мой папа бывал только в Северной Корее. А в Южную он попал в начале 1990-х и отработал там пять лет. Сейчас они живут в Сан- Франциско и за ними следит мой брат. Я ездил туда в начале прошлого лета.
— А как вы себе в детстве представляли будущее? У вас есть какие-то воспоминания?
— Любовь к математике у меня появилась довольно рано, то есть уже лет в 13—14 я понимал, что стану математиком. Тогда был замечательный журнал «Квант», где я находил всякие интересные задачки и с удовольствием их решал.
— А своего сына вы специально учили математике?
— Немножко, но не то чтобы он заинтересовался. Сейчас он учится на инженера. И вкус к математике у него наконец появился — в довольно зрелом возрасте.
— Мне всегда было интересно, как в семье, где один из супругов занят высокой математикой, он отвечает на вопрос, что нового на работе. Вы пытаетесь объяснять?
— Ну, у нас с этим проще, потому что моя жена заканчивала мехмат, как и я. Так что иногда я могу всей семье объяснить, что делал на работе.
— Удается ли вам заниматься чем-то, кроме математики? Книжки читать, может быть? Что вы прочитали интересного?
— Да, я читаю, но очень медленно, бывает, что по полтора года, возвращаюсь к книге время от времени. А так я люблю еще слушать музыку.
— Классическую, наверное?
— Да, в основном классическую. В свое время в Москве сразу после университета я даже играл в некоем ансамбле старинной музыки на виоле да гамба, а потом еще научился играть на виолончели.
— Вы верите в прогресс? В то, что человечество со временем совершенствуется?
— И да, и нет. Оно и совершенствуется, и глупеет одновременно. Например, как относиться к тому, что нас окружает огромное количество гаджетов, смартфонов? Хорошо это или плохо? У меня, например, нет смартфона, я использую кнопочный телефон, потому что чисто физиологически не люблю нажимать на экран, мне не нравится ощущение холодного экрана в пальцах. И в целом смартфон сильно влияет на мозг, напрямую отупляет. Например, когда я езжу на машине, то стараюсь не включать навигатор, а соображать своей головой, куда и как повернуть. Хотя при этом я совсем не против компьютеров, как раз наоборот, с удовольствием пишу какие-то программы, когда мне нужно что-то посчитать, могу переустановить систему.
— Это сейчас модно для тренировки мозга.
— Да, нужно упражняться в разных вещах. Последнее, что я хотел бы рассказать, связано с Гельфандом. Он сам мне рассказал, почему стал заниматься биологией, и это было довольно неожиданно. Израиль Моисеевич сказал, что когда ему было лет сорок, то он все время ощущал себя очень усталым. И решил: это оттого, что он все время думает о математике, а нужно заняться чем-то другим, совершенно перпендикулярным, чтобы активировать другие нейроны. Сначала он стал много читать, учить языки, но это не помогло. Тогда он понял, что это должно быть настоящее занятие, не хобби, а другая профессия, и тогда он занялся биологией.
— А для вас что бы могло стать таким?
— Я не знаю. Пока я об этом даже не задумывался.