Фото Глеба Щелкунова
ГРИГОРИЙ АЛЕКАНДРОВИЧ МАРГУЛИС родился в 1946 году в Москве. В 1967 году окончил механико-математический факультет МГУ, под руководством Якова Синая защитил кандидатскую диссертацию по эргодической теории. Основная область научных интересов — теория групп Ли, за достижения в которой в 1978 году был удостоен премии Дж. Филдса. Защитил докторскую диссертацию в минском Институте математики. Работал в Институте проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН), однако в начале 90-х уехал на постоянное место жительства в США, став профессором Йельского университета. В 2001 году избран членом Национальной академии наук США, с 2012 года — действительный член Американского математического общества. Григорий Александрович — лауреат Абелевской премии 2020.
— Существует довольно много математических династий, так что для некоторых математиков это действительно фамильное дело. В моем случае это так только частично. Папа был по образованию математик, и он защитил кандидатскую диссертацию по педагогике математики под руководством знаменитого математика Хинчина. После войны он работал доцентом на кафедре математики в различных московских и подмосковных вузах и продолжал интересоваться педагогикой, но не занимался научной работой в области теоретической математики. Папа вовремя заметил мои склонности: я с ранних лет умел умножать двузначные числа в уме, легко решал школьные задачки, причем, заметим, особых матшкол еще не было, я учился в обычной школе. В 7-м классе я стал ходить на так называемые математические кружки при мехмате МГУ, где и получил все необходимые мне навыки, исправно посещая кружковые занятия вплоть до 10-го класса. На кружках с нами занимались студенты и аспиранты мехмата, что создавало атмосферу доверительности — действительно атмосферу особого «ближнего круга». Уже после появилась система физматшкол. Но, замечу, именно кружки первыми способствовали развитию математического сообщества в стране.
— При этом, будучи школьником, вы еще и очень серьезно увлекались шахматами. Почему оставили спорт?
— Математику, конечно, можно играть в шахматы, но после какого-то периода совмещать эти два занятия — науку и шахматы — чрезвычайно трудно. Одно отвлекает от другого, и нужно делать выбор. Конечно, бывают исключения. Так, второй чемпион мира по шахматам Эмануил Ласкер был также известным математиком. Я же вскоре после поступления в МГУ понял, что не могу серьезно заниматься и тем и другим.
— Зато спортивный темперамент, видимо, помогал вам хорошо выступать на олимпиадах...
— Это интересная тема: достижения на олимпиадах далеко не всегда отражают реальный уровень способностей человека. Мой учитель, лауреат премии Абеля, прославленный математик Яков Синай, например, так и не стал призером математических олимпиад. Просто, чтобы победить на олимпиаде, нужно иметь особый темперамент, уметь собраться и за 4—5 часов показать все, на что способен. В 1962 году я получил первую премию на Всесоюзной олимпиаде и благодаря этому попал на Международную математическую олимпиаду в Чехословакию, где оказался в числе призеров.
— А потом вы поступили в МГУ и попали в ученики к Синаю? Как вы выбирали научного руководителя?
— Может, не очень верится, но к человеку, с которым я знаком более 50 лет и который на меня очень сильно повлиял, я попал скорее по счастливому стечению обстоятельств. Мехмат МГУ тогда был очень творческим местом, и поощрялось всякое живое общение, самоорганизация, поэтому я посещал многие семинары, и очень многие люди на меня влияли, формировали математический кругозор. Пожалуй, в этом и есть секрет русской матшколы — в большом внимании к среде. На Западе все устроено несколько иначе: там у человека есть определенный научный руководитель, с ним плотно общаются, а вокруг мало смотрят. Нас-то как раз призывали смотреть вокруг, искать приложение своим талантам в разных областях математики. Научный руководитель поэтому был очень важным человеком, но, скажем так, не ограничивающим твой поиск.
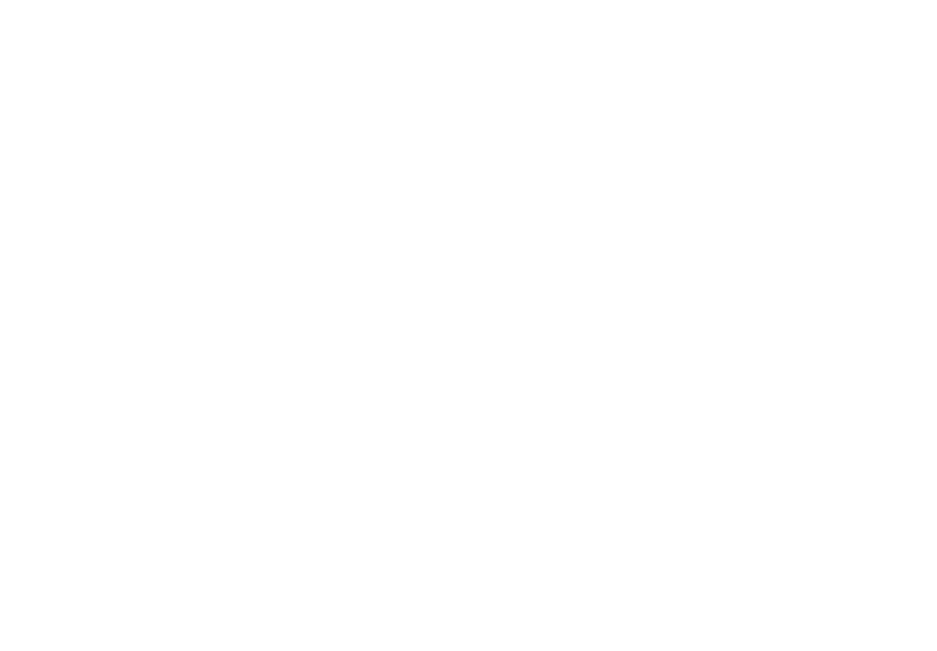
— Да, для русской школы вполне. Скажем, у математика Владимира Арнольда первая работа была опубликована еще в 19 лет, у Синая работы тоже начали появляться еще в студенческом возрасте. Замечу, что в мое время, чтобы поступить в аспирантуру МГУ, нужно было, как правило, иметь опубликованную научную работу или, по крайней мере, работу, представленную к публикации. В США, конечно, система другая: диссертация там — это, как правило, первая научная работа, и она появляется, соответственно, в 26—27 лет.
— Вы предполагали, что то, чем вы занимались сначала в МГУ, а потом в Институте проблем передачи информации, заслуживает Филдсовской медали, которую еще называют «Нобелем для математиков»?
— Ну как предполагал... Были в окружении люди, которые говорили, что я, может быть, сделал что-то стоящее медали. Но нельзя же здесь быть уверенным. Потом, за полгода до вручения награды, мне сообщили, что она мне присуждена, но что официально об этом будет объявлено только во время Международного математического конгресса в Хельсинки в августе 1978 года. Несмотря на присуждение Филдсовской медали, на лаврах мне не дали почивать. Так, в течение более трех лет мою докторскую диссертацию не пропускали к защите на мехмате МГУ, пользуясь различными отговорками. Потом в конце концов я защитил докторскую в Белоруссии, в минском Институте математики. Так или иначе, на родине моя медаль вызвала резкое неудовольствие среди значительной части математического начальства.
— И ведь вам не дали ее получить?
— Да, меня не выпустили из страны в 1978 году. Нужно было получить характеристику от института, написать обоснование отъезда, потом идти в райком партии, потом в саму академию — в общем, существовал многоступенчатый отбор, на каждом этапе которого тебя могли отбраковать. В моем случае, по-видимому, «выбраковщиком» оказался Национальный комитет советских математиков, который в то время возглавлял Виноградов. Было обидно, конечно, что не пустили. В 1979 году мне дали выехать в Западную Германию, в Бонн, на три месяца, как мне кажется, в качестве компенсации. Потом опять долго не выпускали на Запад. Только в 1987 году я оказался в Норвегии, но тогда уже и сама государственная система стала стремительно меняться.
— При такой оторванности от Западного мира вам удавалось узнавать о его научных достижениях?
— Конечно, о многом мы знали. Но писать письма, поддерживать общение с заграничными коллегами — все это было очень трудно. Публикация статьи за границей считалась нежелательной и требовала специальных обоснований. За счет чего русская школа выживала? По моему мнению, просто в СССР было очень мало областей, куда талантливые молодые люди могли идти, чтобы сохранить себя и заниматься творчеством, и главные области — это, конечно, теоретическая физика и математика. При такой концентрации талантов в этих двух областях мы могли долгое время существовать за счет внутренних ресурсов. Заметим, экспериментальной физике требовалось большее участие государства для развития (что влекло за собой и больший контроль со стороны государства), и, думаю, именно поэтому она у нас оказалась слабее теоретической.
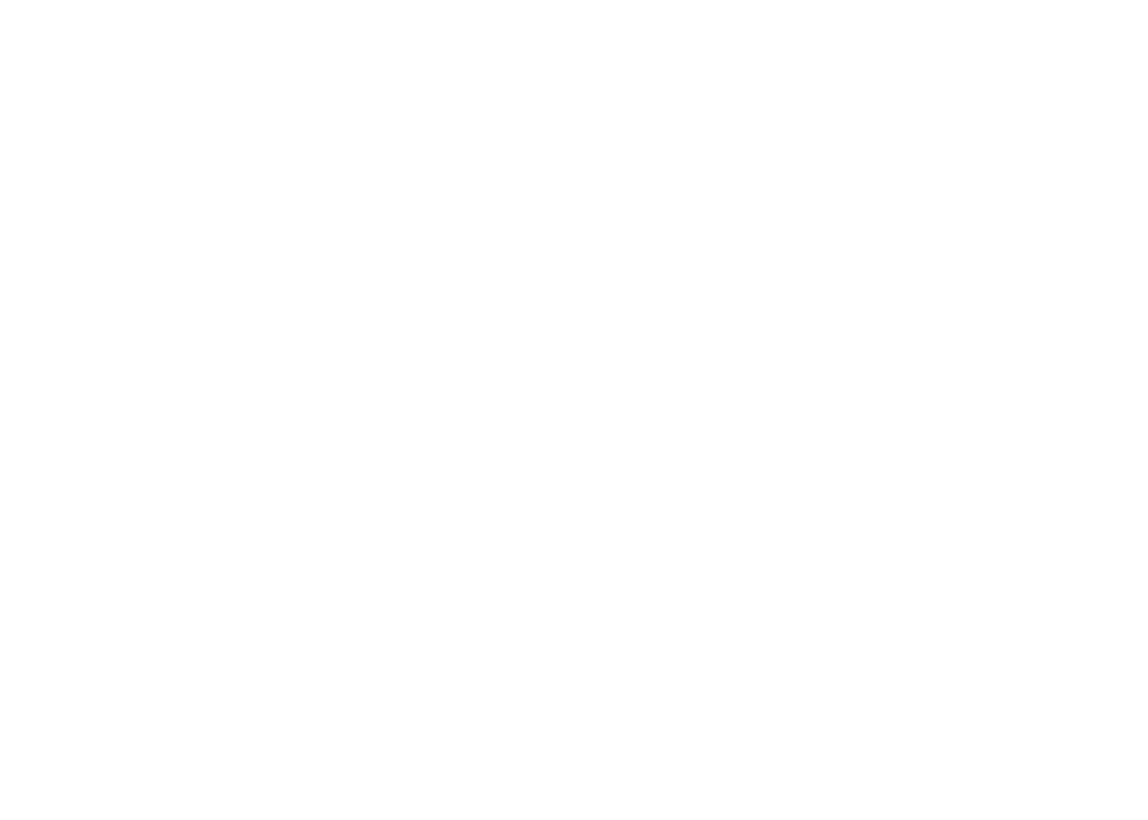
— Да, в 1990—1991 годах мне почти одновременно сделали предложение стать профессором в Йельском университете, в Гарварде, в Принстоне и в Чикагском университете. Но в Йеле было больше математиков, которые интересовали меня в научном смысле, поэтому я выбрал его и до сих пор там работаю. Официально мой тогдашний отъезд воспринимался как командировка, и, пожалуй, я до сих пор нахожусь в командировке... Мне легко возвращаться в Москву. Это совсем не то ощущение, с которым уезжали ученые в 1970-е: тогда их проводы напоминали похороны, никто не ожидал повторной встречи. Сейчас повторные встречи возможны, я с удовольствием посещаю родной ИППИ РАН.
— У вас не было культурного или, скажем, научно-культурного барьера в общении с зарубежными коллегами, от которых вы до того были фактически изолированы?
— Сложности возникали, все-таки научная культура там немного другая. Потом, я на родине никогда не преподавал, а в Йеле пришлось читать лекции студентам, и мне нужно было к ним очень долго готовиться. Важно еще учесть, что американские студенты гораздо более требовательные, чем русские: если они чего-то не понимают, то считают, что это ты плохо преподаешь, а не они плохо понимают.
— Вы остались представителем русской школы математики, стали американским математиком или «математиком мира»?..
— Смотря что считать американской математикой. Скажем, в Йеле я был научным руководителем где-то у 20 аспирантов, и среди них вообще не нашлось американцев по рождению. Были люди из Ирана, Кореи, Франции, России, Швеции... Поэтому я бы назвал аспирантуру ведущих американских вузов не собственно американской, а аспирантурой мира — туда принимают лучших студентов отовсюду. В противовес русской школе, долго (и вынужденно) остававшейся закрытой, американская школа работала на полную открытость. Думаю, в США меня уже не считают русским математиком, потому что национальности там не играют большой роли, там все «неместные». Потом, в США почти отсутствует понятие «школы такого-то математика». В СССР всегда существовали живые сообщества учеников, объединенных вокруг своего учителя. На Западе такое редкость. Аспирант работает со своим научным руководителем, но, как я и говорил, мало заинтересован в образовании «кружков». С одной стороны, это умаляет живое общение, с другой стороны, «кружковость» тоже склонна к вырождению. Скажем, были у какого-то выдающегося математика ученики, у этих учеников — свои ученики, но постепенно сообщество замыкается, люди со стороны не приходят, и творчество в «кружке» угасает.
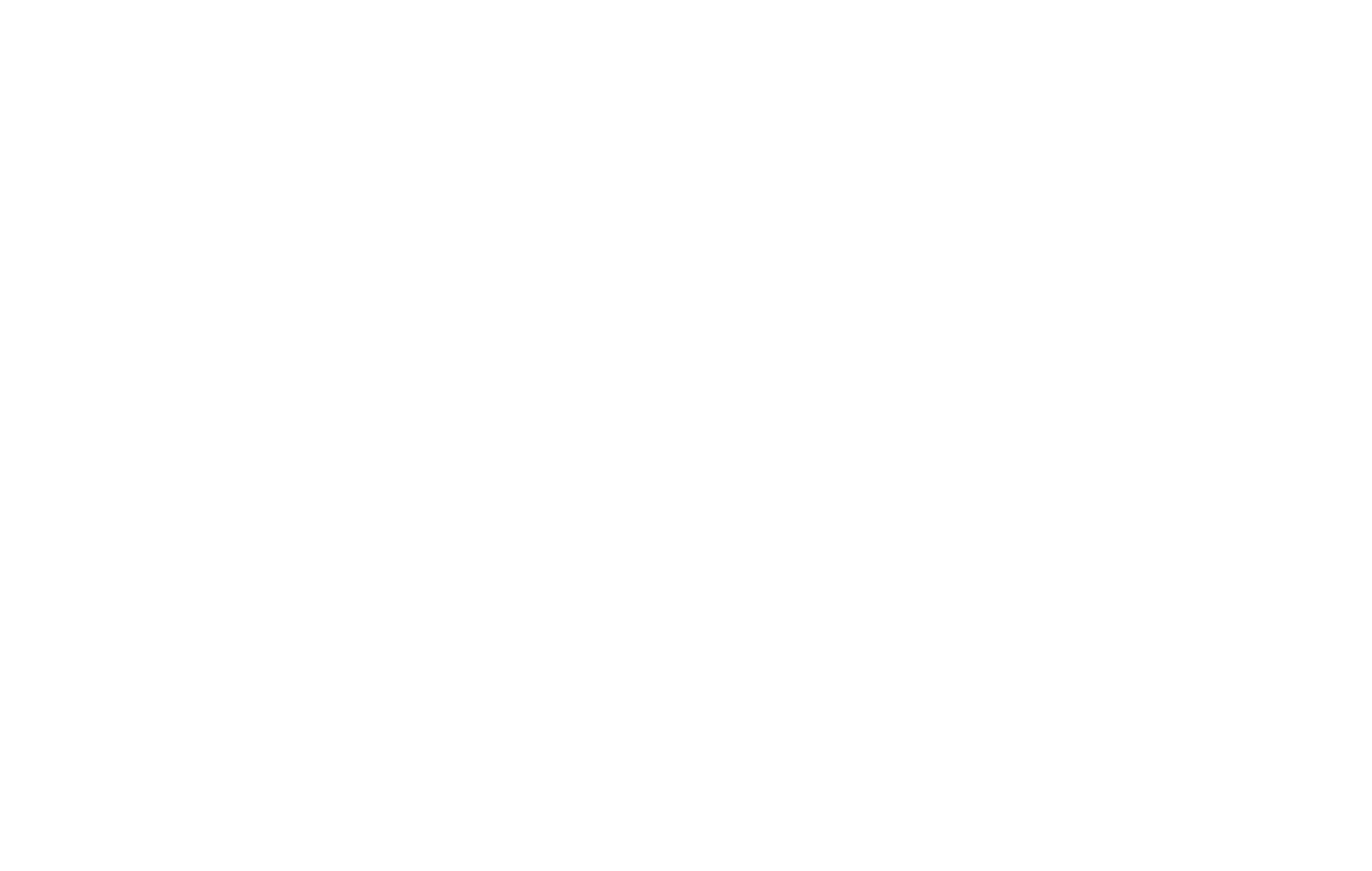
— Нет, и не только гуманитариям, но и представителям других наук. Есть не так много представителей чистой математики, которые способны доходчиво объяснять внешним людям предмет своего научного интереса. Вероятно, Владимир Арнольд умел это делать лучше многих. А если говорить обо мне, то все получится очень общо и неконкретно. Скажем, группы Ли — многомерные объекты, которые меня интересуют, — связаны с областью дифференциальных уравнений и находят применение как в научно-технической сфере, то есть в computer science, так и в квантовой физике. Вообще, лет 40 или 50 физики с математиками взаимодействовали мало, потому что считали современную им математику не очень интересной и релевантной. А вот в последние 20 лет взаимодействие между двумя науками усилилось, произошло даже слияние некоторых областей. И к подчас странным задумкам математиков, к тому, что называется general nonsense, вроде как ерундой, появилось больше терпимости. Наши открытия теперь часто интересуют коллег-физиков.
— То есть в математике есть классические, а есть и «странные» направления исследований? Может ли случиться, что специалисту будет «неудобно перед коллегами» заниматься какой-то проблемой?
— Вполне может. Скажем, Эндрю Уайлс шесть или семь лет работал над доказательством так называемой последней теоремы Ферма, скрывая это от коллег, потому что заниматься таким безнадежным делом всем казалось нелучшим приложением сил. Математика все время развивается, есть мейнстрим, есть что-то периферийное. Плохо, когда приоритетные направления задаются начальством сверху, как часто случается в России, это давление блокирует возможность свободного поиска. Но и в США случаются конфликты, потакание общим интересам, рая же нигде нет. О спорах между учеными существует один популярный в нашей среде анекдот, состоящий из вопроса и ответа: «Почему академические конфликты такие ожесточенные? — Потому что ставки очень низкие». Однако не эти будни определяют будущее математики. Оно все-таки всегда связано с творческим прорывом, который может случиться на любом из направлений, каким бы неожиданным оно ни казалось.