Роберт Минлос
Друзья меня всегда звали просто Боб
Беседовала Наталья Демина
Фото Евгения Гурко
Фото Евгения Гурко
РОБЕРТ АДОЛЬФОВИЧ МИНЛОС (1931—2018) — российский ученый-математик, доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области статистической физики, функционального анализа и теории вероятностей. Закончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1954), с 1996 года — заведующий Добрушинской математической лабораторией Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН). Лауреат Государственной премии РСФСР по науке и технике (1990). Награжден Международной премией им. Добрушина (2008), обладатель награды «Жизнь, посвященная математике» (2014).
— Вы родились в 1931 году, когда в Китае произошло ужасное наводнение, погубившее 4 млн человек, из Испании убежал король и там была объявлена республика, в США состоялась первая телепередача, а в Москве взорвали храм Христа Спасителя. Чем больше всего запомнилось ваше детство?
— Все 10 лет, которые были до войны, я очень мало знал и понимал про все глобальные события. Единственное, что я помню из того времени, — мой дядя работал в Институте международных отношений и занимался, в частности, Испанией — и он встречал пароход с испанскими детьми.
В 1937—1938 годах много детей испанских республиканцев вывезли на пароходе из Барселоны в Москву, чтобы спасти их от гражданской войны. И некоторые из них часто бывали у дяди дома. Я встречал их там и даже в девятилетнем возрасте понимал, насколько красивы приходившие туда испанские девочки. Это, по-моему, единственное мое соприкосновение с событиями Гражданской войны в Испании.
Еще помню, что мама вела со мной какие-то разговоры. По-видимому, она как-то пыталась, на моем уровне, объяснить, что происходило в 1938 или 1939 году, когда шли аресты и некоторые из наших знакомых оказались в лагерях. Но я всего этого не знал, и подробностей мне не раскрывали, но помню, что эти разговоры были. Но что точно мама мне говорила, я не помню.
— Детство вы вспоминаете как счастливый период или как трудный?
— Вспоминаю как счастливый. Хотя я на себе испытал все трудности советского быта, но как-то не обращал на них внимания. Осознание всех этих вещей пришло уже значительно позже, в послевоенные годы.
— Увидела в Сети, что вас часто называли Бобом…
— Да, друзья меня всегда звали просто Боб (или иногда Боба).
— Во время войны вы были в эвакуации или оставались в Москве?
— Мы три года жили в Алма-Ате. Я вернулся в Москву уже в конце войны, в 1944 году. В последний год войны я жил в Москве.
— Все 10 лет, которые были до войны, я очень мало знал и понимал про все глобальные события. Единственное, что я помню из того времени, — мой дядя работал в Институте международных отношений и занимался, в частности, Испанией — и он встречал пароход с испанскими детьми.
В 1937—1938 годах много детей испанских республиканцев вывезли на пароходе из Барселоны в Москву, чтобы спасти их от гражданской войны. И некоторые из них часто бывали у дяди дома. Я встречал их там и даже в девятилетнем возрасте понимал, насколько красивы приходившие туда испанские девочки. Это, по-моему, единственное мое соприкосновение с событиями Гражданской войны в Испании.
Еще помню, что мама вела со мной какие-то разговоры. По-видимому, она как-то пыталась, на моем уровне, объяснить, что происходило в 1938 или 1939 году, когда шли аресты и некоторые из наших знакомых оказались в лагерях. Но я всего этого не знал, и подробностей мне не раскрывали, но помню, что эти разговоры были. Но что точно мама мне говорила, я не помню.
— Детство вы вспоминаете как счастливый период или как трудный?
— Вспоминаю как счастливый. Хотя я на себе испытал все трудности советского быта, но как-то не обращал на них внимания. Осознание всех этих вещей пришло уже значительно позже, в послевоенные годы.
— Увидела в Сети, что вас часто называли Бобом…
— Да, друзья меня всегда звали просто Боб (или иногда Боба).
— Во время войны вы были в эвакуации или оставались в Москве?
— Мы три года жили в Алма-Ате. Я вернулся в Москву уже в конце войны, в 1944 году. В последний год войны я жил в Москве.
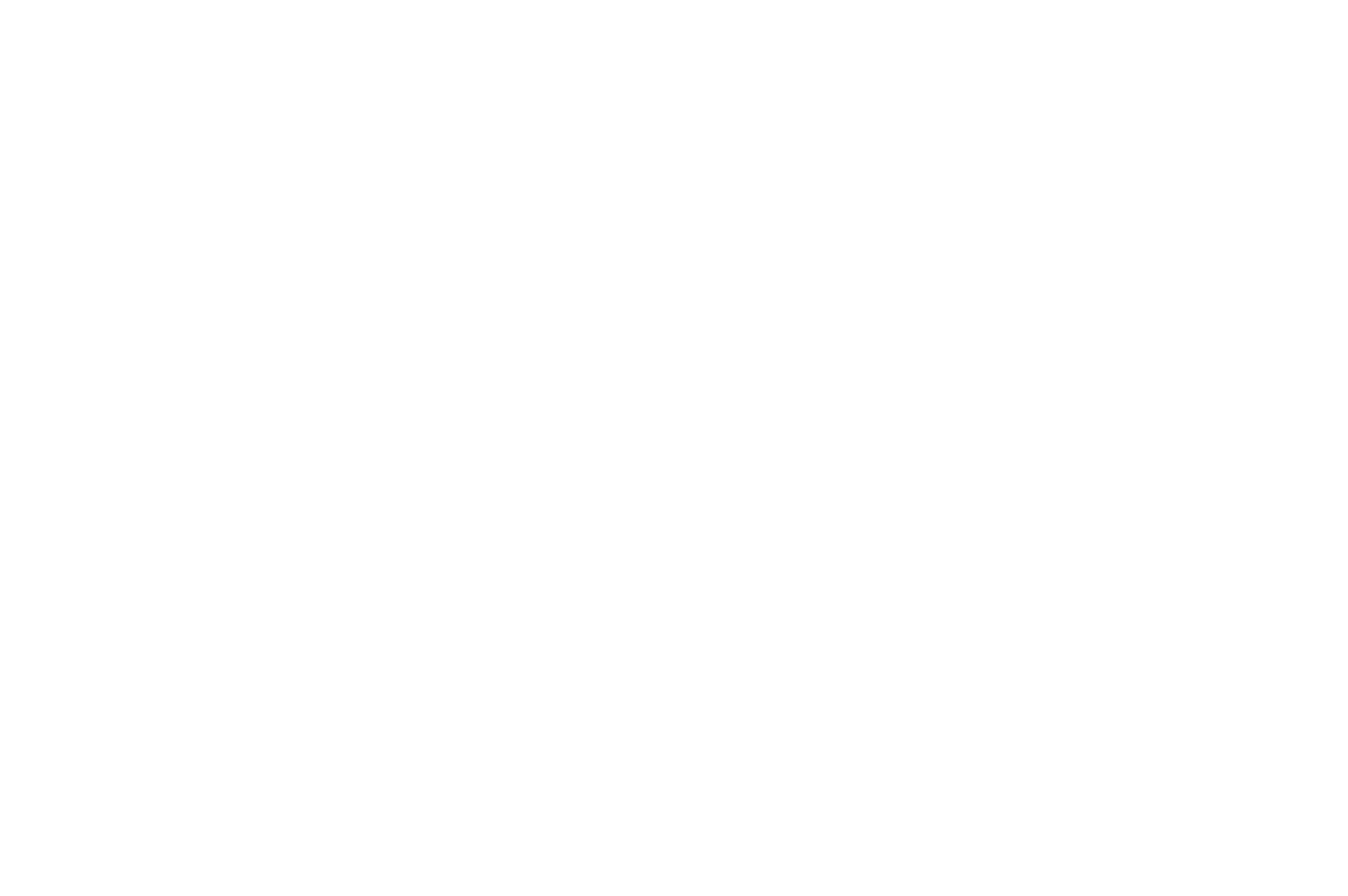
— В вашей биографии я увидела, что в 12 лет вы, сын лингвиста и историка-этнографа, заинтересовались математикой.
— Нет, это ошибка. Мне было 15 лет, когда я первый раз, в 1946 году, принял участие в Московской олимпиаде по математике. Первая послевоенная олимпиада проходила в 1945 году, но я про нее не знал. Я случайно увидел афишу на Манежной площади, где было написано, что скоро пройдет олимпиада по математике для школьников и в течение месяца перед ней ежедневно проводятся консультации.
Я стал ходить на эти консультации, и мне там ужасно понравилось. Мне понравился свободный и открытый стиль мехмата МГУ. И человеческое общение на равных — мне не указывали, что и как делать, а со мной свободно беседовали, чтобы я сам додумался, как решать те или иные задачи. И сами задачи были необычными и свежими. Я ходил на эти консультации вплоть до олимпиады, где я получил вторую премию. И конечно, она меня очень подвигла к дальнейшим занятиям математикой.
Помню, что уже в 8-м классе, в самом начале учебного года, я пришел на школьный кружок, который вел Евгений Борисович Дынкин. Это был замечательный педагог! Мы не просто решали какой-то набор задач, а он придумывал большие темы и их развивал в течение нескольких занятий. Оттуда уже и задачи возникали, и мы получали какие-то общие знания и представления о том, как математик занимается математикой, как развивает последовательно и целенаправленно какую-то тему. Так что я очень рад, что попал на этот кружок.
Правда, занимался я там всего один год, потому что в нем почти все участники были старше меня. Владимир Успенский, Николай Ченцов, Фридрих Карпелевич и другие через год уже поступили на первый курс мехмата МГУ, и Евгений Борисович вел там с ними уже семинарские занятия, а я остался как бы «за бортом». Но, тем не менее, когда я поступил на первый курс мехмата в 1949 году, он меня тут же пригласил на этот семинар, и я более года его посещал.
Но потом, еще на первом курсе, я переключился на другой кружок — его вел Александр Семенович Кронрод (1921—1986), — и мы занимались теорией функций действительного переменного. Кронрод был исключительно обаятельным и открытым человеком, и было невозможно не поддаться его обаянию. Он на долгое время стал моим кумиром. В конце года Саша (А. С. Кронрод. — Прим. ред.) поставил мне задачу, которую я вскорости решил и на ее основе подготовил свою первую научную статью. Семинар Кронрода существовал еще несколько лет, и там обсуждались самые разные темы.
— Правильно ли я понимаю, что школа не сыграла большую роль в вашем становлении как математика и вы стали математиком благодаря внешкольному математическому образованию?
— Да. В школе я решал обычные задачи из учебника и радости особой от этого не испытывал. Но затруднений никаких с ними не было.
— А были ли у вас искушения пойти куда-то кроме математики? У вас много интересов. Вы увлекались и живописью, и театром…
— Живописью я увлекся значительно позже. Уже после 40 лет. Правда, в детстве я увлекался рисованием, мама меня даже водила в Московский центр детского творчества около улицы Горького, ныне Тверской. Занятия проходили в том же помещении, где сейчас Театр юного зрителя, в Мамоновском переулке. Детское воспоминание, с этим связанное: мама как-то не пришла за мной вовремя, и я через всю Москву тащился пешком на Якиманку, где мы тогда жили. Сейчас моих внуков не выпускают одних даже во двор, а тогда можно было ходить без взрослых где угодно.
Еще в школе я был заядлым театралом. Мы, то есть небольшая компания моих товарищей, ставили пьесы и все были увлечены театром. Я в этих постановках выступал режиссером, мне это нравилось, и я даже примеривал на себя эту роль и в дальнейшем, но увлечение математикой оказалось сильней. Один из нашей компании — Зиновий Филлер — даже стал профессиональным артистом и потом играл в «Современнике» во многих главных ролях. К сожалению, он рано умер.
— Когда «Современник» был на «Маяковской»?
— Да, и здесь на Чистых прудах он уже не играл.
— Вы живете неподалеку от «Современника»... Вы вообще ходите сейчас в театр?
— Раньше ходил. Сейчас немного охладел к театру. Хожу, но редко, большей частью в Малый, там еще сохранился вкус к тонкой, хорошей отделки актерской игре.
— Нет, это ошибка. Мне было 15 лет, когда я первый раз, в 1946 году, принял участие в Московской олимпиаде по математике. Первая послевоенная олимпиада проходила в 1945 году, но я про нее не знал. Я случайно увидел афишу на Манежной площади, где было написано, что скоро пройдет олимпиада по математике для школьников и в течение месяца перед ней ежедневно проводятся консультации.
Я стал ходить на эти консультации, и мне там ужасно понравилось. Мне понравился свободный и открытый стиль мехмата МГУ. И человеческое общение на равных — мне не указывали, что и как делать, а со мной свободно беседовали, чтобы я сам додумался, как решать те или иные задачи. И сами задачи были необычными и свежими. Я ходил на эти консультации вплоть до олимпиады, где я получил вторую премию. И конечно, она меня очень подвигла к дальнейшим занятиям математикой.
Помню, что уже в 8-м классе, в самом начале учебного года, я пришел на школьный кружок, который вел Евгений Борисович Дынкин. Это был замечательный педагог! Мы не просто решали какой-то набор задач, а он придумывал большие темы и их развивал в течение нескольких занятий. Оттуда уже и задачи возникали, и мы получали какие-то общие знания и представления о том, как математик занимается математикой, как развивает последовательно и целенаправленно какую-то тему. Так что я очень рад, что попал на этот кружок.
Правда, занимался я там всего один год, потому что в нем почти все участники были старше меня. Владимир Успенский, Николай Ченцов, Фридрих Карпелевич и другие через год уже поступили на первый курс мехмата МГУ, и Евгений Борисович вел там с ними уже семинарские занятия, а я остался как бы «за бортом». Но, тем не менее, когда я поступил на первый курс мехмата в 1949 году, он меня тут же пригласил на этот семинар, и я более года его посещал.
Но потом, еще на первом курсе, я переключился на другой кружок — его вел Александр Семенович Кронрод (1921—1986), — и мы занимались теорией функций действительного переменного. Кронрод был исключительно обаятельным и открытым человеком, и было невозможно не поддаться его обаянию. Он на долгое время стал моим кумиром. В конце года Саша (А. С. Кронрод. — Прим. ред.) поставил мне задачу, которую я вскорости решил и на ее основе подготовил свою первую научную статью. Семинар Кронрода существовал еще несколько лет, и там обсуждались самые разные темы.
— Правильно ли я понимаю, что школа не сыграла большую роль в вашем становлении как математика и вы стали математиком благодаря внешкольному математическому образованию?
— Да. В школе я решал обычные задачи из учебника и радости особой от этого не испытывал. Но затруднений никаких с ними не было.
— А были ли у вас искушения пойти куда-то кроме математики? У вас много интересов. Вы увлекались и живописью, и театром…
— Живописью я увлекся значительно позже. Уже после 40 лет. Правда, в детстве я увлекался рисованием, мама меня даже водила в Московский центр детского творчества около улицы Горького, ныне Тверской. Занятия проходили в том же помещении, где сейчас Театр юного зрителя, в Мамоновском переулке. Детское воспоминание, с этим связанное: мама как-то не пришла за мной вовремя, и я через всю Москву тащился пешком на Якиманку, где мы тогда жили. Сейчас моих внуков не выпускают одних даже во двор, а тогда можно было ходить без взрослых где угодно.
Еще в школе я был заядлым театралом. Мы, то есть небольшая компания моих товарищей, ставили пьесы и все были увлечены театром. Я в этих постановках выступал режиссером, мне это нравилось, и я даже примеривал на себя эту роль и в дальнейшем, но увлечение математикой оказалось сильней. Один из нашей компании — Зиновий Филлер — даже стал профессиональным артистом и потом играл в «Современнике» во многих главных ролях. К сожалению, он рано умер.
— Когда «Современник» был на «Маяковской»?
— Да, и здесь на Чистых прудах он уже не играл.
— Вы живете неподалеку от «Современника»... Вы вообще ходите сейчас в театр?
— Раньше ходил. Сейчас немного охладел к театру. Хожу, но редко, большей частью в Малый, там еще сохранился вкус к тонкой, хорошей отделки актерской игре.
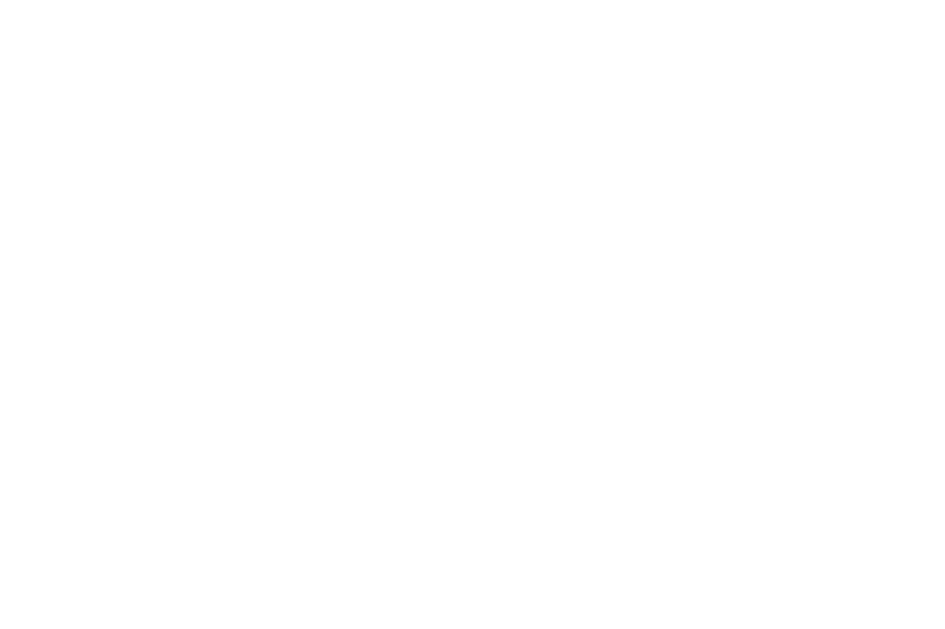
— Скажите, трудно ли было поступить на мехмат МГУ, были ли тогда проблемы с поступлением?
— Нет, тогда, в 1949 году, ни у кого не было анкетных проблем при поступлении на мехмат. В частности, на нашем курсе училось много евреев. То же самое было и в следующем, 1950 году. Дискриминация евреев при приеме на мехмат началась в 1951 году и продолжалась три или четыре года. Потом она прекратилась до 1968 года, после чего снова этот позор накрыл мехмат вплоть до перестройки.
— А как вы относитесь ко всей этой антисемитской кампании? Удивительно, что ни руководство факультета, ни университета до сих пор не покаялось.
— Я очень огорчался. В МГУ до сих пор есть, что называется, «нерукопожатные» люди, те, кто все это организовывали или участвовали в этом. Их даже иногда не принимают за границей, потому что знают, как они себя вели.
— Но вы оставались работать на мехмате, несмотря на антисемитизм при отборе абитуриентов?
— Да, я оставался работать на мехмате, несмотря на все эти безобразия, — конечно, они разрушали мехмат, недаром его уровень ныне сильно упал; но тогда он оставался очень высоким, там была первоклассная математика, и добровольно покидать мехмат не хотелось. Я вел два научных семинара, у меня были ученики, и мой уход только бы обрадовал партийное начальство. Да и уходить тогда было некуда — даже в ИППИ до перестройки меня бы не взяли.
— Давайте поговорим об учебе на мехмате. Как сформировались ваши научные интересы? Сразу ли вы определились с тем, что вам интересно в математике?
— Мои настоящие научные интересы возникли после того, как я познакомился с Израилем Моисеевичем Гельфандом. Можно сказать, что я был его учеником, хотя его «учительство» сказывалось лишь в том, что я ходил на его семинары и набирался ума-разума от его математических суждений. Когда я был на пятом курсе, мы сделали с Гельфандом совместную работу о так называемых «континуальных (или функциональных) интегралах».
Эта работа вызвала некоторое оживление среди физиков, и до сих пор это понятие и связанные с ним идеи служат для них важным эвристическим средством. Потом вспомнили, что еще в 1947 году Ричард Фейнман использовал аналогичную конструкцию. Моя дальнейшая жизнь в математике была этой работой предопределена, так как потом я в основном занимался математической физикой. Были, правда, еще работы по случайным процессам, по теории меры и функциональному анализу.
— Есть много интересных афоризмов, посвященных связи математики и физики. Так, Владимир Игоревич Арнольд говорил, что «математика — часть физики», Людвиг Дмитриевич Фаддеев считает, что «математика — это шестое чувство физики», а, по вашему мнению, каково соотношение физики и математики?
— Мне кажется, что в математической физике точно отражается соотношение между физикой и математикой. Ведь как действуют в математической физике? Берется задача из физики, и сначала она формулируется математически строго, как некая математическая проблема. Уже на этом этапе могут возникнуть важные новые понятия и появиться средства для решения. После этого возникшая проблема и исследуется согласно всем математическим канонам.
Когда задача бывает решена, нужно еще объяснить это решение физикам на привычном им языке. Существует еще и теоретическая физика, где тоже решаются те же проблемы теоретического характера с применением математики, но они решаются уже без особой строгости. Здесь главное — получить правдоподобное объяснение эмпирическим явлениям.
— А как вам удавалось быть на высоте не только в математике, но и в физике? Вы посещали теоретические семинары, читали специальную литературу?
— Одно время я посещал семинар Льва Давидовича Ландау. И даже выступал там один раз. Конечно, читал физическую литературу, особенно курс Ландау и Лифшица.
— Физику вы в порядке самообразования постигали?
— Да.
— Вы посещали семинары Гельфанда и Ландау. Их часто сравнивают и сопоставляют. Не могли бы вы сказать несколько слов про каждый из семинаров?
— Они были похожи тем, что и там, и там господствовал один человек — диктатор. А остальные должны были его слушаться. Например, Лев Давидович мог спокойно сказать выступающему, что все, что он говорит, — это мура, и уйти с доклада. Но в основном доклады были интересными, и очень познавательными были комментарии самого Ландау. Я ходил туда года два, не больше. Там же, я помню, познакомился с Людвигом Фаддеевым, с которым мы потом вместе работали. Он специально приезжал из Ленинграда, чтобы побывать на этом семинаре.
А на семинарах Гельфанда был тот же стиль, но как-то это было мне ближе, потому что и людей на семинаре я лучше знал, и материал был для меня более понятным. Как и семинар Ландау, гельфандовский семинар был образованием тоталитарным, но интересным. И наиболее интересными на семинарах Ландау и Гельфанда были выступления самих руководителей. Гельфанд после доклада объяснял, что он сам понял из сказанного, и даже то, что не имел в виду докладчик. Вот это было интересно!
— Нет, тогда, в 1949 году, ни у кого не было анкетных проблем при поступлении на мехмат. В частности, на нашем курсе училось много евреев. То же самое было и в следующем, 1950 году. Дискриминация евреев при приеме на мехмат началась в 1951 году и продолжалась три или четыре года. Потом она прекратилась до 1968 года, после чего снова этот позор накрыл мехмат вплоть до перестройки.
— А как вы относитесь ко всей этой антисемитской кампании? Удивительно, что ни руководство факультета, ни университета до сих пор не покаялось.
— Я очень огорчался. В МГУ до сих пор есть, что называется, «нерукопожатные» люди, те, кто все это организовывали или участвовали в этом. Их даже иногда не принимают за границей, потому что знают, как они себя вели.
— Но вы оставались работать на мехмате, несмотря на антисемитизм при отборе абитуриентов?
— Да, я оставался работать на мехмате, несмотря на все эти безобразия, — конечно, они разрушали мехмат, недаром его уровень ныне сильно упал; но тогда он оставался очень высоким, там была первоклассная математика, и добровольно покидать мехмат не хотелось. Я вел два научных семинара, у меня были ученики, и мой уход только бы обрадовал партийное начальство. Да и уходить тогда было некуда — даже в ИППИ до перестройки меня бы не взяли.
— Давайте поговорим об учебе на мехмате. Как сформировались ваши научные интересы? Сразу ли вы определились с тем, что вам интересно в математике?
— Мои настоящие научные интересы возникли после того, как я познакомился с Израилем Моисеевичем Гельфандом. Можно сказать, что я был его учеником, хотя его «учительство» сказывалось лишь в том, что я ходил на его семинары и набирался ума-разума от его математических суждений. Когда я был на пятом курсе, мы сделали с Гельфандом совместную работу о так называемых «континуальных (или функциональных) интегралах».
Эта работа вызвала некоторое оживление среди физиков, и до сих пор это понятие и связанные с ним идеи служат для них важным эвристическим средством. Потом вспомнили, что еще в 1947 году Ричард Фейнман использовал аналогичную конструкцию. Моя дальнейшая жизнь в математике была этой работой предопределена, так как потом я в основном занимался математической физикой. Были, правда, еще работы по случайным процессам, по теории меры и функциональному анализу.
— Есть много интересных афоризмов, посвященных связи математики и физики. Так, Владимир Игоревич Арнольд говорил, что «математика — часть физики», Людвиг Дмитриевич Фаддеев считает, что «математика — это шестое чувство физики», а, по вашему мнению, каково соотношение физики и математики?
— Мне кажется, что в математической физике точно отражается соотношение между физикой и математикой. Ведь как действуют в математической физике? Берется задача из физики, и сначала она формулируется математически строго, как некая математическая проблема. Уже на этом этапе могут возникнуть важные новые понятия и появиться средства для решения. После этого возникшая проблема и исследуется согласно всем математическим канонам.
Когда задача бывает решена, нужно еще объяснить это решение физикам на привычном им языке. Существует еще и теоретическая физика, где тоже решаются те же проблемы теоретического характера с применением математики, но они решаются уже без особой строгости. Здесь главное — получить правдоподобное объяснение эмпирическим явлениям.
— А как вам удавалось быть на высоте не только в математике, но и в физике? Вы посещали теоретические семинары, читали специальную литературу?
— Одно время я посещал семинар Льва Давидовича Ландау. И даже выступал там один раз. Конечно, читал физическую литературу, особенно курс Ландау и Лифшица.
— Физику вы в порядке самообразования постигали?
— Да.
— Вы посещали семинары Гельфанда и Ландау. Их часто сравнивают и сопоставляют. Не могли бы вы сказать несколько слов про каждый из семинаров?
— Они были похожи тем, что и там, и там господствовал один человек — диктатор. А остальные должны были его слушаться. Например, Лев Давидович мог спокойно сказать выступающему, что все, что он говорит, — это мура, и уйти с доклада. Но в основном доклады были интересными, и очень познавательными были комментарии самого Ландау. Я ходил туда года два, не больше. Там же, я помню, познакомился с Людвигом Фаддеевым, с которым мы потом вместе работали. Он специально приезжал из Ленинграда, чтобы побывать на этом семинаре.
А на семинарах Гельфанда был тот же стиль, но как-то это было мне ближе, потому что и людей на семинаре я лучше знал, и материал был для меня более понятным. Как и семинар Ландау, гельфандовский семинар был образованием тоталитарным, но интересным. И наиболее интересными на семинарах Ландау и Гельфанда были выступления самих руководителей. Гельфанд после доклада объяснял, что он сам понял из сказанного, и даже то, что не имел в виду докладчик. Вот это было интересно!
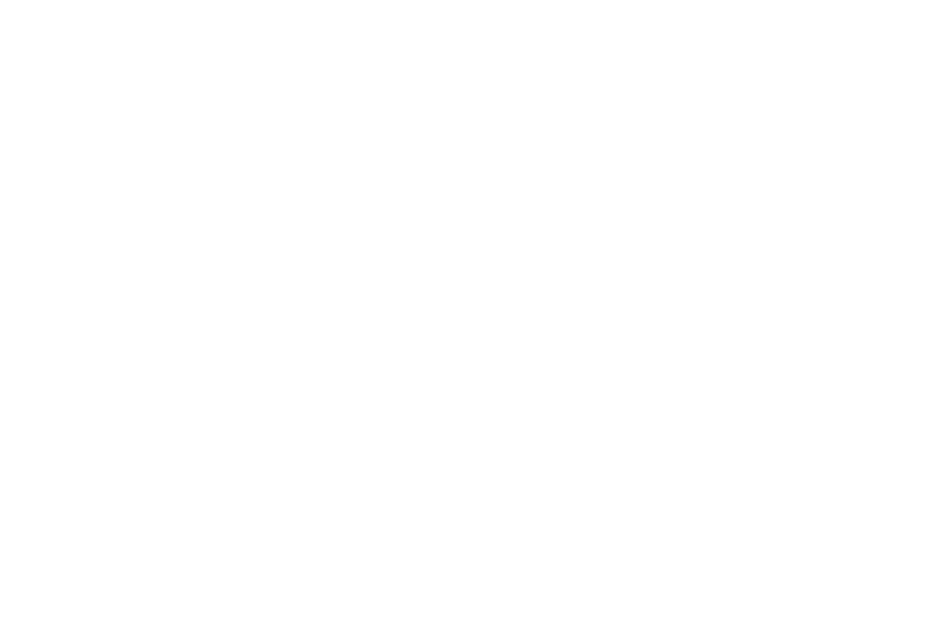
— Вы сами выступали на семинаре у Гельфанда?
— Выступал, да.
— И как это было? У вас было так, что вы обижались на какие-то реплики Израиля Моисеевича, или нет?
— Нет. Я не помню каких-нибудь язвительных реплик вовремя моего доклада. Да и вообще, к этим репликам давно уже все привыкли. Сначала манера Гельфанда обращаться с докладчиком немного коробила, а потом те, кто уже ходил на семинар какое-то время, привыкали.
— Расскажите, пожалуйста, о Роланде Львовиче Добрушине (1929—1995). Вы — почти одногодки, он всего лишь на два года был вас старше. Как складывалось ваше сотрудничество?
— Это был замечательный человек. Он был моим другом, и отношения у нас были не только научные, но и домашние. Он был большой умницей не только в математике, но, как говорится, и «по жизни», его многие любили, особенно женщины. Юлик (так его обычно называли друзья) не переносил никакого притворства и фальши. У него было развито чувство гражданственности, и это не раз проявлялось в его словах и поступках. Наша дружба и сотрудничество продолжались довольно долго. В начале 1960-х мы затеяли с ним вести семинар по статистической физике, немного погодя к нам присоединился Яша Синай, а еще позже и Вадим Малышев. Через некоторое время семинар стал знаменит, на нем было сделано немало замечательных работ, и многие ныне работающие математики выросли на этом семинаре. Он просуществовал более 30 лет.
— А как складывались ваши отношения с женщинами?
— Все было: и удачи, и неудачи.
— Бытует мнение, что обычно женщины не могут добиться больших успехов в математике.
— Нет, конечно, были те, кто добивался. Правда, нередко ценой потерь в личной жизни. Я знаю ряд таких примеров — не буду их называть. Но есть и противоположные примеры, скажем, Людмила Всеволодовна Келдыш.
— Я как-то делала интервью с ее сыном — Сергеем Петровичем Новиковым. Основная проблема ведь в том, что у женщины уходит много сил и времени на мысли о семье, а математика же требует 24 часа в сутки, такой «нон-стоп», да?
— Да, приблизительно так. Один из моих знакомых как-то заметил, что природа, возможно, создала разное устройство мозга, «химизмы» различны. Женщинам труднее целиком отдаваться математике.
— А вы согласны с афоризмом Владимира Успенского, что «математика — гуманитарная наука»?
— Нет, не согласен. Гуманитарная наука занимается исключительно отношениями между людьми или людей с обществом — лингвистика, история, философия… А математика — совершенно отвлеченными вещами. Единственное, что их сближает, — это методы исследования, скорее умозрительные. В естественных науках главное — это конкретный эксперимент, а математика и гуманитарные науки заняты чисто умственными конструкциями, часто вообще не связанными с экспериментами.
— После 40 лет вы занялись живописью — связано ли это с вашим математическим стилем? Вы в математике скорее геометр, чем алгебраист? Видите проблему скорее через образы, чем знаки?
— Я больше аналитик по духу. Геометрия не такая уж близкая мне область математики, хотя, конечно, я и геометрию изучал. Я с детства любил рисовать, потом бросил. А после сорока меня как-то потянуло к краскам. Я узнал, что Митя Фукс организовал у себя небольшой кружок, где собирались его друзья, и они вместе писали маслом этюды. Руководил этим кружком Борис Биргер, известный московский художник. Он попал под общую опалу, когда участвовал в знаменитой выставке в Манеже, которую разгромил Хрущев.
— О ней у Аксенова рассказано в «Таинственной страсти».
— Да, да. Правда, там Биргер почему-то не назван, но он тоже входил в число пострадавших художников. В общем, он руководил нами — он приходил, усаживался на кухне и ждал, пока мы напишем свои очередные шедевры. После этого мы пили чай и Биргер подробно разбирал каждую работу.
— В каком жанре вы работали?
— Например, такие портреты (показывает на картину на стене). У меня были и натюрморты. Иногда Биргер приводил профессиональную натурщицу, выбирал для нее подходящую позу, и мы писали с нее, что называется, ню. Весной или в начале лета мы иногда выезжали за город, так сказать, на пленэр и писали пейзажи.
— То есть вы сразу начали писать большие холсты красками?
— Да. Может, не сразу, но довольно скоро. Но потом, после этого кружка, я уже редко рисовал.
— Получается, что вы никогда не рисовали математические образы?
— Нет, с математикой мое увлечение живописью никак не связано, только с моими художественными склонностями. Конечно, в моих математических работах встречаются пояснительные картинки, но это другое.
— Можете ли вы сравнить атмосферу «сталинской» и «послесталинской» математики? Смерть Сталина как-то сказалась на науке, вы это как-то почувствовали?
— По-моему, не сказалась. Конечно, какие-то люди вернулись из лагерей, вообще люди стали свободнее говорить, потому что раньше «молчали в тряпочку». В чисто человеческом общении — да, многое изменилось, а в математике — никак. Ну, может быть, при Сталине некоторых математиков не брали на мехмат МГУ, например евреев, а потом стали брать, но в целом математика никак не изменилась. И то, что случилось при Сталине с биологией, математику миновало. Здесь ее защитила, видимо, физика, а ту спасла бомба.
— А то, что вы стали профессором мехмата МГУ только после перестройки, — почему? Из-за «письма 99-ти» или из-за чего?
— Да, из-за этого письма и еще каких-то моих диссидентских склонностей. Чудо, что меня вообще не выгнали тогда. У меня еще был один проступок: я прикрывал некого еврея — его не выпускали в Израиль, ему надо было какую-то работу найти. И он фиктивно записался моим секретарем. Но это как-то стало известно, его стали преследовать, хотели, чтобы я отказался от него. Я не стал отказываться. Тогда сообщили об этом на мехмат, был скандал, меня чуть не выгнали. Начальство относилось ко мне с подозрением, как к политически «неблагонадежному элементу».
— Вы не жалеете, что подписали то знаменитое «письмо 99 -ти» в защиту Есенина-Вольпина в 1968 году, когда вам было 37 лет? Ведь потом почти все подписанты подверглись репрессиям. Имело ли смысл это делать или вы тогда по-другому не могли?
— Это была вообще «эпоха писем», мы писали по разным поводам. И это было выражением нашего протеста, наших эмоций, которые ни к чему, конечно, не вели. Но в случае Есенина-Вольпина наше письмо помогло, потому что его перевели из тюремной «психушки» (психиатрической больницы № 5 на подмосковной станции Столбовая. — Прим. ред.), где синяя лампочка горела у него над головой день и ночь, где нельзя было свободно ходить и прочее, и прочее, сначала в больницу им. Кащенко при Институте психиатрии, где было полегче, а потом просто отпустили. Кстати говоря, «подписанты», работавшие на мехмате, подверглись минимальным репрессиям. С ними просто провели воспитательную беседу, в других местах было серьезней.
— Американский социолог науки Роберт Мертон считал, что «наука может нормально функционировать только при демократическом устройстве общества». Как вы к такому высказыванию относитесь? Нужны ли науке свобода и демократия в стране или нормальная наука может развиваться и при авторитаризме?
— Свобода нужна людям, а не науке. Конечно, гуманитарные науки, которые трактуют жизнь людей, совершенно по-разному развиваются в свободном обществе и в несвободном обществе. Математику же это никак не задевает.
— Как часто у вас менялись научные интересы? Меняли ли вы их вообще? Меняли резко или постепенно?
— Мои первые занятия — это были функции действительного переменного. Но, когда я узнал о задачах, которыми занимался И. М. Гельфанд, мне они понравились больше, и я пошел к Гельфанду. В дальнейшем я занимался самыми разными задачами и в конце концов научился держать в поле зрения несколько тем и переходить время от времени от одной к другой.
— А откуда эти задачи появлялись? Вам их кто-то давал или вы их для себя сами определяли?
— Вначале, может быть, кто-то и давал, а потом уже сам определял, чем заниматься. У меня очень много совместных работ. Так, например, много хороших работ с Яшей Синаем, с Юликом Добрушиным, Вадимом Малышевым, с моими учениками. Иногда инициатива исходила от меня, иногда от соавтора. Еще у меня есть много работ с иностранцами, я ездил то в Германию, то в Италию, то во Францию, и всюду у меня установились многолетние научные контакты с тамошними математиками.
— Это еще до перестройки?
— Нет, уже после падения советской власти.
— Выступал, да.
— И как это было? У вас было так, что вы обижались на какие-то реплики Израиля Моисеевича, или нет?
— Нет. Я не помню каких-нибудь язвительных реплик вовремя моего доклада. Да и вообще, к этим репликам давно уже все привыкли. Сначала манера Гельфанда обращаться с докладчиком немного коробила, а потом те, кто уже ходил на семинар какое-то время, привыкали.
— Расскажите, пожалуйста, о Роланде Львовиче Добрушине (1929—1995). Вы — почти одногодки, он всего лишь на два года был вас старше. Как складывалось ваше сотрудничество?
— Это был замечательный человек. Он был моим другом, и отношения у нас были не только научные, но и домашние. Он был большой умницей не только в математике, но, как говорится, и «по жизни», его многие любили, особенно женщины. Юлик (так его обычно называли друзья) не переносил никакого притворства и фальши. У него было развито чувство гражданственности, и это не раз проявлялось в его словах и поступках. Наша дружба и сотрудничество продолжались довольно долго. В начале 1960-х мы затеяли с ним вести семинар по статистической физике, немного погодя к нам присоединился Яша Синай, а еще позже и Вадим Малышев. Через некоторое время семинар стал знаменит, на нем было сделано немало замечательных работ, и многие ныне работающие математики выросли на этом семинаре. Он просуществовал более 30 лет.
— А как складывались ваши отношения с женщинами?
— Все было: и удачи, и неудачи.
— Бытует мнение, что обычно женщины не могут добиться больших успехов в математике.
— Нет, конечно, были те, кто добивался. Правда, нередко ценой потерь в личной жизни. Я знаю ряд таких примеров — не буду их называть. Но есть и противоположные примеры, скажем, Людмила Всеволодовна Келдыш.
— Я как-то делала интервью с ее сыном — Сергеем Петровичем Новиковым. Основная проблема ведь в том, что у женщины уходит много сил и времени на мысли о семье, а математика же требует 24 часа в сутки, такой «нон-стоп», да?
— Да, приблизительно так. Один из моих знакомых как-то заметил, что природа, возможно, создала разное устройство мозга, «химизмы» различны. Женщинам труднее целиком отдаваться математике.
— А вы согласны с афоризмом Владимира Успенского, что «математика — гуманитарная наука»?
— Нет, не согласен. Гуманитарная наука занимается исключительно отношениями между людьми или людей с обществом — лингвистика, история, философия… А математика — совершенно отвлеченными вещами. Единственное, что их сближает, — это методы исследования, скорее умозрительные. В естественных науках главное — это конкретный эксперимент, а математика и гуманитарные науки заняты чисто умственными конструкциями, часто вообще не связанными с экспериментами.
— После 40 лет вы занялись живописью — связано ли это с вашим математическим стилем? Вы в математике скорее геометр, чем алгебраист? Видите проблему скорее через образы, чем знаки?
— Я больше аналитик по духу. Геометрия не такая уж близкая мне область математики, хотя, конечно, я и геометрию изучал. Я с детства любил рисовать, потом бросил. А после сорока меня как-то потянуло к краскам. Я узнал, что Митя Фукс организовал у себя небольшой кружок, где собирались его друзья, и они вместе писали маслом этюды. Руководил этим кружком Борис Биргер, известный московский художник. Он попал под общую опалу, когда участвовал в знаменитой выставке в Манеже, которую разгромил Хрущев.
— О ней у Аксенова рассказано в «Таинственной страсти».
— Да, да. Правда, там Биргер почему-то не назван, но он тоже входил в число пострадавших художников. В общем, он руководил нами — он приходил, усаживался на кухне и ждал, пока мы напишем свои очередные шедевры. После этого мы пили чай и Биргер подробно разбирал каждую работу.
— В каком жанре вы работали?
— Например, такие портреты (показывает на картину на стене). У меня были и натюрморты. Иногда Биргер приводил профессиональную натурщицу, выбирал для нее подходящую позу, и мы писали с нее, что называется, ню. Весной или в начале лета мы иногда выезжали за город, так сказать, на пленэр и писали пейзажи.
— То есть вы сразу начали писать большие холсты красками?
— Да. Может, не сразу, но довольно скоро. Но потом, после этого кружка, я уже редко рисовал.
— Получается, что вы никогда не рисовали математические образы?
— Нет, с математикой мое увлечение живописью никак не связано, только с моими художественными склонностями. Конечно, в моих математических работах встречаются пояснительные картинки, но это другое.
— Можете ли вы сравнить атмосферу «сталинской» и «послесталинской» математики? Смерть Сталина как-то сказалась на науке, вы это как-то почувствовали?
— По-моему, не сказалась. Конечно, какие-то люди вернулись из лагерей, вообще люди стали свободнее говорить, потому что раньше «молчали в тряпочку». В чисто человеческом общении — да, многое изменилось, а в математике — никак. Ну, может быть, при Сталине некоторых математиков не брали на мехмат МГУ, например евреев, а потом стали брать, но в целом математика никак не изменилась. И то, что случилось при Сталине с биологией, математику миновало. Здесь ее защитила, видимо, физика, а ту спасла бомба.
— А то, что вы стали профессором мехмата МГУ только после перестройки, — почему? Из-за «письма 99-ти» или из-за чего?
— Да, из-за этого письма и еще каких-то моих диссидентских склонностей. Чудо, что меня вообще не выгнали тогда. У меня еще был один проступок: я прикрывал некого еврея — его не выпускали в Израиль, ему надо было какую-то работу найти. И он фиктивно записался моим секретарем. Но это как-то стало известно, его стали преследовать, хотели, чтобы я отказался от него. Я не стал отказываться. Тогда сообщили об этом на мехмат, был скандал, меня чуть не выгнали. Начальство относилось ко мне с подозрением, как к политически «неблагонадежному элементу».
— Вы не жалеете, что подписали то знаменитое «письмо 99 -ти» в защиту Есенина-Вольпина в 1968 году, когда вам было 37 лет? Ведь потом почти все подписанты подверглись репрессиям. Имело ли смысл это делать или вы тогда по-другому не могли?
— Это была вообще «эпоха писем», мы писали по разным поводам. И это было выражением нашего протеста, наших эмоций, которые ни к чему, конечно, не вели. Но в случае Есенина-Вольпина наше письмо помогло, потому что его перевели из тюремной «психушки» (психиатрической больницы № 5 на подмосковной станции Столбовая. — Прим. ред.), где синяя лампочка горела у него над головой день и ночь, где нельзя было свободно ходить и прочее, и прочее, сначала в больницу им. Кащенко при Институте психиатрии, где было полегче, а потом просто отпустили. Кстати говоря, «подписанты», работавшие на мехмате, подверглись минимальным репрессиям. С ними просто провели воспитательную беседу, в других местах было серьезней.
— Американский социолог науки Роберт Мертон считал, что «наука может нормально функционировать только при демократическом устройстве общества». Как вы к такому высказыванию относитесь? Нужны ли науке свобода и демократия в стране или нормальная наука может развиваться и при авторитаризме?
— Свобода нужна людям, а не науке. Конечно, гуманитарные науки, которые трактуют жизнь людей, совершенно по-разному развиваются в свободном обществе и в несвободном обществе. Математику же это никак не задевает.
— Как часто у вас менялись научные интересы? Меняли ли вы их вообще? Меняли резко или постепенно?
— Мои первые занятия — это были функции действительного переменного. Но, когда я узнал о задачах, которыми занимался И. М. Гельфанд, мне они понравились больше, и я пошел к Гельфанду. В дальнейшем я занимался самыми разными задачами и в конце концов научился держать в поле зрения несколько тем и переходить время от времени от одной к другой.
— А откуда эти задачи появлялись? Вам их кто-то давал или вы их для себя сами определяли?
— Вначале, может быть, кто-то и давал, а потом уже сам определял, чем заниматься. У меня очень много совместных работ. Так, например, много хороших работ с Яшей Синаем, с Юликом Добрушиным, Вадимом Малышевым, с моими учениками. Иногда инициатива исходила от меня, иногда от соавтора. Еще у меня есть много работ с иностранцами, я ездил то в Германию, то в Италию, то во Францию, и всюду у меня установились многолетние научные контакты с тамошними математиками.
— Это еще до перестройки?
— Нет, уже после падения советской власти.
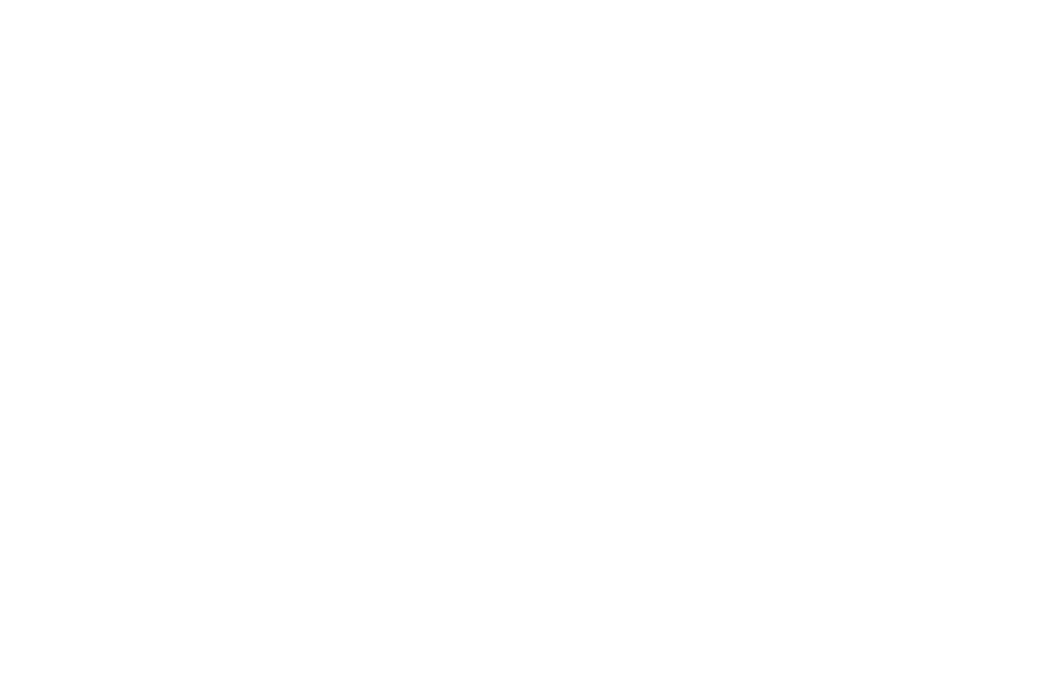
— А до перестройки вы были «невыездным»?
— Я ездил в Польшу несколько раз, но скорее туристом. Дважды был там на научной конференции. Был один раз в Венгрии, читал там лекции. До падения СССР больше нигде за границей не был, после же стал много ездить.
— Как вы думаете, есть ли разница между, скажем, французской школой математики и российской? Вы везде чувствовали себя как дома, когда разговаривали с коллегами-математиками?
— Нет, никаких различий я не чувствовал. Вообще, я никогда в жизни не чувствовал преград между людьми и мог разговаривать с любым человеком на равных. Может быть, они удивлялись моей свободе, но виду не подавали. Тем более что я работал за границей чаще всего с русскими эмигрантами, которые там живут уже давно. Но, занимаясь и с местными математиками, я не чувствовал никаких преград в общении, кроме, быть может, языковых.
— А не было мысли уехать из страны после перестройки? Ведь Израиль Моисеевич Гельфанд уехал в США.
— Нет, таких мыслей у меня не было.
— А почему?
— Когда я жил за границей больше двух месяцев, то начинал скучать по дому. В моей жизни очень много значило общение с людьми, и общение именно по-русски. Близкое общение вне математики по-английски, в чем я слаб, мне трудно, и я часто чувствовал вакуум в общении, хотелось поскорее домой, к семье. Представить себе, что я окажусь за границей навсегда, — было невозможно.
— В воспоминаниях одного вашего друга (Якова Островского) я прочитала, что вы встречались со Станиславом Лемом, когда он приезжал в Москву и вы вместе ходили на встречу с ним в посольство Польши.
— Нет, нет, это ошибка, я не смог туда пойти.
— А вообще, научная фантастика какую-то роль играла в вашей жизни?
— Я с интересом читал научные романчики на эту тему, но сильно никогда не был увлечен.
— Ни Лем, ни Аркадий и Борис Стругацкие, ни Айзек Азимов вас не «захватили в плен»?
— Мне очень нравились книги братьев Стругацких. Но скорее не их философские романы, а те, где главной была детективная сторона. Еще я ценю Брэдбери. Но это все не сказывалось на моей научной жизни.
— А в чтении ваши интересы как-то менялись? Вы предпочитаете поэзию или прозу? Что любили читать, что любите?
— Пожалуй, я одновременно любил и то и другое. В поэзию по-настоящему я погрузился, наверное, лет с 20. Очень много читал поэтов и даже немного сам сочинял стихи. Но сейчас это уравновесилось. Новых поэтов я воспринимаю меньше, больше ценю Пастернака, Мандельштама, Ахматову, Заболоцкого — классический набор.
— Вы считаете себя «шестидесятником»? Нравились ли стихи Рождественского, Вознесенского, Евтушенко?
— Я из этого поколения и по возрасту, и по духу. Евтушенко мне нравился, Рождественский и Вознесенский — нет. Время «после Сталина» олицетворяет для меня Евтушенко. Молодым он привнес свежую струю в «послесталинскую» оттепель. Не раз слушал его выступления в университете, еще где-то, где он читал свои ранние стихи. Но потом Евтушенко приелся, появился Бродский, Самойлов и др.
— На знаменитые встречи с поэтами вы ходили? На Маяковку?
— По большей части они проходили в Политехническом. Но я туда не ходил.
— Я заметила у вас на столике «Таинственную страсть» Аксенова. Что думаете об этом романе? Близок ли его рассказ вашим воспоминаниям о 1960-х? Вашему ощущению того времени?
— Ощущения-то похожи, но мне его роман показался довольно скучным, он много пишет о том, как поэты вели себя в личной жизни. А мне интереснее, как они проявляли себя вовне, а не то, как изменяли и меняли жен.
— А слушали ли бардовскую песню? Любили ли песни Окуджавы?
— Замечательный Окуджава! Его песни были переворотом в нашем понимании окружающей жизни. Кроме какого-нибудь Долматовского или Исаковского, мы ничего другого не слышали, и вдруг появился Булат как совершенно свежая струя, очень необычная. Помню, все тогда ездили на «случку» магнитофонов, переписывали его песни с одного магнитофона на другой.
— Так и называли — случка?
— Да (хохочет).
— Необычный термин для современного уха.
— Так называли, но, конечно, шутя. Да… Я помню то время, когда все распевали Окуджаву.
— Я ездил в Польшу несколько раз, но скорее туристом. Дважды был там на научной конференции. Был один раз в Венгрии, читал там лекции. До падения СССР больше нигде за границей не был, после же стал много ездить.
— Как вы думаете, есть ли разница между, скажем, французской школой математики и российской? Вы везде чувствовали себя как дома, когда разговаривали с коллегами-математиками?
— Нет, никаких различий я не чувствовал. Вообще, я никогда в жизни не чувствовал преград между людьми и мог разговаривать с любым человеком на равных. Может быть, они удивлялись моей свободе, но виду не подавали. Тем более что я работал за границей чаще всего с русскими эмигрантами, которые там живут уже давно. Но, занимаясь и с местными математиками, я не чувствовал никаких преград в общении, кроме, быть может, языковых.
— А не было мысли уехать из страны после перестройки? Ведь Израиль Моисеевич Гельфанд уехал в США.
— Нет, таких мыслей у меня не было.
— А почему?
— Когда я жил за границей больше двух месяцев, то начинал скучать по дому. В моей жизни очень много значило общение с людьми, и общение именно по-русски. Близкое общение вне математики по-английски, в чем я слаб, мне трудно, и я часто чувствовал вакуум в общении, хотелось поскорее домой, к семье. Представить себе, что я окажусь за границей навсегда, — было невозможно.
— В воспоминаниях одного вашего друга (Якова Островского) я прочитала, что вы встречались со Станиславом Лемом, когда он приезжал в Москву и вы вместе ходили на встречу с ним в посольство Польши.
— Нет, нет, это ошибка, я не смог туда пойти.
— А вообще, научная фантастика какую-то роль играла в вашей жизни?
— Я с интересом читал научные романчики на эту тему, но сильно никогда не был увлечен.
— Ни Лем, ни Аркадий и Борис Стругацкие, ни Айзек Азимов вас не «захватили в плен»?
— Мне очень нравились книги братьев Стругацких. Но скорее не их философские романы, а те, где главной была детективная сторона. Еще я ценю Брэдбери. Но это все не сказывалось на моей научной жизни.
— А в чтении ваши интересы как-то менялись? Вы предпочитаете поэзию или прозу? Что любили читать, что любите?
— Пожалуй, я одновременно любил и то и другое. В поэзию по-настоящему я погрузился, наверное, лет с 20. Очень много читал поэтов и даже немного сам сочинял стихи. Но сейчас это уравновесилось. Новых поэтов я воспринимаю меньше, больше ценю Пастернака, Мандельштама, Ахматову, Заболоцкого — классический набор.
— Вы считаете себя «шестидесятником»? Нравились ли стихи Рождественского, Вознесенского, Евтушенко?
— Я из этого поколения и по возрасту, и по духу. Евтушенко мне нравился, Рождественский и Вознесенский — нет. Время «после Сталина» олицетворяет для меня Евтушенко. Молодым он привнес свежую струю в «послесталинскую» оттепель. Не раз слушал его выступления в университете, еще где-то, где он читал свои ранние стихи. Но потом Евтушенко приелся, появился Бродский, Самойлов и др.
— На знаменитые встречи с поэтами вы ходили? На Маяковку?
— По большей части они проходили в Политехническом. Но я туда не ходил.
— Я заметила у вас на столике «Таинственную страсть» Аксенова. Что думаете об этом романе? Близок ли его рассказ вашим воспоминаниям о 1960-х? Вашему ощущению того времени?
— Ощущения-то похожи, но мне его роман показался довольно скучным, он много пишет о том, как поэты вели себя в личной жизни. А мне интереснее, как они проявляли себя вовне, а не то, как изменяли и меняли жен.
— А слушали ли бардовскую песню? Любили ли песни Окуджавы?
— Замечательный Окуджава! Его песни были переворотом в нашем понимании окружающей жизни. Кроме какого-нибудь Долматовского или Исаковского, мы ничего другого не слышали, и вдруг появился Булат как совершенно свежая струя, очень необычная. Помню, все тогда ездили на «случку» магнитофонов, переписывали его песни с одного магнитофона на другой.
— Так и называли — случка?
— Да (хохочет).
— Необычный термин для современного уха.
— Так называли, но, конечно, шутя. Да… Я помню то время, когда все распевали Окуджаву.
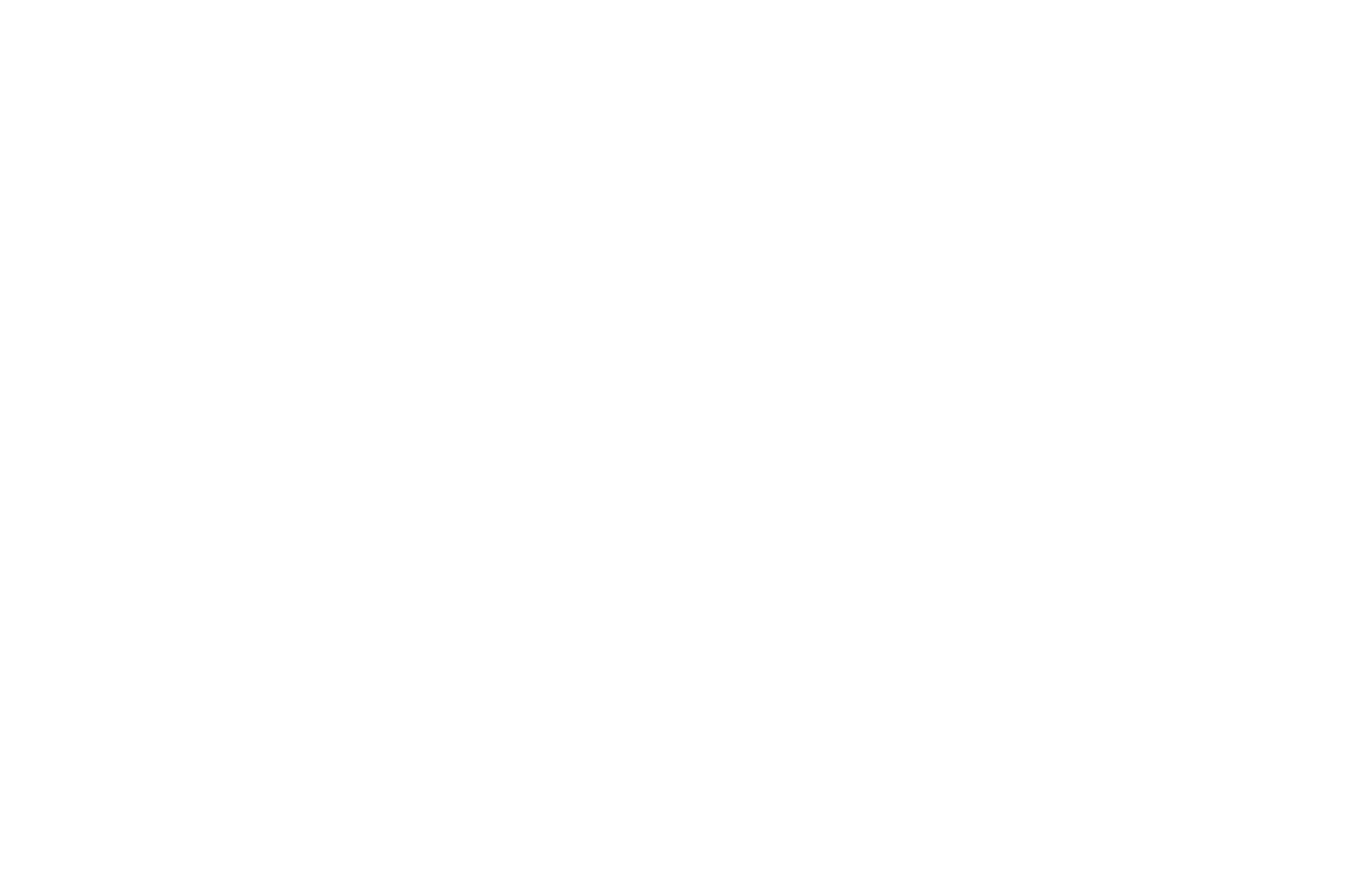
— А сами увлекались музыкой, умеете играть на гитаре?
— Нет, я, к сожалению, человек не музыкальный.
— Есть ли какие-то вопросы в математике, для вас не решенные, и вы об этом переживаете, бьетесь над какой-то проблемой?
— Да, есть, до сих пор думаю над некоторыми задачами, хотя сейчас уже не так интенсивно, как прежде, — видно, возраст, еще ногу в бедре сломал, трудно далеко ходить. И это ограничивает жизнь.
— Когда вы начали работать в Институте проблем передачи информации? И какую роль ИППИ играет в вашей жизни?
— С ИППИ было так: когда Добрушин перешел в ИППИ в конце 1960-х, он меня туда долго звал. Я как-то не решался оставить МГУ, это ведь очень монументальное место, жалко было его бросить. Но, тем не менее, я на ИППИ посматривал. А после перестройки появилось много реальных приглашений поехать за границу. А я не мог свободно ездить — в МГУ надо читать лекции, вести занятия. Поэтому я решил перейти в ИППИ. Туда и легче было перейти, чем раньше.
И вот я поступил в ИППИ в 1992-м и очень доволен, потому что там куда более приятная человеческая атмосфера, чем в МГУ. Но, тем не менее, я продолжал на мехмате вести свой семинар. В 2000 году был даже зачислен на полставки на кафедру вероятностей и работал там до того момента, когда я сломал ногу, — тогда я окончательно уволился из университета.
— Как вы сейчас можете оценить ситуацию с математикой в России, ее развитие? Количество математических центров увеличивается или уменьшается?
— Самым превосходным математическим центром до развала СССР был московский мехмат. Затем шла «Стекловка», ленинградский матмех, ЛОМИ, новосибирский Институт математики. Сильные математические школы были в Киеве, Одессе, Харькове, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже, в Красноярске, Вильнюсе и Ташкенте. Сейчас все это немного сжимается. Многие математики уезжают за границу, другие, особенно молодые люди, идут работать в фирмы, например в банки. Так что сейчас общий уровень математики в России понизился. С другой стороны, в Москве возникли новые сильные математические коллективы — в Независимом университете, в Высшей школе экономики, в ИППИ…
— Если бы вас попросили продолжить фразу «Математика — это…», как бы вы ее продолжили?
— Математика — это открытие неких умозрительных сущностей и способов оперирования ими. Многие считают, что ценность их в приложениях, это важно, но главная их ценность в развитии человеческого интеллекта. Это залог человеческой эволюции.
— 85 лет, прожитые вами, — это большая часть века, и наверняка вы ответили на вечный вопрос: «В чем смысл жизни?» В чем он?
— По-моему, этот вопрос делится на два: смысл моей собственной жизни и жизни близких мне людей и вопрос о смысле существования человечества. На вторую часть ответить не берусь. Хотя верю, что ответ есть и кому-то он, быть может, ведом. А содержание своей жизни я вижу в двух вещах: я любил заниматься наукой и любил общение с людьми. У меня было много друзей, я всегда стремился к новым общениям.
— Большое спасибо за интервью!
— Нет, я, к сожалению, человек не музыкальный.
— Есть ли какие-то вопросы в математике, для вас не решенные, и вы об этом переживаете, бьетесь над какой-то проблемой?
— Да, есть, до сих пор думаю над некоторыми задачами, хотя сейчас уже не так интенсивно, как прежде, — видно, возраст, еще ногу в бедре сломал, трудно далеко ходить. И это ограничивает жизнь.
— Когда вы начали работать в Институте проблем передачи информации? И какую роль ИППИ играет в вашей жизни?
— С ИППИ было так: когда Добрушин перешел в ИППИ в конце 1960-х, он меня туда долго звал. Я как-то не решался оставить МГУ, это ведь очень монументальное место, жалко было его бросить. Но, тем не менее, я на ИППИ посматривал. А после перестройки появилось много реальных приглашений поехать за границу. А я не мог свободно ездить — в МГУ надо читать лекции, вести занятия. Поэтому я решил перейти в ИППИ. Туда и легче было перейти, чем раньше.
И вот я поступил в ИППИ в 1992-м и очень доволен, потому что там куда более приятная человеческая атмосфера, чем в МГУ. Но, тем не менее, я продолжал на мехмате вести свой семинар. В 2000 году был даже зачислен на полставки на кафедру вероятностей и работал там до того момента, когда я сломал ногу, — тогда я окончательно уволился из университета.
— Как вы сейчас можете оценить ситуацию с математикой в России, ее развитие? Количество математических центров увеличивается или уменьшается?
— Самым превосходным математическим центром до развала СССР был московский мехмат. Затем шла «Стекловка», ленинградский матмех, ЛОМИ, новосибирский Институт математики. Сильные математические школы были в Киеве, Одессе, Харькове, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже, в Красноярске, Вильнюсе и Ташкенте. Сейчас все это немного сжимается. Многие математики уезжают за границу, другие, особенно молодые люди, идут работать в фирмы, например в банки. Так что сейчас общий уровень математики в России понизился. С другой стороны, в Москве возникли новые сильные математические коллективы — в Независимом университете, в Высшей школе экономики, в ИППИ…
— Если бы вас попросили продолжить фразу «Математика — это…», как бы вы ее продолжили?
— Математика — это открытие неких умозрительных сущностей и способов оперирования ими. Многие считают, что ценность их в приложениях, это важно, но главная их ценность в развитии человеческого интеллекта. Это залог человеческой эволюции.
— 85 лет, прожитые вами, — это большая часть века, и наверняка вы ответили на вечный вопрос: «В чем смысл жизни?» В чем он?
— По-моему, этот вопрос делится на два: смысл моей собственной жизни и жизни близких мне людей и вопрос о смысле существования человечества. На вторую часть ответить не берусь. Хотя верю, что ответ есть и кому-то он, быть может, ведом. А содержание своей жизни я вижу в двух вещах: я любил заниматься наукой и любил общение с людьми. У меня было много друзей, я всегда стремился к новым общениям.
— Большое спасибо за интервью!
Интервью опубликовано в № 2 (221) газеты «Троицкий вариант — Наука» от 31 января 2017 года.