Семен Шлосман
Можно представлять области математики архипелагом, где во время отлива обнаруживаются отмели, по которым можно из одной области пройти в другую. А во время прилива кажется, что одна от другой отделена существенной преградой
Беседовал Михаил Гельфанд
Фото Евгения Гурко
Фото Евгения Гурко
Семен Шлосман
Можно представлять области математики архипелагом, где во время отлива обнаруживаются отмели, по которым можно из одной области пройти в другую. А во время прилива кажется, что одна от другой отделена существенной преградой
Беседовал Михаил Гельфанд
Фото Евгения Гурко
Фото Евгения Гурко
СЕМЕН БЕНСИОНОВИЧ ШЛОСМАН — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Добрушинской математической лаборатории Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН), профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех). Окончил мехмат МГУ в 1972 году, аспирантуру ИППИ РАН (под руководством Р. Л. Добрушина) в 1975 году. Занимается математической физикой, комбинаторикой и теорией вероятностей. Увлечения — музыка и водные походы.
— Мы беседовали с Цфасманом, и он цитировал вас: «Математические идеи устроены следующим образом: человек пишет статью. Наш коллега Сеня Шлосман мне как-то сказал: „Статьи мы пишем не для того, чтобы их читали (ясно же, что никто читать не будет), а для того, чтобы самому быть уверенным в правильности написанного“». Вы действительно так сказали?
— Не могу знать, сказал я именно это или нет, но некая истина здесь имеется. Роланд Львович Добрушин говорил, что рецензенты статьи читают не так, как автор. Поэтому на рецензента рассчитывать серьезный математик не должен. Друзья и одновременно коллеги, которых так же сильно волнует тема статьи, могут прочитать.
— Речь же шла не о рецензентах. Это был пример крайней точки зрения на то, зачем вообще нужно писать математические статьи. В контексте разговора о том, зачем вообще нужно заниматься математикой.
— Отчасти верно следующее: можно написать некое утверждение, сделать набросок; текст получится коротким, его относительно легко прочесть и понять. А вот единственный способ проверить, что сказанное там еще и верно, — это написать подробное доказательство. Насколько подробное — зависит от математической культуры читателя и писателя, некоторые детали всеми математиками по умолчанию опускаются. На своем примере убеждался: если я думаю, что все, имеется результат и он истинен, — то, когда начинаешь его записывать, возникают некие детали. И, может, он действительно, как говорят, «морально» верен (это слово не люблю, но часто слышу), но, чтобы убедиться окончательно, нужно написать доказательство со всеми подробностями. Тогда оказывается, что чуть-чуть надо поправить, и получается даже еще интереснее: проявляются некоторые банальные исключения, которые на первый взгляд не видны и в голову не приходят. Теперь доказательство действительно продумано и закодировано ручкой на бумаге. Но это отвечает не на все стороны заданного вопроса. Действительно, написать-то можно, а зачем публиковать? Израиль Моисеевич Гельфанд говорил, что публиковать надо, не объясняя зачем.
— Израиль Моисеевич — то, что я мог наблюдать в медицине, — действительно фиксировал все промежуточные результаты. Они выпускали препринты ИПМ — даже не статьи.
— То, что слышал я, относится к математическим работам. Это даже понятно: некоторые люди пишут, чтобы читали другие люди, те, кому интересно. Математика — это целое community, целый мир людей. Журналы, или теперь архивы (электронные. — Прим. ред.), люди читают. Некоторые имеют хорошую привычку читать их ежедневно: что появилось в математике за истекшие сутки.
— В математике релевантные результаты появляются с такой частотой?
— Релевантные — нет. Релевантные — понятие относительное. Но несколько статей появляются каждый день. Иногда достаточно посмотреть список авторов, иногда — заголовок или абстракт, а иногда и всю статью.
— Как вы понимаете, хотите ли вы смотреть всю статью или нет?
— Ну, всю статью — это я, может, преувеличил. Опять-таки, история от Израиля Моисеевича о том, как на семинаре Колмогоров пересказывал содержание и результаты некой книжки. А на следующей неделе он говорил: «Все я вам неправильно рассказал. Этого там нет, другого. Просто в комнате было довольно плохо видно, я лежал, листал книгу и думал: что в ней могло бы быть?» Колмогоров рассказывал то, что он сам придумал, — что бы там могло быть написано.
— И что интереснее?
— Израиль Моисеевич не сказал. Но из контекста ясно, что, конечно, первый вариант.
— Если считать, что релевантная статья — это та, которую вы читаете целиком и разбираете доказательства, то каков их поток?
— Может быть, раз в неделю…
— А пишете сколько? Я сейчас попытаюсь уравнение баланса свести. Так мы оценим размер community.
— Неизвестно, что мы оценим. Сколько я пишу? Скажем, три статьи в год.
— С одним-двумя соавторами?
— Да. Как-то давно не писал один.
— На душу получается по одной. На 50 внимательно прочитанных статей — одна написанная. Сколько, по-вашему, человек внимательно читают ваши статьи?
— Льщу себе надеждой, что о большинстве не знаю. Должен признаться честно, почему-то об этом никогда не задумывался. Все-таки я бы не сказал, что из чтения статей познается главное.
— А откуда?
— Из бесед или рассказов о работах. Если мне интересно, то довольно часто понимаю, что там написано и как это могло быть сделано.
— Та же самая история, как про Колмогорова.
— В миниатюре. Но, конечно, бывают исключительные случаи, когда я слышу о научном сюжете и совершенно не понимаю, как это может быть доказано. Несколько раз я слышал или читал про какую-то гипотезу, понимал, что она верна, и думал, что не доживу до тех времен, когда это будет математически строго установлено. Например, есть работы филдсовского лауреата Станислава Смирнова (который почему-то не работает в нашем институте).
— Не могу знать, сказал я именно это или нет, но некая истина здесь имеется. Роланд Львович Добрушин говорил, что рецензенты статьи читают не так, как автор. Поэтому на рецензента рассчитывать серьезный математик не должен. Друзья и одновременно коллеги, которых так же сильно волнует тема статьи, могут прочитать.
— Речь же шла не о рецензентах. Это был пример крайней точки зрения на то, зачем вообще нужно писать математические статьи. В контексте разговора о том, зачем вообще нужно заниматься математикой.
— Отчасти верно следующее: можно написать некое утверждение, сделать набросок; текст получится коротким, его относительно легко прочесть и понять. А вот единственный способ проверить, что сказанное там еще и верно, — это написать подробное доказательство. Насколько подробное — зависит от математической культуры читателя и писателя, некоторые детали всеми математиками по умолчанию опускаются. На своем примере убеждался: если я думаю, что все, имеется результат и он истинен, — то, когда начинаешь его записывать, возникают некие детали. И, может, он действительно, как говорят, «морально» верен (это слово не люблю, но часто слышу), но, чтобы убедиться окончательно, нужно написать доказательство со всеми подробностями. Тогда оказывается, что чуть-чуть надо поправить, и получается даже еще интереснее: проявляются некоторые банальные исключения, которые на первый взгляд не видны и в голову не приходят. Теперь доказательство действительно продумано и закодировано ручкой на бумаге. Но это отвечает не на все стороны заданного вопроса. Действительно, написать-то можно, а зачем публиковать? Израиль Моисеевич Гельфанд говорил, что публиковать надо, не объясняя зачем.
— Израиль Моисеевич — то, что я мог наблюдать в медицине, — действительно фиксировал все промежуточные результаты. Они выпускали препринты ИПМ — даже не статьи.
— То, что слышал я, относится к математическим работам. Это даже понятно: некоторые люди пишут, чтобы читали другие люди, те, кому интересно. Математика — это целое community, целый мир людей. Журналы, или теперь архивы (электронные. — Прим. ред.), люди читают. Некоторые имеют хорошую привычку читать их ежедневно: что появилось в математике за истекшие сутки.
— В математике релевантные результаты появляются с такой частотой?
— Релевантные — нет. Релевантные — понятие относительное. Но несколько статей появляются каждый день. Иногда достаточно посмотреть список авторов, иногда — заголовок или абстракт, а иногда и всю статью.
— Как вы понимаете, хотите ли вы смотреть всю статью или нет?
— Ну, всю статью — это я, может, преувеличил. Опять-таки, история от Израиля Моисеевича о том, как на семинаре Колмогоров пересказывал содержание и результаты некой книжки. А на следующей неделе он говорил: «Все я вам неправильно рассказал. Этого там нет, другого. Просто в комнате было довольно плохо видно, я лежал, листал книгу и думал: что в ней могло бы быть?» Колмогоров рассказывал то, что он сам придумал, — что бы там могло быть написано.
— И что интереснее?
— Израиль Моисеевич не сказал. Но из контекста ясно, что, конечно, первый вариант.
— Если считать, что релевантная статья — это та, которую вы читаете целиком и разбираете доказательства, то каков их поток?
— Может быть, раз в неделю…
— А пишете сколько? Я сейчас попытаюсь уравнение баланса свести. Так мы оценим размер community.
— Неизвестно, что мы оценим. Сколько я пишу? Скажем, три статьи в год.
— С одним-двумя соавторами?
— Да. Как-то давно не писал один.
— На душу получается по одной. На 50 внимательно прочитанных статей — одна написанная. Сколько, по-вашему, человек внимательно читают ваши статьи?
— Льщу себе надеждой, что о большинстве не знаю. Должен признаться честно, почему-то об этом никогда не задумывался. Все-таки я бы не сказал, что из чтения статей познается главное.
— А откуда?
— Из бесед или рассказов о работах. Если мне интересно, то довольно часто понимаю, что там написано и как это могло быть сделано.
— Та же самая история, как про Колмогорова.
— В миниатюре. Но, конечно, бывают исключительные случаи, когда я слышу о научном сюжете и совершенно не понимаю, как это может быть доказано. Несколько раз я слышал или читал про какую-то гипотезу, понимал, что она верна, и думал, что не доживу до тех времен, когда это будет математически строго установлено. Например, есть работы филдсовского лауреата Станислава Смирнова (который почему-то не работает в нашем институте).
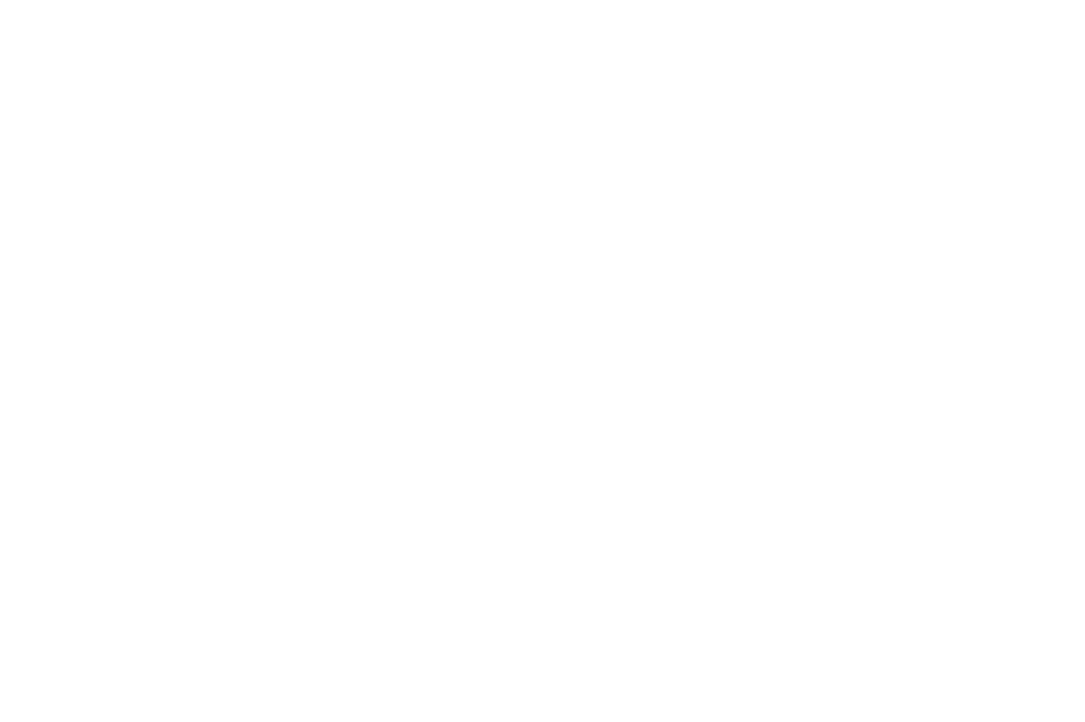
— Он довольно тесно связан с нашим институтом.
— Надеюсь; он выдающийся математик. Результаты, которые он получал, не единожды вызывали это чувство: сомнений в истинности утверждения нет ни у меня, ни у многих других, но также совершенно не видно, как же можно это строго установить; я ему даже лично говорил. Я слушал один доклад Смирнова: он рассказывал некоторые шаги, доходил до определенного места, на котором я бы остановился, потому что совершенно ясно, что так ничего не выйдет. А Станислав действовал дальше, и, к изумлению публики, все получалось. Могу рассказать, в чем дело. У него в задаче участвуют комплексные вероятности. В статистической физике и теории вероятностей есть место, где часто нужно устанавливать факт, что вероятности, для которых пишутся формулы, вещественны и положительны. Иначе никогда не делается. А Смирнов пишет про фермионные наблюдаемые, и там у него явно возникают комплексные вероятности. По мне, их нужно выбросить и забыть. А он их не боится. По своей природе (и благодаря незнанию) он понимает, что можно продвинуться дальше, и действительно, эти продвижения не раз и не два были совершенно замечательные.
— Такой физический подход к математике? Классический пример: ввели дельта-функции, хотя ясно, что дельта-функций не может быть. Потом им придали смысл совершенно другим способом. А физики ими оперировали довольно давно…
— Смирнов так и говорит. Он физические статьи читает и утверждает, что их не надо понимать, а надо над ними медитировать (употребляет это слово). Действительно, он этот процесс реализует, и очень успешно. Его работы, в частности, я разбирал подробно — это чудо, которое хочется знать во всех подробностях.
— И логические шаги там безукоризненны?
— Да, конечно.
— А комплексные вероятности? Они вводятся без всякой аксиоматики?
— Не в этом дело. Объекты, что там получаются, можно не называть вероятностями. Но если бы они (положительными) вероятностями являлись, то я мог бы пользоваться своей вероятностной интуицией. А те объекты, которые возникают у него, хотя и определяются явными точными конструкциями, но вероятностями не являются. Поэтому я про них думать не умею. А он с ними обращается настолько, насколько с ними возможно обращаться строго, и получает результаты, которые мне казались недостижимыми.
— Ваша интуиция позволяет вам думать про комплексные вероятности?
— Моя интуиция мне внушает оторопь перед таким подходом. Это неправильно, как я теперь вижу, но я так и не попробовал. Наверное, это ущербная установка.
— Есть примеры, когда статья написана, и довольно подробно, а потом уже читатели обнаружили пробел. Недавний пример — первое доказательство Уайлсом теоремы Ферма. Значит, в процессе записи доказательства все-таки можно себя немножко обмануть?
— Можно. На днях читал про одну статью Лебега, где он доказывал некую замечательную теорему. А потом в этом доказательстве обнаружилась — у нас, в России, — ошибка, из которой впоследствии выросла целая новая ветвь науки. Сейчас есть такая деятельность — записать доказательство на формальном языке, чтобы истинность утверждения мог проверить компьютер.
— Кажется, Воеводский хочет что-то такое сделать.
— Я читал доклад Шафи Голдвассер, которая работает в Институте Вейцмана по этой теме, и там была совершенно замечательная идея. Текст перерабатывается таким образом, что если есть исходная ошибка, то она распределяется по всему тексту, и ее легко найти. Как это может быть, не могу себе представить, но вроде бы так: кладется ложка дегтя в бочку меда и перемешивается. Как это реализуется с математическим текстом — точно не знаю. Но идея совершенно замечательная, если только это возможно.
— С другой стороны, бывают тексты, которые, по-видимому, правильные, но, чтобы их понять, требуются значительные усилия. Это, например, про Перельмана.
— Сергея Петровича Новикова упрекали в том, что его выдающиеся топологические статьи написаны плохо.
— Надеюсь; он выдающийся математик. Результаты, которые он получал, не единожды вызывали это чувство: сомнений в истинности утверждения нет ни у меня, ни у многих других, но также совершенно не видно, как же можно это строго установить; я ему даже лично говорил. Я слушал один доклад Смирнова: он рассказывал некоторые шаги, доходил до определенного места, на котором я бы остановился, потому что совершенно ясно, что так ничего не выйдет. А Станислав действовал дальше, и, к изумлению публики, все получалось. Могу рассказать, в чем дело. У него в задаче участвуют комплексные вероятности. В статистической физике и теории вероятностей есть место, где часто нужно устанавливать факт, что вероятности, для которых пишутся формулы, вещественны и положительны. Иначе никогда не делается. А Смирнов пишет про фермионные наблюдаемые, и там у него явно возникают комплексные вероятности. По мне, их нужно выбросить и забыть. А он их не боится. По своей природе (и благодаря незнанию) он понимает, что можно продвинуться дальше, и действительно, эти продвижения не раз и не два были совершенно замечательные.
— Такой физический подход к математике? Классический пример: ввели дельта-функции, хотя ясно, что дельта-функций не может быть. Потом им придали смысл совершенно другим способом. А физики ими оперировали довольно давно…
— Смирнов так и говорит. Он физические статьи читает и утверждает, что их не надо понимать, а надо над ними медитировать (употребляет это слово). Действительно, он этот процесс реализует, и очень успешно. Его работы, в частности, я разбирал подробно — это чудо, которое хочется знать во всех подробностях.
— И логические шаги там безукоризненны?
— Да, конечно.
— А комплексные вероятности? Они вводятся без всякой аксиоматики?
— Не в этом дело. Объекты, что там получаются, можно не называть вероятностями. Но если бы они (положительными) вероятностями являлись, то я мог бы пользоваться своей вероятностной интуицией. А те объекты, которые возникают у него, хотя и определяются явными точными конструкциями, но вероятностями не являются. Поэтому я про них думать не умею. А он с ними обращается настолько, насколько с ними возможно обращаться строго, и получает результаты, которые мне казались недостижимыми.
— Ваша интуиция позволяет вам думать про комплексные вероятности?
— Моя интуиция мне внушает оторопь перед таким подходом. Это неправильно, как я теперь вижу, но я так и не попробовал. Наверное, это ущербная установка.
— Есть примеры, когда статья написана, и довольно подробно, а потом уже читатели обнаружили пробел. Недавний пример — первое доказательство Уайлсом теоремы Ферма. Значит, в процессе записи доказательства все-таки можно себя немножко обмануть?
— Можно. На днях читал про одну статью Лебега, где он доказывал некую замечательную теорему. А потом в этом доказательстве обнаружилась — у нас, в России, — ошибка, из которой впоследствии выросла целая новая ветвь науки. Сейчас есть такая деятельность — записать доказательство на формальном языке, чтобы истинность утверждения мог проверить компьютер.
— Кажется, Воеводский хочет что-то такое сделать.
— Я читал доклад Шафи Голдвассер, которая работает в Институте Вейцмана по этой теме, и там была совершенно замечательная идея. Текст перерабатывается таким образом, что если есть исходная ошибка, то она распределяется по всему тексту, и ее легко найти. Как это может быть, не могу себе представить, но вроде бы так: кладется ложка дегтя в бочку меда и перемешивается. Как это реализуется с математическим текстом — точно не знаю. Но идея совершенно замечательная, если только это возможно.
— С другой стороны, бывают тексты, которые, по-видимому, правильные, но, чтобы их понять, требуются значительные усилия. Это, например, про Перельмана.
— Сергея Петровича Новикова упрекали в том, что его выдающиеся топологические статьи написаны плохо.
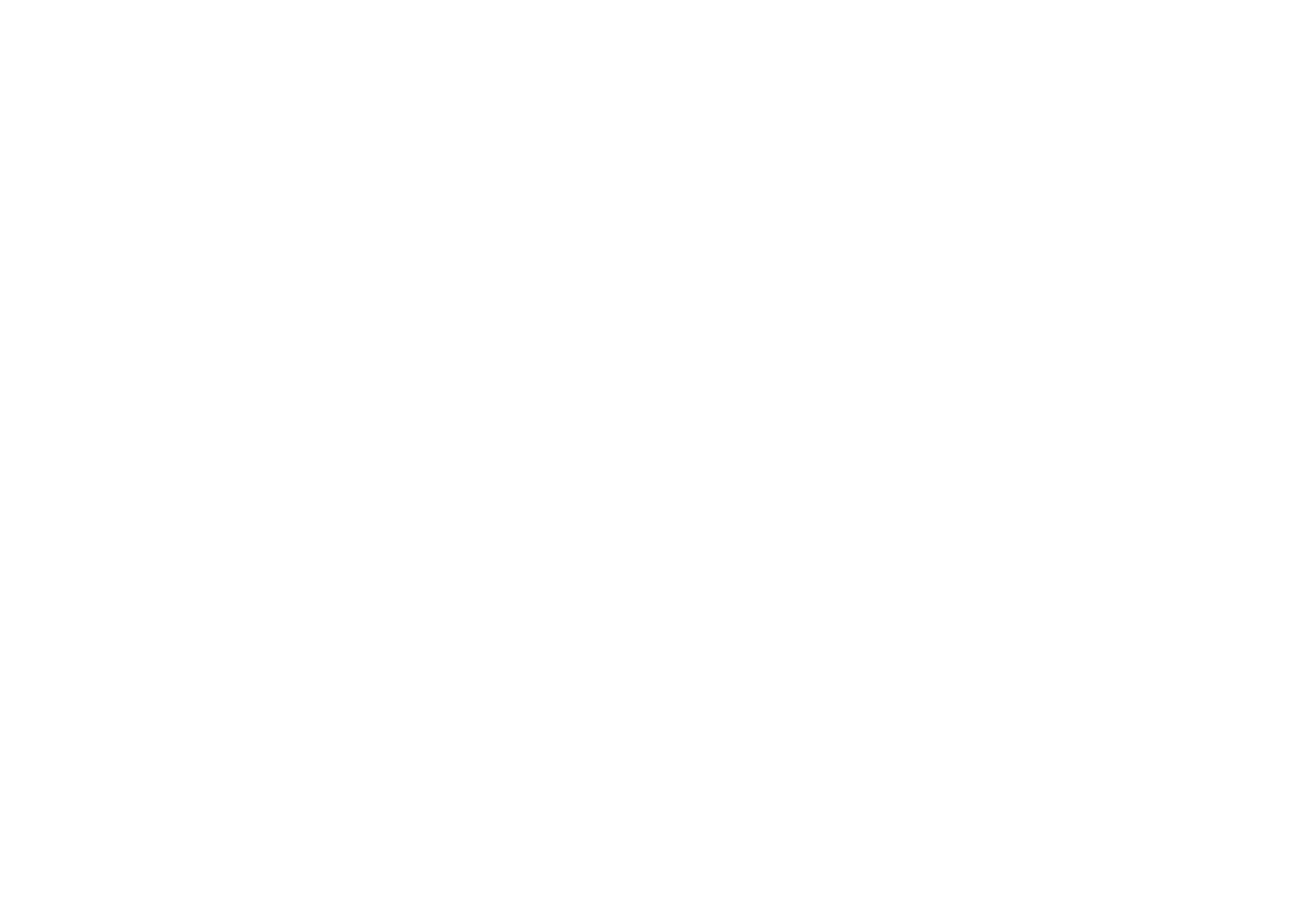
— Трудно понять, потому что плохо написано или потому что нетривиально?
— Конечно, весьма нетривиально и к тому же написано эллиптическим языком. То есть шаги, очевидные пишущему, пропущены, и их трудно восстановить.
— И в таких шагах как раз сидят ошибки.
— По молодости я писал работы, в которых мне казалось неприличным приводить подробности. Зачем писать очевидные вещи, раз даже я понял? А через некоторое время я открывал текст и сам не понимал, что там написано. Забывал, что имел в виду. И если я не понимаю, то другому читателю совсем плохо. И стал писать так, что если я открою работу через несколько лет, то без труда пойму, что там сказано.
— У Литлвуда есть высказывание, что репутация математика основывается на количестве его плохих работ. И имеется примечание редактора, необходимое, потому что это слишком тонкий парадокс: первая статья про что-то новое обычно написана очень плохо. Конструкции не вполне естественны, потом оказывается, что можно сделать намного проще.
— Я бы не сказал «плохие». Может, они тяжело написаны.
— Вы сказали, что Сергея Петровича упрекали в том, что он плохо пишет.
— Замечательная статья может быть плохо написана.
— Тогда надо разделять статью и результат.
— Я бы сказал, что выражение «замечательная статья» значит только то, что она содержит замечательный результат. За свои топологические работы Сергей Петрович получил Филдсовскую премию.
— Вы занимаетесь математикой со стороны физики?
— Я занимаюсь только математикой. Она бывает разной, и бывают математические задачи, мотивированные физическими вопросами. Когда эти вопросы решены математическим образом, дальше возникают другие, чисто математические вопросы, которые потом тоже исследуются. С течением времени наросло довольно большое число людей, работ и результатов, которые когда-то были мотивированы физическими вопросами и до сих пор имеют к ним отношение, но эта область уже развивается в силу какой-то другой мотивации. Как и в чисто математических областях: некоторые вопросы решены, а взамен встают другие.
— Существуют ли математические области? Или имеется непрерывный континуум, и то, что мы называем областями, в значительной степени следствие привычки? Как были кафедры, так области и остались?
— Пожалуй, все же существуют. Они различаются по кругу вопросов и методов. Не знаю, что здесь есть метод.
— Как раз хотел спросить: что такое метод?
— Не знаю. Есть математика дискретная и непрерывная. Различие видно невооруженным глазом.
— Теорема Ферма — яркий пример дискретного утверждения, доказанного, насколько я понимаю, непрерывными методами.
— Под «дискретной» я имел в виду комбинаторику.
— В комбинаторике есть производящие функции — они уже непрерывные.
— Да, есть даже асимптотическая комбинаторика. Когда вы что-то действительно пересчитываете и хотите обозреть большую совокупность дискретных объектов; а дальше вы пытаетесь сделать предельный переход. Вы делаете вид, что большое количество — оно бесконечно. Тогда объекты, которые вы пытались перечислить и обозреть, в этом пределе делаются хорошо видимыми, и становится понятно, в чем, собственно, дело.
Так что и да и нет. Можно представлять области математики архипелагом, где во время отлива обнаруживаются отмели, по которым можно из одной области пройти в другую. А во время прилива кажется, что одно от другого отделено существенной преградой.
— Должна ли математика быть понятной? До какой степени современную математику можно сделать понятной условному налогоплательщику?
— Зависит от налогоплательщика. Некоторые любят, чтобы их развлекали — можно даже математикой. А другие хотят что-нибудь понять, но боятся, что это будет чересчур долго и утомительно. Но и таким, мне кажется, можно что-то объяснить к взаимному удовлетворению, чтобы и рассказчик мог думать, что он изложил нечто нетривиальное. Но, как меня приучили, нужно, рассказывая, всякий раз иметь в виду интересы слушателя. Рассказчик может и не успеть рассказать то, что ему самому кажется замечательным по персональным и эстетическим причинам. Но он должен рассказать так, чтобы слушатель извлек пользу. Если стоять на такой точке зрения, то можно большому количеству людей объяснить что-нибудь такое, что рассказчику будет интересно, а слушателю оказалось бы полезно.
— На конференции молодых ученых ИППИ РАН 2012 года было два пленарных доклада. Доклад Александра Николаевича Рыбко, про который сообщалось, что он основан на совместной работе со Шлосманом, назывался «Предел среднего поля для общих моделей бесконечных коммуникационных сетей». Аннотация начиналась со слов: «Рассматриваются последовательности марковских процессов, описывающие эволюцию симметричных коммуникационных сетей довольно общего вида с растущим к бесконечности числом узлов…» И был ваш пленарный доклад: «Можно ли сделать надежную память из ненадежных элементов?» И его аннотация начиналась так: «Да! Надежную память из ненадежных элементов сделать можно!». Это в каком-то смысле два почти крайних подхода.
— Если бы Саша меня спросил, я бы ему отсоветовал и название, и абстракт. Тут докладчик не сделал усилия, чтобы привлечь публику.
— Конечно, весьма нетривиально и к тому же написано эллиптическим языком. То есть шаги, очевидные пишущему, пропущены, и их трудно восстановить.
— И в таких шагах как раз сидят ошибки.
— По молодости я писал работы, в которых мне казалось неприличным приводить подробности. Зачем писать очевидные вещи, раз даже я понял? А через некоторое время я открывал текст и сам не понимал, что там написано. Забывал, что имел в виду. И если я не понимаю, то другому читателю совсем плохо. И стал писать так, что если я открою работу через несколько лет, то без труда пойму, что там сказано.
— У Литлвуда есть высказывание, что репутация математика основывается на количестве его плохих работ. И имеется примечание редактора, необходимое, потому что это слишком тонкий парадокс: первая статья про что-то новое обычно написана очень плохо. Конструкции не вполне естественны, потом оказывается, что можно сделать намного проще.
— Я бы не сказал «плохие». Может, они тяжело написаны.
— Вы сказали, что Сергея Петровича упрекали в том, что он плохо пишет.
— Замечательная статья может быть плохо написана.
— Тогда надо разделять статью и результат.
— Я бы сказал, что выражение «замечательная статья» значит только то, что она содержит замечательный результат. За свои топологические работы Сергей Петрович получил Филдсовскую премию.
— Вы занимаетесь математикой со стороны физики?
— Я занимаюсь только математикой. Она бывает разной, и бывают математические задачи, мотивированные физическими вопросами. Когда эти вопросы решены математическим образом, дальше возникают другие, чисто математические вопросы, которые потом тоже исследуются. С течением времени наросло довольно большое число людей, работ и результатов, которые когда-то были мотивированы физическими вопросами и до сих пор имеют к ним отношение, но эта область уже развивается в силу какой-то другой мотивации. Как и в чисто математических областях: некоторые вопросы решены, а взамен встают другие.
— Существуют ли математические области? Или имеется непрерывный континуум, и то, что мы называем областями, в значительной степени следствие привычки? Как были кафедры, так области и остались?
— Пожалуй, все же существуют. Они различаются по кругу вопросов и методов. Не знаю, что здесь есть метод.
— Как раз хотел спросить: что такое метод?
— Не знаю. Есть математика дискретная и непрерывная. Различие видно невооруженным глазом.
— Теорема Ферма — яркий пример дискретного утверждения, доказанного, насколько я понимаю, непрерывными методами.
— Под «дискретной» я имел в виду комбинаторику.
— В комбинаторике есть производящие функции — они уже непрерывные.
— Да, есть даже асимптотическая комбинаторика. Когда вы что-то действительно пересчитываете и хотите обозреть большую совокупность дискретных объектов; а дальше вы пытаетесь сделать предельный переход. Вы делаете вид, что большое количество — оно бесконечно. Тогда объекты, которые вы пытались перечислить и обозреть, в этом пределе делаются хорошо видимыми, и становится понятно, в чем, собственно, дело.
Так что и да и нет. Можно представлять области математики архипелагом, где во время отлива обнаруживаются отмели, по которым можно из одной области пройти в другую. А во время прилива кажется, что одно от другого отделено существенной преградой.
— Должна ли математика быть понятной? До какой степени современную математику можно сделать понятной условному налогоплательщику?
— Зависит от налогоплательщика. Некоторые любят, чтобы их развлекали — можно даже математикой. А другие хотят что-нибудь понять, но боятся, что это будет чересчур долго и утомительно. Но и таким, мне кажется, можно что-то объяснить к взаимному удовлетворению, чтобы и рассказчик мог думать, что он изложил нечто нетривиальное. Но, как меня приучили, нужно, рассказывая, всякий раз иметь в виду интересы слушателя. Рассказчик может и не успеть рассказать то, что ему самому кажется замечательным по персональным и эстетическим причинам. Но он должен рассказать так, чтобы слушатель извлек пользу. Если стоять на такой точке зрения, то можно большому количеству людей объяснить что-нибудь такое, что рассказчику будет интересно, а слушателю оказалось бы полезно.
— На конференции молодых ученых ИППИ РАН 2012 года было два пленарных доклада. Доклад Александра Николаевича Рыбко, про который сообщалось, что он основан на совместной работе со Шлосманом, назывался «Предел среднего поля для общих моделей бесконечных коммуникационных сетей». Аннотация начиналась со слов: «Рассматриваются последовательности марковских процессов, описывающие эволюцию симметричных коммуникационных сетей довольно общего вида с растущим к бесконечности числом узлов…» И был ваш пленарный доклад: «Можно ли сделать надежную память из ненадежных элементов?» И его аннотация начиналась так: «Да! Надежную память из ненадежных элементов сделать можно!». Это в каком-то смысле два почти крайних подхода.
— Если бы Саша меня спросил, я бы ему отсоветовал и название, и абстракт. Тут докладчик не сделал усилия, чтобы привлечь публику.
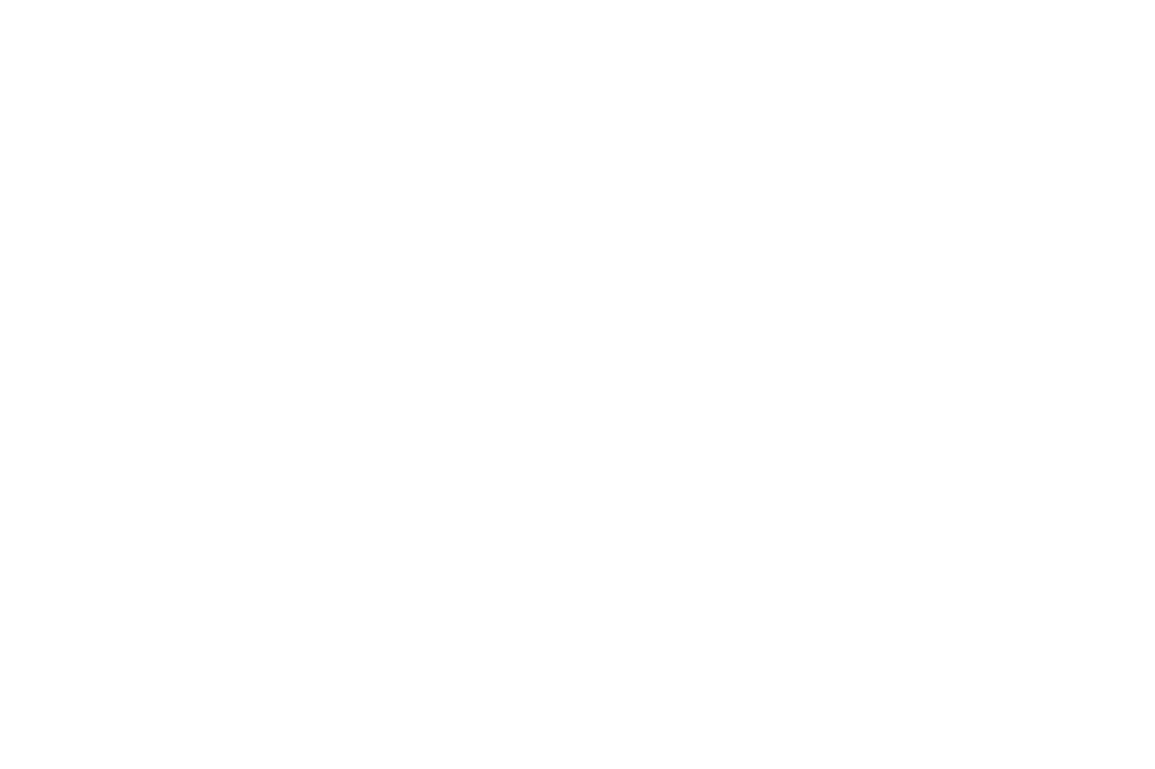
— Или он ориентировался на другую аудиторию. А вот читателям «ТрВ — Наука» — это социальная группа ученых, но из разных наук, например биологии, — вы можете рассказать, чем занимаетесь?
— Ну вы же были на том докладе и даже задавали вопросы.
— Это оно и было?
— Да. Я могу рассказать, чем мы занимаемся с Сашей Рыбко. Иногда говорю, что мы занимаемся Интернетом, но это преувеличение. Наверное, Интернет гораздо сложнее устроен, чем то, про что мы с Сашей Рыбко и с Сашей Владимировым размышляем, когда решаем задачку, про которую я расскажу.
Большие коммуникационные сети в некотором смысле похожи на ту реальность, которую описывает статистическая физика: есть независимые агенты в огромном количестве, которые живут по своим локальным законам, и у каждого есть цель. Есть индивидуумы, есть какие-то локальные правила, а дальше происходят некоторые явления гораздо большего масштаба, чем индивидуальные пользователи. Глобальные свойства сети являются свойствами того, как себя ведут составляющие ее агенты, которые эту самую большую сеть не осознают. А в статистической физике существует такое важное понятие, как фазовый переход. Это переход из режима с одними параметрами, когда агенты себя ведут более-менее независимо друг от друга, к другим глобальным параметрам, когда вдруг оказывается, что изменение системы в одном месте сильно влияет на то, что происходит в другом месте. Агенты вроде как ведут себя по-прежнему, они смотрят только на то, что происходит вокруг, но действие, которое происходит здесь, чувствуется очень далеко отсюда. Роланд Львович Добрушин говорил, кстати, что и революционная ситуация — это фазовый переход: возникают связи между обычно далекими людьми, общество переходит в иное состояние, жизнь качественно идет по-другому.
Вернемся к информационным сетям. Мы поняли, что в них тоже происходят фазовые переходы. Представьте большую сеть, в которой обслуживают клиентов. Они по сети бродят из одного места в другое по правилам, которые им предписаны, и исходя из того, что с ними должно произойти: сюда пришли, постояли в очереди; что-то с ними сделали, выдали бумажку. Они со своим новым статусом должны еще куда-то попасть. И вот они движутся по этой сети независимо друг от друга, стоят в очередях — такая бюрократическая система.
Пусть так вышло, что в половину кабинетов очереди есть, а в другую половину нет, пусто. Мы знаем, что должно произойти естественным образом: через какое-то время все рассосется, везде будут одинаковые очереди. Но бывает по-другому: они все стоят на втором этаже в очереди, через какое-то время все переходят на третий этаж и там стоят в очередях, а потом опять все идут вниз. Возникает устойчивый колебательный режим — такой фазовый переход, когда неоднородность, которая была в самом начале, со временем не рассасывается. Этот колебательный режим из архитектуры сети не виден, он не должен бы происходить, тем не менее так бывает.
— Казалось бы, если правила простые, подобного сорта вещи получаются легко. Например, если есть строгий порядок прохождения кабинетов.
— Правда. Но в наших сетях есть случайность: кто сколько времени проводит в каждом кабинете. За счет такой случайности исходный порядок обычно размывается. Казалось бы, все должно быть хорошо, ан нет.
— Но если есть строгий порядок кабинетов, то эта толпа так и будет ходить друг за другом, как на диспансеризации в больнице.
— Случайность все размывает. Конечно, если протокол детерминированный, то начальная ситуация полностью определяет будущее. Но мы рассматриваем более реалистичную систему, в которой не знаем, сколько кому времени понадобится. Именно из-за этого порядок должен размываться и исчезать. Поскольку есть некая неопределенность, она должна накапливаться, и жизнь должна происходить как в центральной предельной теореме: порядок расплывается, и с течением времени неизвестно, кто когда пришел, за кем кто стоял, — все перемешалось, и у всех кабинетов очереди примерно одинаковые.
— С другой стороны, есть наблюдение, что ровно из-за того, что трамвай едет случайным образом, через некоторое время они начинают ездить пачками. Более быстрый догоняет более медленный, и это не рассасывается. В совсем простых системах на самом деле кажется, что это не очень удивительно, при одномерном движении в одном направлении.
— Наша сеть гораздо сложней, потому что у каждого клиента имеется большой выбор, в какой кабинет стоять. Я говорю про ситуацию, в которой, кажется, по природе вещей должно бы все прийти в равновесие.
— То есть у вас есть оценка сложности системы, при которой это становится нетривиальным результатом?
— Да, именно так. В этой большой системе нет размывания, когерентность начального состояния не забывается. Мы очень удивились, потому что так не бывает. Это странное и неприятное состояние — то, чего хотелось бы избегать.
— Пробки так образуются.
— Похоже, да: где-то пусто, где-то густо — дизайнеру сети, наверное, не хотелось бы, чтобы так происходило. А в нашей модели это явление происходит, но, впрочем, не всегда, а только если в сети достаточно много клиентов. Если их не очень много, то все замечательно размывается. Очень похоже на фазовый переход, который мы знаем из физики. Там тоже есть параметр — температура. При высокой температуре имеется полный хаос, и одни места системы не знают о других. С понижением температуры происходит фазовый переход, после которого система всюду устроена одинаково. Есть разные варианты у системы, но уж когда она выбирает, то один на всех. Фазовый переход в физике описывается математической теорией, которой я занимаюсь, и такая же примерно картина возникает в сетях.
Это можно объяснить. Если у человека есть любопытство хотя бы к чему-то, то, наверное, когда он открывает журнал «Кот Шредингера», чтобы узнать новости науки, он может такую новость прочесть.
— Вам нравится «Кот Шредингера»?
— Да.
— Немного клиповый стиль, когда ничего не написано с какой-нибудь подробностью, вас не расстраивает?
— Нет. Мне кажется, что это неплохо, что такие яркие картинки, и, когда переворачиваешь страницу, попадаешь уже в совершенно другую тему и даже в совершенно другую визуальную среду. Я его листал, чтобы понять, надо ли мне моего внука уговаривать заглянуть в журнал. И решил, что он подходит для 10-летнего любопытного ребенка.
— Ну вы же были на том докладе и даже задавали вопросы.
— Это оно и было?
— Да. Я могу рассказать, чем мы занимаемся с Сашей Рыбко. Иногда говорю, что мы занимаемся Интернетом, но это преувеличение. Наверное, Интернет гораздо сложнее устроен, чем то, про что мы с Сашей Рыбко и с Сашей Владимировым размышляем, когда решаем задачку, про которую я расскажу.
Большие коммуникационные сети в некотором смысле похожи на ту реальность, которую описывает статистическая физика: есть независимые агенты в огромном количестве, которые живут по своим локальным законам, и у каждого есть цель. Есть индивидуумы, есть какие-то локальные правила, а дальше происходят некоторые явления гораздо большего масштаба, чем индивидуальные пользователи. Глобальные свойства сети являются свойствами того, как себя ведут составляющие ее агенты, которые эту самую большую сеть не осознают. А в статистической физике существует такое важное понятие, как фазовый переход. Это переход из режима с одними параметрами, когда агенты себя ведут более-менее независимо друг от друга, к другим глобальным параметрам, когда вдруг оказывается, что изменение системы в одном месте сильно влияет на то, что происходит в другом месте. Агенты вроде как ведут себя по-прежнему, они смотрят только на то, что происходит вокруг, но действие, которое происходит здесь, чувствуется очень далеко отсюда. Роланд Львович Добрушин говорил, кстати, что и революционная ситуация — это фазовый переход: возникают связи между обычно далекими людьми, общество переходит в иное состояние, жизнь качественно идет по-другому.
Вернемся к информационным сетям. Мы поняли, что в них тоже происходят фазовые переходы. Представьте большую сеть, в которой обслуживают клиентов. Они по сети бродят из одного места в другое по правилам, которые им предписаны, и исходя из того, что с ними должно произойти: сюда пришли, постояли в очереди; что-то с ними сделали, выдали бумажку. Они со своим новым статусом должны еще куда-то попасть. И вот они движутся по этой сети независимо друг от друга, стоят в очередях — такая бюрократическая система.
Пусть так вышло, что в половину кабинетов очереди есть, а в другую половину нет, пусто. Мы знаем, что должно произойти естественным образом: через какое-то время все рассосется, везде будут одинаковые очереди. Но бывает по-другому: они все стоят на втором этаже в очереди, через какое-то время все переходят на третий этаж и там стоят в очередях, а потом опять все идут вниз. Возникает устойчивый колебательный режим — такой фазовый переход, когда неоднородность, которая была в самом начале, со временем не рассасывается. Этот колебательный режим из архитектуры сети не виден, он не должен бы происходить, тем не менее так бывает.
— Казалось бы, если правила простые, подобного сорта вещи получаются легко. Например, если есть строгий порядок прохождения кабинетов.
— Правда. Но в наших сетях есть случайность: кто сколько времени проводит в каждом кабинете. За счет такой случайности исходный порядок обычно размывается. Казалось бы, все должно быть хорошо, ан нет.
— Но если есть строгий порядок кабинетов, то эта толпа так и будет ходить друг за другом, как на диспансеризации в больнице.
— Случайность все размывает. Конечно, если протокол детерминированный, то начальная ситуация полностью определяет будущее. Но мы рассматриваем более реалистичную систему, в которой не знаем, сколько кому времени понадобится. Именно из-за этого порядок должен размываться и исчезать. Поскольку есть некая неопределенность, она должна накапливаться, и жизнь должна происходить как в центральной предельной теореме: порядок расплывается, и с течением времени неизвестно, кто когда пришел, за кем кто стоял, — все перемешалось, и у всех кабинетов очереди примерно одинаковые.
— С другой стороны, есть наблюдение, что ровно из-за того, что трамвай едет случайным образом, через некоторое время они начинают ездить пачками. Более быстрый догоняет более медленный, и это не рассасывается. В совсем простых системах на самом деле кажется, что это не очень удивительно, при одномерном движении в одном направлении.
— Наша сеть гораздо сложней, потому что у каждого клиента имеется большой выбор, в какой кабинет стоять. Я говорю про ситуацию, в которой, кажется, по природе вещей должно бы все прийти в равновесие.
— То есть у вас есть оценка сложности системы, при которой это становится нетривиальным результатом?
— Да, именно так. В этой большой системе нет размывания, когерентность начального состояния не забывается. Мы очень удивились, потому что так не бывает. Это странное и неприятное состояние — то, чего хотелось бы избегать.
— Пробки так образуются.
— Похоже, да: где-то пусто, где-то густо — дизайнеру сети, наверное, не хотелось бы, чтобы так происходило. А в нашей модели это явление происходит, но, впрочем, не всегда, а только если в сети достаточно много клиентов. Если их не очень много, то все замечательно размывается. Очень похоже на фазовый переход, который мы знаем из физики. Там тоже есть параметр — температура. При высокой температуре имеется полный хаос, и одни места системы не знают о других. С понижением температуры происходит фазовый переход, после которого система всюду устроена одинаково. Есть разные варианты у системы, но уж когда она выбирает, то один на всех. Фазовый переход в физике описывается математической теорией, которой я занимаюсь, и такая же примерно картина возникает в сетях.
Это можно объяснить. Если у человека есть любопытство хотя бы к чему-то, то, наверное, когда он открывает журнал «Кот Шредингера», чтобы узнать новости науки, он может такую новость прочесть.
— Вам нравится «Кот Шредингера»?
— Да.
— Немного клиповый стиль, когда ничего не написано с какой-нибудь подробностью, вас не расстраивает?
— Нет. Мне кажется, что это неплохо, что такие яркие картинки, и, когда переворачиваешь страницу, попадаешь уже в совершенно другую тему и даже в совершенно другую визуальную среду. Я его листал, чтобы понять, надо ли мне моего внука уговаривать заглянуть в журнал. И решил, что он подходит для 10-летнего любопытного ребенка.
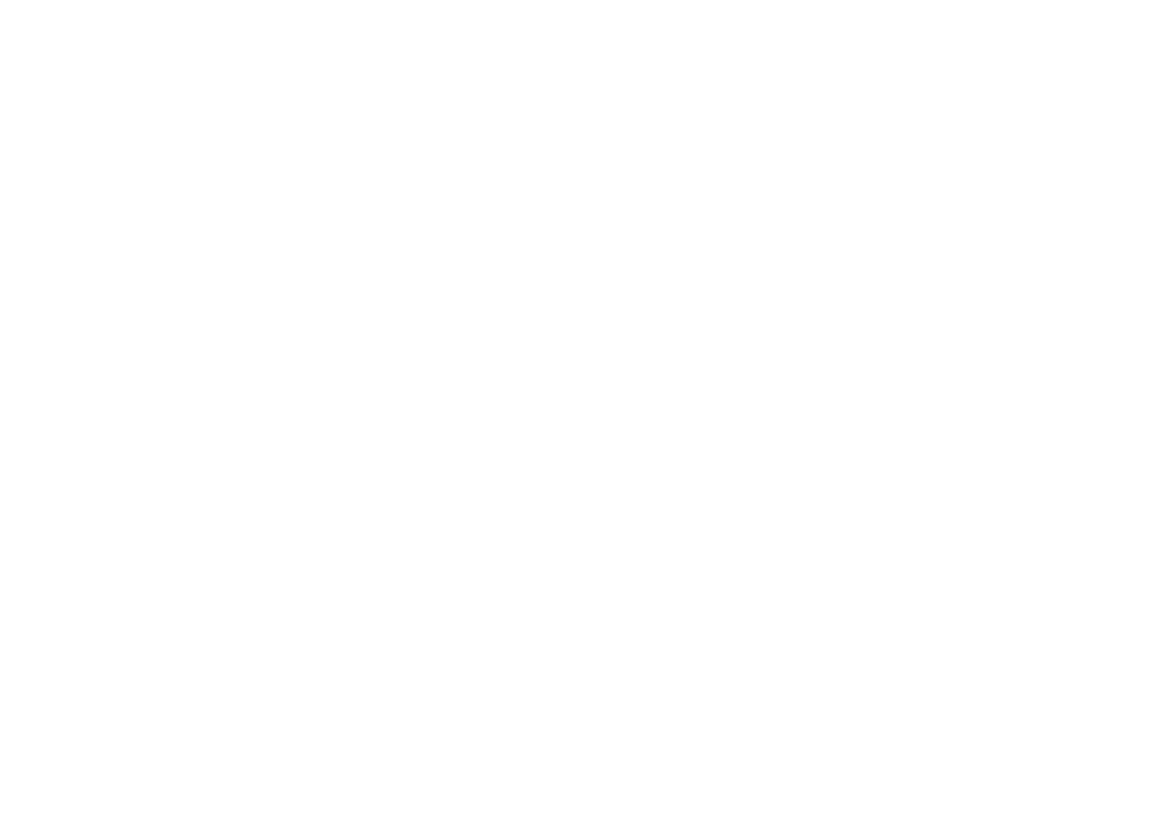
— У меня была теория, что все хорошие математики слушают хорошую музыку. Она постепенно рассосалась — оказалось, что не все. Тем не менее похоже, что все-таки какая-то корреляция есть. Это верно или это аберрация моего непосредственного окружения?
— Знаю многих математиков, кто слушает музыку. Мысль, что эти две активности находятся в каком-то родстве, меня не смущает. Я внутренне это принимаю.
Я слушаю много музыки. Но знаю: есть математики, которые занимаются под музыку, и это я совершенно понять не могу. Не могу представить, что можно слушать серьезную музыку, занимаясь математикой. Я так не могу.
— Какую музыку вы слушаете?
— Я очень неоригинален, слушаю в основном Баха. Я бы еще кого-нибудь слушал, но жизнь коротка. Время ограниченно, поэтому, если чем-то заниматься, нужно выбирать самое хорошее. Если читать книжки и слушать музыку, то самые хорошие. В моем случае это Бах.
— Не Телеман и не Моцарт?
— Я много кого люблю, но — это, конечно, грубо, но на первом месте все-таки Бах.
— А кроме Баха?
— Немаленький список, могу ошибиться в порядке: Вагнер, Брукнер, Шуберт, Шопен, Шуман.
— ХIХ век не вываливается?
— Нет. Прокофьев, Шостакович…
— Стравинский?
— Его знаю меньше… Композиторы до Баха: Фробергер, Букстехуде. Но я их тоже хуже знаю. И Моцарт, и Гайдн, конечно…
— Шнитке?
— Шнитке когда-то любил, но теперь чувствую, что он весь умещается в Шостаковиче. Мне кажется, — полагая, что музыку будут слушать еще века, — наше время будут больше помнить по Шостаковичу. Шнитке яркий, но не такой глубокий. Хотя я его много слушал. С Сергеем Израилевичем (Гельфандом. — Прим. ред.) мы были в консерватории на первом исполнении его квинтета в Москве. Я был совершенно потрясен. На этом концерте я понял: возможности музыки — какие бывают музыкальные звуки, как они могут действовать — гораздо шире, чем я предполагал до того. Я перечислил композиторов. Но у меня есть и второй принцип: есть исполнители, у которых надо слушать все, что они играют.
— Кто, кроме Гульда?
— Григорий Соколов, на сегодняшний день, по моему глубокому убеждению, величайший исполнитель. Рихтер: я слушал множество его записей и видел его на сцене 20 или 30 раз. Квартет Бородина в старом составе. Ничего не могу поделать, очень нравится, как дирижирует Гергиев. Когда играет Наталья Гутман, я бы пошел слушать независимо от того, что она решила исполнять. Аббадо был замечательный дирижер. Никогда не был на его концертах, но записей слышал много.
— Вы не помните Юрия Николаевского? Был такой камерный дирижер.
— Помню-помню. Как-то раз я лежал в больнице, а он исполнял вместе с Рихтером Баха. Я сбежал из больницы на этот концерт.
— Очень жалко, что он был сильно недооценен.
— Косвенно эту оценку подтверждает тот факт, что Рихтер с ним играл. Я мало его слушал. Это был какой-то учебный оркестр, не так ли?
— Да, он преподавал в консерватории.
— Вообще, музыке я учился в детстве. Но серьезная любовь к ней у меня возникла, только когда я уже учился на математическом факультете, потому что там ее легко было развить дальше: довольно много людей это увлечение разделяли и других приглашали в нем участвовать. Помню, как мы из МГУ ехали ввосьмером на скорой помощи на концерт Баршая. Была мода — ходить на концерты Баршая. Очень хорошая мода, всем советую. Кроме него, музыку Баха негде было услышать. Тогда я и познакомился с ним и на всю жизнь полюбил. До сих пор к Баху возвращаюсь и слушаю в разных исполнениях. В частности, в исполнении Соколова. Его я ставлю выше всех исполнителей, которых слушаю. Наравне с Рихтером.
— Что существеннее: композитор, конкретное произведение или конкретный исполнитель? Если, например, выбирать из концертов, идущих в один день?
— Есть яркий пример. Я собирался на концерт Соколова, а он заболел, и вместо него играл другой пианист, Луганский. Я подумал: «Ну ничего, зато он играет Шуберта, которого я очень люблю». И было потрясающе скучно — даже не ожидал, что так может быть.
Это отчасти ответ на ваш вопрос. Луганскому, видимо, интересны сочинения, где он может продемонстрировать свою виртуозность. А я Шуберта начал любить после того, как услышал, как Соколов его играет. И решил, что буду слушать все, что играет Соколов. Когда я послушал в его исполнении сонаты Шуберта, для меня открылся новый мир. Широким слоям человечества этот мир, конечно, хорошо известен, только я был игнорант в этом отношении.
— Мне кажется, что Шуберт — композитор гениальный, но при этом плохой в смысле композиторской техники. У него есть отдельные чудесные места, но он не умеет их связать в целое.
— Категорически не согласен. У меня он довольно высоко стоит, недалеко от Баха.
— Интересно. Потому что как раз Бах очень цельный, даже какие-то относительно проходные вещи, например кантаты, бывают очень неровные, но при этом все очень хорошо сделаны. А у Шуберта, наоборот, даже самые гениальные вещи…
— В этом направлении невозможно спорить, потому что нет предмета спора. Могу посоветовать послушать последние его фортепианные сонаты, но вы, наверное, и так их знаете.
— Я Шуберта очень избирательно знаю.
— Эти сонаты — «божественная медленность», как Рихтер говорил, он их любил. А Рихтер играл не все, только то, что ему нравилось. Например, на него обижался Шостакович. «Почему, — говорил он, — вы не играете мои прелюдии и фуги?» А Рихтер отвечал: «А они не все мне нравятся. Те, которые мне нравятся, я играю». А может, он не ему лично говорил, а интервьюеру, как я вам сейчас. А Шуберта сонаты он играл. Последние все играл. В Шуберте есть достижение: кто медленней сыграет, тот лучше — такая потрясающая штука.
— Понятно, почему вам Соколов нравится.
— Эту формулу применять не у всех получается. На самом деле требуется неимоверное мужество сыграть лишнюю минуту. Есть совершенно замечательный фильм про Рихтера; корреспондент и музыкальный критик Брюно Монсенжон беседовал со многими великими музыкантами и потом делал из интервью фильмы. Рихтер был уже совсем старенький, это была лишь тень великого музыканта. Так что смотреть эти кадры даже несколько больно. Монсенжон предложил, чтобы Рихтер читал свой дневник. И так в фильме и происходит: Рихтер сидит за столом и читает из своих дневников. Очень рекомендую. В этом фильме звучат сонаты Шуберта в его исполнении, попробуйте послушать.
— Спасибо.
— Знаю многих математиков, кто слушает музыку. Мысль, что эти две активности находятся в каком-то родстве, меня не смущает. Я внутренне это принимаю.
Я слушаю много музыки. Но знаю: есть математики, которые занимаются под музыку, и это я совершенно понять не могу. Не могу представить, что можно слушать серьезную музыку, занимаясь математикой. Я так не могу.
— Какую музыку вы слушаете?
— Я очень неоригинален, слушаю в основном Баха. Я бы еще кого-нибудь слушал, но жизнь коротка. Время ограниченно, поэтому, если чем-то заниматься, нужно выбирать самое хорошее. Если читать книжки и слушать музыку, то самые хорошие. В моем случае это Бах.
— Не Телеман и не Моцарт?
— Я много кого люблю, но — это, конечно, грубо, но на первом месте все-таки Бах.
— А кроме Баха?
— Немаленький список, могу ошибиться в порядке: Вагнер, Брукнер, Шуберт, Шопен, Шуман.
— ХIХ век не вываливается?
— Нет. Прокофьев, Шостакович…
— Стравинский?
— Его знаю меньше… Композиторы до Баха: Фробергер, Букстехуде. Но я их тоже хуже знаю. И Моцарт, и Гайдн, конечно…
— Шнитке?
— Шнитке когда-то любил, но теперь чувствую, что он весь умещается в Шостаковиче. Мне кажется, — полагая, что музыку будут слушать еще века, — наше время будут больше помнить по Шостаковичу. Шнитке яркий, но не такой глубокий. Хотя я его много слушал. С Сергеем Израилевичем (Гельфандом. — Прим. ред.) мы были в консерватории на первом исполнении его квинтета в Москве. Я был совершенно потрясен. На этом концерте я понял: возможности музыки — какие бывают музыкальные звуки, как они могут действовать — гораздо шире, чем я предполагал до того. Я перечислил композиторов. Но у меня есть и второй принцип: есть исполнители, у которых надо слушать все, что они играют.
— Кто, кроме Гульда?
— Григорий Соколов, на сегодняшний день, по моему глубокому убеждению, величайший исполнитель. Рихтер: я слушал множество его записей и видел его на сцене 20 или 30 раз. Квартет Бородина в старом составе. Ничего не могу поделать, очень нравится, как дирижирует Гергиев. Когда играет Наталья Гутман, я бы пошел слушать независимо от того, что она решила исполнять. Аббадо был замечательный дирижер. Никогда не был на его концертах, но записей слышал много.
— Вы не помните Юрия Николаевского? Был такой камерный дирижер.
— Помню-помню. Как-то раз я лежал в больнице, а он исполнял вместе с Рихтером Баха. Я сбежал из больницы на этот концерт.
— Очень жалко, что он был сильно недооценен.
— Косвенно эту оценку подтверждает тот факт, что Рихтер с ним играл. Я мало его слушал. Это был какой-то учебный оркестр, не так ли?
— Да, он преподавал в консерватории.
— Вообще, музыке я учился в детстве. Но серьезная любовь к ней у меня возникла, только когда я уже учился на математическом факультете, потому что там ее легко было развить дальше: довольно много людей это увлечение разделяли и других приглашали в нем участвовать. Помню, как мы из МГУ ехали ввосьмером на скорой помощи на концерт Баршая. Была мода — ходить на концерты Баршая. Очень хорошая мода, всем советую. Кроме него, музыку Баха негде было услышать. Тогда я и познакомился с ним и на всю жизнь полюбил. До сих пор к Баху возвращаюсь и слушаю в разных исполнениях. В частности, в исполнении Соколова. Его я ставлю выше всех исполнителей, которых слушаю. Наравне с Рихтером.
— Что существеннее: композитор, конкретное произведение или конкретный исполнитель? Если, например, выбирать из концертов, идущих в один день?
— Есть яркий пример. Я собирался на концерт Соколова, а он заболел, и вместо него играл другой пианист, Луганский. Я подумал: «Ну ничего, зато он играет Шуберта, которого я очень люблю». И было потрясающе скучно — даже не ожидал, что так может быть.
Это отчасти ответ на ваш вопрос. Луганскому, видимо, интересны сочинения, где он может продемонстрировать свою виртуозность. А я Шуберта начал любить после того, как услышал, как Соколов его играет. И решил, что буду слушать все, что играет Соколов. Когда я послушал в его исполнении сонаты Шуберта, для меня открылся новый мир. Широким слоям человечества этот мир, конечно, хорошо известен, только я был игнорант в этом отношении.
— Мне кажется, что Шуберт — композитор гениальный, но при этом плохой в смысле композиторской техники. У него есть отдельные чудесные места, но он не умеет их связать в целое.
— Категорически не согласен. У меня он довольно высоко стоит, недалеко от Баха.
— Интересно. Потому что как раз Бах очень цельный, даже какие-то относительно проходные вещи, например кантаты, бывают очень неровные, но при этом все очень хорошо сделаны. А у Шуберта, наоборот, даже самые гениальные вещи…
— В этом направлении невозможно спорить, потому что нет предмета спора. Могу посоветовать послушать последние его фортепианные сонаты, но вы, наверное, и так их знаете.
— Я Шуберта очень избирательно знаю.
— Эти сонаты — «божественная медленность», как Рихтер говорил, он их любил. А Рихтер играл не все, только то, что ему нравилось. Например, на него обижался Шостакович. «Почему, — говорил он, — вы не играете мои прелюдии и фуги?» А Рихтер отвечал: «А они не все мне нравятся. Те, которые мне нравятся, я играю». А может, он не ему лично говорил, а интервьюеру, как я вам сейчас. А Шуберта сонаты он играл. Последние все играл. В Шуберте есть достижение: кто медленней сыграет, тот лучше — такая потрясающая штука.
— Понятно, почему вам Соколов нравится.
— Эту формулу применять не у всех получается. На самом деле требуется неимоверное мужество сыграть лишнюю минуту. Есть совершенно замечательный фильм про Рихтера; корреспондент и музыкальный критик Брюно Монсенжон беседовал со многими великими музыкантами и потом делал из интервью фильмы. Рихтер был уже совсем старенький, это была лишь тень великого музыканта. Так что смотреть эти кадры даже несколько больно. Монсенжон предложил, чтобы Рихтер читал свой дневник. И так в фильме и происходит: Рихтер сидит за столом и читает из своих дневников. Очень рекомендую. В этом фильме звучат сонаты Шуберта в его исполнении, попробуйте послушать.
— Спасибо.
Интервью опубликовано в газете «Троицкий вариант — Наука», в №№ 204—205 от 17, 31 мая 2016 года.