Фото Евгения Гурко
ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ СИНАЙ — один из самых авторитетных математиков современности. Родился 21 сентября 1935 года в Москве в семье ученых. В 1957 году окончил механико-математический факультет МГУ. Самый знаменитый ученик великого математика Андрея Николаевича Колмогорова. Многие достижения в области математики названы именем Синая, включая такие, как энтропия Колмогорова — Синая, биллиарды Синая, гипотеза случайного блуждания Синая и т. д. С 1998-го по 2002 год он возглавлял Филдсовский комитет. Сам Яков Григорьевич удостоен почти всех возможных премий и наград математического олимпа: премии Абеля (аналог Нобелевской премии для математиков), медали им. Колмогорова, премии Московского математического общества, медали им. Л. Больцмана, медали Дирака, премии Д. Хейнемана, премии Вольфа (Израиль), премии Ю. Мозера, премии Анри Пуанкаре и т. д.
— По части выбора сложно сказать, потому что во время выбора каждая страна перечисляет свои преимущества целым списком. Это выглядит почти как выбор страны для проведения первенства по футболу, который, кстати, тоже проходит раз в четыре года. Или как Олимпийские игры. Не случайно Петр Капица в свое время предлагал выстроить математические конгрессы по принципу спортивных состязаний, которые проводят по разным видам спорта, то есть разделить математиков по направлениям, в которых они работают.
Что касается значимости, то для России, для ее математического сообщества проведение такого конгресса очень важно, так как у нас давно не было крупных премий по математике, а теперь они могут появиться. Такие значимые конференции стимулируют развитие науки, в том числе делают ее более привлекательной для молодежи.
— На конгрессе обычно выбирают лауреатов сразу четырех премий за достижения в математике: премии Филдса, медали IMU Abacus (бывшая Неванлинны), премии Гаусса и премии Черна. В чем их особенность?
— Каждую из этих премий дают в отдельной области математики, например, премию Неванлинны — за вычислительную математику и компьютерные науки, Черна — за разные направления, Гаусса — за прикладную математику. У Филдса есть ограничение по возрасту, но сам спектр областей может быть очень широкий.
— Международный конгресс математиков 1954 года открылся докладом Джона фон Неймана, а завершился докладом вашего учителя академика Колмогорова. Эти доклады стали настоящими событиями в науке. Сами их авторы обсуждали это?
— Если говорить о фон Неймане и Колмогорове, нужно иметь в виду, что фон Нейман в то время был очень засекреченный человек, так как работал в комиссии по атомной энергии США, поэтому ему нельзя было ни с кем общаться. Колмогоров рассказывал, что он взял один оттиск своей работы и положил в ящик фон Неймана. Но тот никак не прореагировал на это. Так что встречи фон Неймана и Колмогорова не было.
— А бывают ли на конгрессах последних лет доклады столь эпохальные?
— Я уверен, что бывают. Просто, может быть, человек делает доклад, который станет эпохальным через несколько лет. Если же говорить о современных ученых, то такие мощные доклады любит делать Виттен (Эдвард Виттен — американский физик-теоретик, лауреат Филдсовской премии, один из ведущих исследователей теории струн. — Прим. ред.).
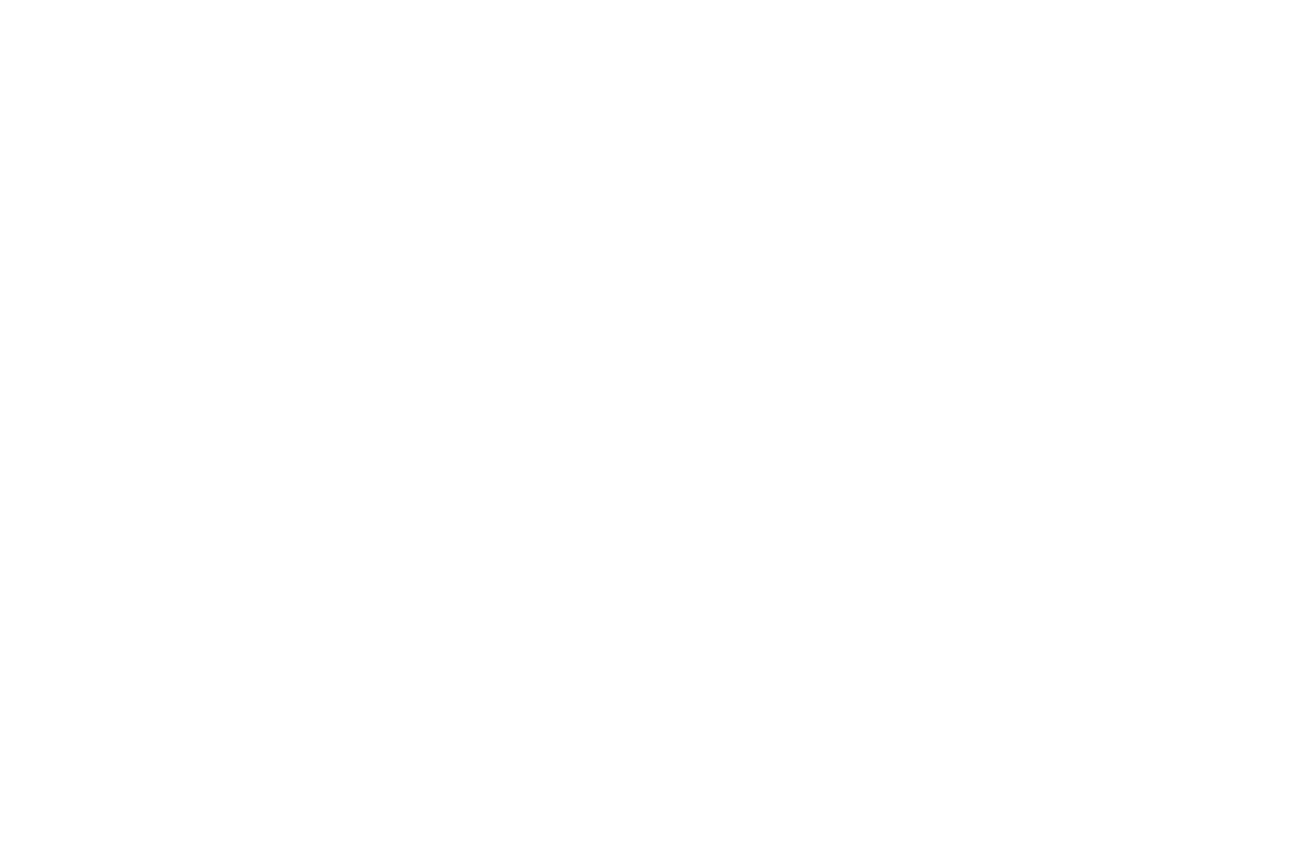
— Скорее я бы сказал, что на мой выбор повлиял брат... А с дедом была такая история. В какой-то момент, когда мне исполнилось 14 лет, он решил, что должен больше заниматься со мной математикой, и прочитал мне длинную, на час или два, лекцию о теории кватернионов. Это такая специальная система исчисления, которая появляется в задачах, связанных с пространствами большого числа измерений. Затем дед велел мне взять бумагу и написать все, что я понял. Он все это внимательно прочитал и сказал: «Нет, из тебя математика не будет». Так что я больше всего в детстве любил играть в футбол и волейбол.
— Ваш брат, Григорий Баренблатт, тоже был известным математиком…
— Да, мой старший брат, сейчас уже покойный, работал на механико-математическом факультете МГУ. Когда нужно было решать, кем мне стать после школы, в дискуссии участвовала вся наша большая семья. Все высказывали свое мнение. Отец, например, говорил, что я должен идти в «Керосинку» — это Институт нефти и газа в Москве, потому что после него будет легче устроиться на работу. И вдруг мой брат сказал: «Нет, он должен быть только математиком». И его твердая точка зрения победила множество разных советов.
— Как сформировались ваши научные интересы на мехмате? Вы сразу определились с тем, что вам интересно в математике?
— Нет, конечно. Там был замечательный профессор Николай Гурьевич Четаев, он читал лекции по механике. Это было очень интересно, и у него был особый стиль. Когда человек приходил к нему сдавать экзамен, он брал у него зачетку, закрывал ее и говорил: «А сейчас мы поговорим о механике». И беседовал в целом по курсу, и вопросы были на порядок труднее. И вот первые два года я занимался механикой…
— Вы окончили мехмат в 1957-м, когда там было совершенно исключительное собрание великих математиков — Колмогоров, Гельфанд, Петровский, Понтрягин, Новиков и т. д. Как вы познакомились с Колмогоровым?
— Андрей Николаевич читал курс лекций, на которые я ходил, как и многие студенты того времени.
Вообще, так была устроена жизнь, что все ходили на лекции — Колмогорова, Рохлина, Новикова, Гельфанда… Нельзя сказать, что это было что-то совсем специфическое, — шла очень насыщенная математическая жизнь.
Потом Колмогоров делал разные доклады на заседании Московского математического общества, куда мы тоже все ходили, так что сказать, когда я увидел его в первый раз, не могу.
— Как строились ваши отношения позже, когда вы уже были его аспирантом?
— Андрей Николаевич жил на даче, и все его ученики приезжали к нему туда. Там было такое правило: если за столом подают молоко, то придется идти на лыжах. Это была обязательная часть программы. После того как сходили на лыжах, наступала вторая часть встречи, где было очень много музыки, а потом немного математики. Эту часть Колмогоров не очень любил, потому что он не очень любил нас слушать.
Мы обязательно ходили к нему на семинары, где Колмогоров ставил очень много интересных задач, но он никогда не говорил, кому их решать. Каждый выбирал то, что хотел. Но когда человек решал задачу, он приходил с решением к Колмогорову. У меня был такой случай: я делал одну работу, написал статью и отдал ее Андрею Николаевичу. А через некоторое время он говорит: «Вы знаете, я вашу статью уже представил в журнал». То есть он ее со мной даже не обсуждал, не сказал, хорошая она или плохая.
Потом были такие случаи, когда я говорил про какую-то область математики и он не советовал ею заниматься. В итоге я его не слушал и оказывался потом прав.
— Получается, можно было не слушать? Он не обижался?
— Был эпизод, который Колмогоров очень не любил. Он, как известно, руководил математической школой-интернатом, и там работали многие его ученики. Он предложил мне тоже там преподавать, но я отказался, так как не люблю преподавать детям. После этого, как мне кажется, он стал хуже ко мне относиться.
— Тем не менее у вас есть совместные работы и даже целые математические понятия, названные вашими именами, в том числе знаменитая энтропия Колмогорова — Синая.
— Колмогоров дал определение энтропии еще в 1950-е и потом какое-то время не возвращался к этому. В его статье энтропия определялась для некоторого специального класса динамических систем. Я поработал и в итоге сформулировал определение энтропии, применимое к любой динамической системе. После этого Колмогоров сказал: «Ну наконец-то вы сделали что-то хорошее, можете теперь соревноваться с моими остальными учениками».
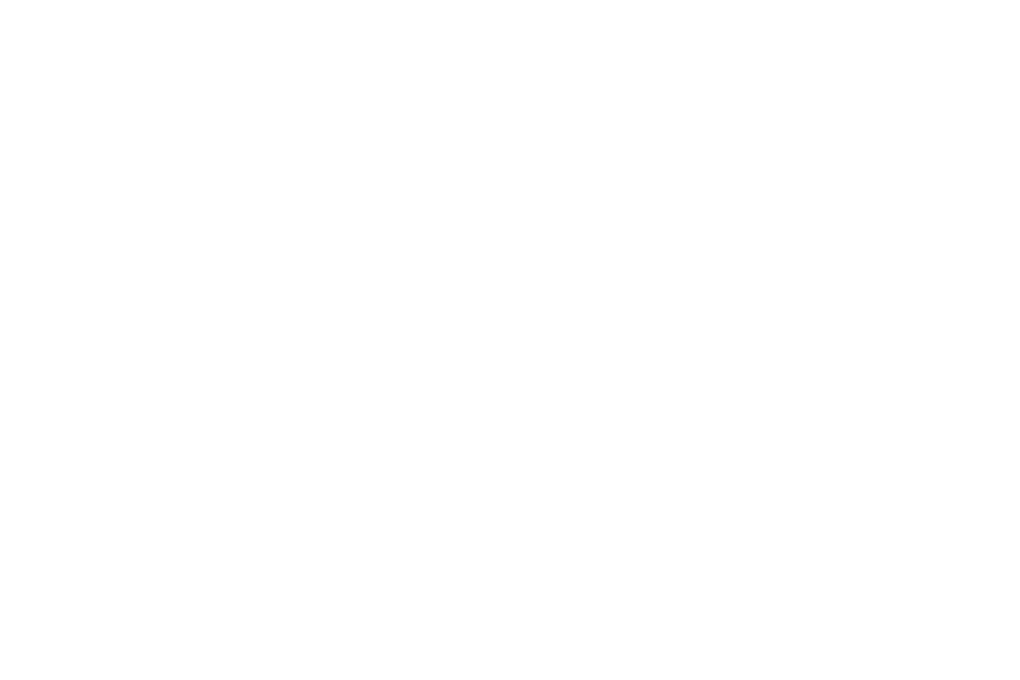
— А почему бы и нет?
— Какая из премий вам особенно дорога и почему?
— Мне все очень дороги, я их все очень люблю, храню и могу рассказать про каждую. Например, у меня очень хорошая премия Вольфа из Израиля (одна из самых престижных премий в научном мире — за выдающиеся заслуги перед человечеством, вручается президентом Израиля. — Прим. ред.). Помню, что когда мы с женой приехали на вручение, там было много знакомых людей, и вела это некая женщина из Одессы, которая придала этому мероприятию неповторимый колорит…
— В 2014 году вы получили премию Абеля — аналог Нобелевской премии. Как вы узнали, что победили?
— Мне позвонили, чтобы рассказать об этом, в пять утра. Дело в том, что организаторы всегда звонят очень рано, и причиной этому, как ни странно, прецедент, связанный с Львом Толстым. Вы знаете, что ему присудили Нобелевскую премию по литературе, а Лев Николаевич от нее отказался, сказав: «Кто вы такие, чтобы давать мне свою премию?» Эта история в свое время очень напугала оргкомитеты, и с тех пор многие организаторы подстраховываются и звонят очень рано, чтобы в случае чего все переиграть. Но я все-таки не отказался. Вообще, на мой взгляд, премии должны вручать только людям с хорошим здоровьем, потому что вокруг них всегда очень много суеты и разъездов.
— Эту премию дали за то, что вы «открыли неожиданные связи между порядком и хаосом, развив приложение к теории вероятности». Можно попытаться объяснить, в чем суть открытия?
— Есть два понятия — хаос и беспорядок. Когда вы заходите в комнату, а там все вещи лежат не на своих местах, это будет беспорядок. Это должно быть понятно. Понятие хаоса сложнее. Хаос — это когда частички вокруг нас двигаются во все стороны, каждая по своему закону. Мы изучаем в основном хаос, но, с другой стороны, есть и наука, которая изучает беспорядок. Например, тот факт, что нельзя предсказать погоду больше чем на один день, это вот есть утверждение теории хаоса.
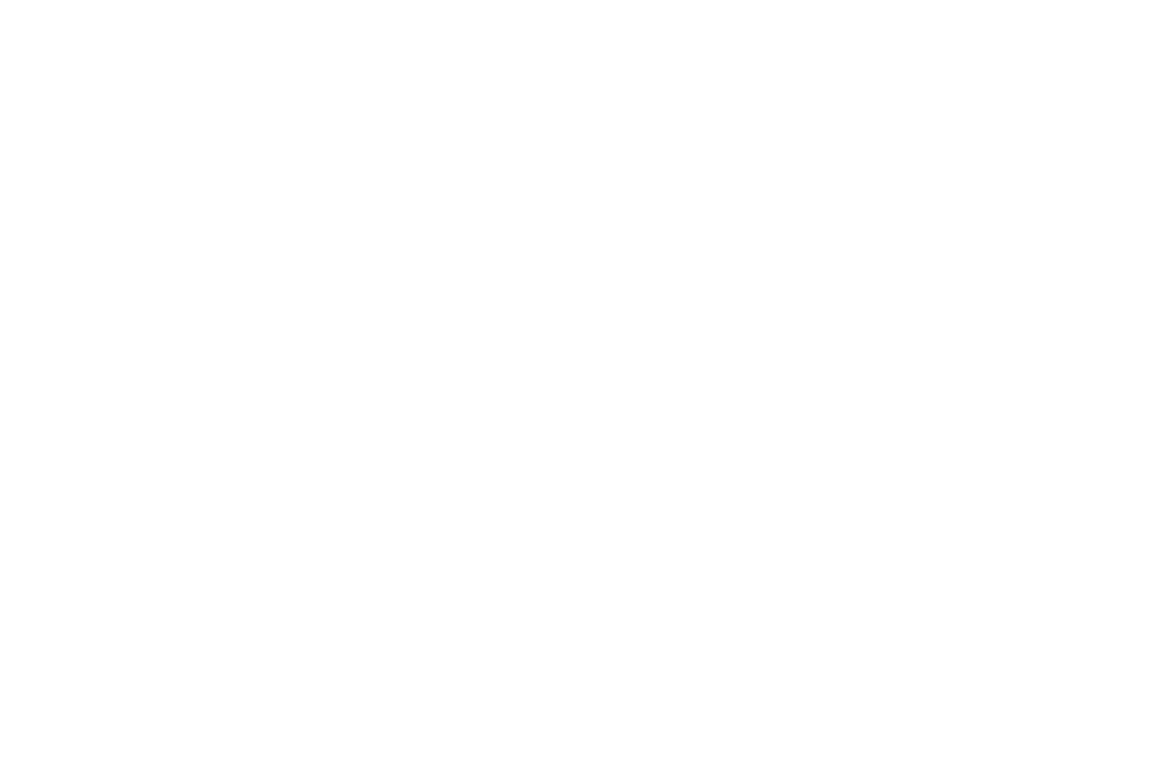
— В наше время было несколько случаев, когда молодые математики писали хорошие работы. Нельзя сказать, что это норма, но и нельзя сказать, что это что-то необычное. Первая работа, о которой вы говорите, появилась в 19 лет, но я думал о ней два года. И даже помню то место на улице, где мне в голову пришла основная идея, после которой все встало на свои места.
Сегодня есть очень хорошие студенты, которые находятся на высоком уровне, иногда на более высоком, чем были когда-то мы.
— Что нужно, чтобы стать хорошим математиком?
— Должен быть внутренний голос. Я очень люблю вспоминать историю про мою бабушку. Она произошла как раз в тот момент, когда обсуждался вопрос, кем мне быть. Бабушка пришла ко мне и сказала: «Ты можешь выбрать что угодно, но ты должен иметь в виду, что математики — это люди, которые думают о математике 24 часа в сутки. Ты так сможешь?»
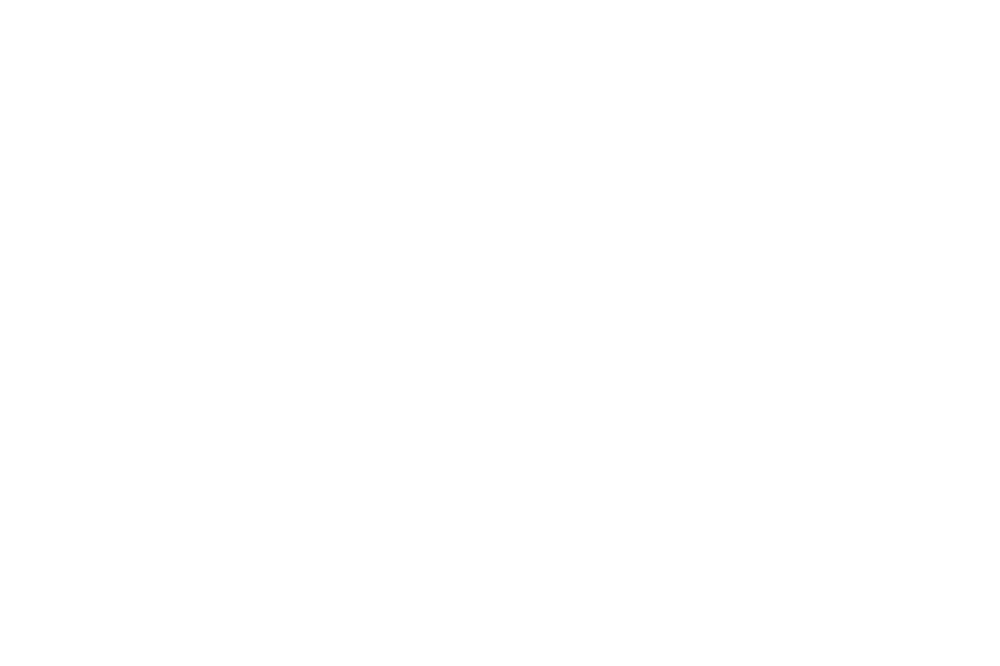
— Конечно, это нечто сверхъестественное внутри вас, и вы не можете оспорить то, что он говорит. У меня есть очень много задач, за которые я не берусь, пока внутренне не пойму, что должен ими заняться.
— В 1900 году на Международном конгрессе математиков в Париже Давид Гильберт огласил свой знаменитый список нерешенных математических задач, который уже в наше время Институт Клэя (США) переработал в список из семи оставшихся задач, за решение которых назначена премия в миллион долларов. Какие из них будут решены первыми? Что говорит ваш внутренний голос?
— Первая задача из этого списка уже была решена Перельманом. Сказать, какая будет решена следующей, очень трудно. Есть еще одна задача Клэя, над которой мы работаем с моими учениками. Я не уверен, что она будет решена первой, но, по-моему, это хорошая задача.
— Как она называется?
— Уравнение Навье — Стокса, это то, чем занималась Ольга Ладыженская и др. Это близко к задачам по цунами, которыми занимается академик Захаров, но он не математик, а физик. У меня есть друзья и ученики, с которыми мы работаем на эту тему, один ученик в Италии, один в Китае и один в России.
— Скоро решите?
— Думаю, что нет. Но если даже она не решится совсем, ничего страшного. Есть задачи, над которыми стоит работать просто потому, что это интересно.