СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Леон Тахтаджян
Леон Тахтаджян
Для меня математики — это музыканты и живописцы у Господа Бога, они сочиняют музыку и пишут картины для Вечности
Беседовала Елена Кудрявцева (интервью записано онлайн)
Фото из личного архива Л. А. Тахтаджяна
Фото из личного архива Л. А. Тахтаджяна
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Леон Тахтаджян
Леон Тахтаджян
Для меня математики — это музыканты и живописцы у Господа Бога, они сочиняют музыку и пишут картины для Вечности
Беседовала Елена Кудрявцева (интервью записано онлайн)
Фото из личного архива Л. А. Тахтаджяна
Фото из личного архива Л. А. Тахтаджяна
ЛЕОН АРМЕНОВИЧ ТАХТАДЖЯН, доктор физико-математических наук, заслуженный профессор математического факультета Университета Стоуни-Брук штата Нью-Йорк, США, ведущий научный сотрудник Международного математического института им. Л. Эйлера в Санкт- Петербурге.
— Леон Арменович, давайте представим, что, несмотря на существующие ограничения, вы все-таки попали из Стоуни-Брука в Санкт-Петербург. По каким математическим местам мы бы могли прогуляться в городе?
— Можно было бы начать со здания Императорской Санкт-Петербургской академии наук на Университетской набережной, где работали М. В. Ломоносов, математики Николай и Даниил Бернулли, Христиан Гольдбах, Леонард Эйлер, астроном Жозеф Делиль и многие другие замечательные ученые. Потом пойти дальше по набережной Лейтенанта Шмидта к дому № 15 («Дом академиков»), где в разное время жили такие математики, как А. М. Ляпунов, А. А. Марков, М. В. Остроградский, В. А. Стеклов и П. Л. Чебышев. Там висит большое количество мемориальных досок, и одна из них посвящена как раз «крупнейшему математику, механику и физику Леонарду Эйлеру». Там же, на Васильевском острове, на 11-й линии, жил известный немецкий математик, создатель теории множеств Георг Кантор (первый президент Германского математического общества, инициатор создания Международного конгресса математиков. — Прим. ред.). Затем можно было бы прогул ться по Невскому, свернуть на набережную Фонтанки и зайти в мой родной институт (Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН), а оттуда — на Каменноостровский проспект, в мой дом, где с 1952-го по 1974 год жил известный российский и советский математик Владимир Иванович Смирнов. В числе прочего он знаменит тем, что написал известный всем пятитомный «Курс высшей математики». Закончить прогулку мы могли бы на Лазаревском кладбище на территории Александро-Невской лавры и посмотреть могилы Ломоносова, Эйлера и многих других замечательных людей. На самом деле в Петербурге так много мест, где жили математики, что этому даже посвящено специальное издание 2018 года: «Математический Петербург. История, наука, достопримечательности. Справочник-путеводитель».
— Дом, в котором вы живете в Санкт-Петербурге, был какой-то особенный?
— Он называется «Профессорский дом». Его построили в 1952 году, и нам дали там квартиру (мой отец был тогда деканом биолого-почвенного факультета ЛГУ). Из окон видна 69-я восьмилетняя школа им. А. С. Пушкина, где я учился. К Пушкину она, кстати, имела самое непосредственное отношение: в 1843 году в это здание перевели Царскосельский лицей; до революции он назывался «Александровский лицей». Там работал отец В. И. Смирнова, он преподавал Закон Божий и жил на территории лицея.
— В ваше время у школы был математический уклон?
— Нет, это была восьмилетняя общеобразовательная, а потом я поступил в 239-ю математическую школу (теперь это Президентский физико-математический лицей № 239), где учились многие будущие питерские математики. Сначала она находилась в знаменитом «Доме со львами» (дом Лобанова-Ростовского) на углу Адмиралтейского проспекта и Исаакиевской площади, а потом ее перевели в бывшую школу рабочей молодежи на пересечении улиц Плеханова и Майорова, куда я и поступил. Это старинный петербургский район; так, Родион Раскольников, направляясь к Алене Ивановне, шел как раз по двору нашей школы. Когда мы были в 10-м классе, школа переехала еще раз — на набережную Мойки, напротив Новой Голландии.
— Как вы решили стать математиком, учитывая, что ваш отец был всемирно известным ботаником, в советское время возглавлял Отделение ботаники Международного союза биологических наук, путешествовал по джунглям и тропическим островам, писал монографии и т. д. В Сети даже можно найти такую частушку: «Самый умный из армян — академик Тахтаджян». Неужели он не увлек вас своей наукой?
— Да, я это тоже слышал. Отец был деканом биологического факультета в Ленинградском университете, и эта частушка, видимо, появилась еще в начале 50-х. У него действительно была очень интересная жизнь. Он родился в 1910 году в Шуши Елизаветпольской губернии Российской империи — маленьком провинциальном городе на Кавказе, где издавались газеты на четырех языках, а в местном театре шли представления на армянском, грузинском, турецком, русском и французском языках. Его отец закончил Лейпцигский университет в 1906 году, говорил на нескольких языках и выписывал в Шуши немецкие газеты. Отец учился в Единой трудовой школе № 42, увлекался ботаникой под руководством своего школьного учителя, князя Макашвили, слушал публичное выступление Троцкого в Тифлисе, был вольнослушателем Ленинградского университета, закончил Всесоюзный институт субтропических культур в Тифлисе, работал в Сухуми, а потом в Ереване. Был знаком с В. Л. Комаровым и Н. И. Вавиловым, неоднократно встречался с ними в Сухуми и в Ленинграде. Был в экспедициях по всему Кавказу, а также и в Албании, Вьетнаме, Индии, Китае, Японии, в 1971-м плавал на судне «Дмитрий Менделеев» и был в Сингапуре, на островах Фиджи, Самоа, а также в Новой Каледонии, Новой Гвинее, Австралии и Новой Зеландии. Увлекался живописью, дружил с Мартиросом Сарьяном, Минасом Аветисяном, с ленинградскими художникам и коллекционерами. Скончался в 2009 году и похоронен на Армяно-григорианском кладбище в Санкт-Петербурге. Это была другая эпоха, и люди были другие.
— Вы с ним много общались или он все время был занят?
— Да, конечно, мы общались, хотя отец часто был занят, много работал дома. Он слушал классическую музыку и очень любил бельканто, но в филармонию и в оперу, а также в театры ходить не любил, поэтому мама брала с собой меня. Биология меня не очень интересовала, и отец не пытался меня специально заинтересовать; я только помню, как он мне объяснял основы генетики, когда у нас в школе поменяли учебник биологии. Так что у меня была полная свобода в выборе занятий, чем я и пользовался.
— И как же вы в итоге выбрали математику?
— Она всегда давалась мне легко, а где-то в 7-м классе я нашел у отца популярные дореволюционные брошюры по дифференциальному и интегральному исчислению. Стал читать, там все было очень понятно написано, мне понравилось. Я не знал, что в городе существуют математические кружки, и никто меня математике дополнительно не учил. Так как 69-я школа была восьмилетка, то мне нужно было решать, где дальше учиться; тогда для ленинградцев был выбор из двух физико-математических школ, № 30 и № 239, и я выбрал последнюю. У нас был замечательный учитель физики, Александр Сергеевич Трошин; знание основ матанализа позволяло мне легко решать разнообразные задачи. Так, в 9-м классе на городской олимпиаде по физике я получил диплом 1-й степени (а по математике — только 3-й степени). Тогда у нас считалось, что вершиной науки является теоретическая физика, чему немало способствовала только что вышедшая книжка Майи Бессараб про жизнь Ландау. Я хотел поступать в МФТИ, но мне объяснили, что москвичи и ленинградцы, как правило, должны учиться в своих родных городах. В конце концов я выбрал математику и поступил на математико-механический факультет Ленинградского университета.
— А что тогда в математике казалось самой важной областью, куда молодежь хотела идти?
— Как и многие мои сокурсники, я не имел ни малейшего понятия о важности различных областей математики и чем «надо» заниматься. Сложно ответить, почему человек выбирает ту или иную область деятельности, занимается этой или другой задачей и т. д. Кто-то скажет, что это случай, кто-то — что это сознательный выбор, кто-то — что по необходимости. А мне кажется, что это некое предопределение, которому человек бессознательно следует...
Отставив философию, расскажу на собственном опыте про выбор области занятий. Я помню, как мой школьный учитель физики Трошин однажды сказал: «Пуанкаре пытался решить задачу трех тел в небесной механике, но не смог. А задачу трех тел в квантовой механике решил молодой ленинградский математик Людвиг Фаддеев». Математический аппарат квантовой механики — это теория линейных операторов в гильбертовом пространстве, поэтому на втором курсе я записался на спецкурс молодого тогда доцента Михаила Захаровича Соломяка с таким названием. После экзамена Соломяк спросил, чем я хочу заниматься, и я ответил «квантовой теорией», на что он сказал: «Тогда Вам надо к Людвигу Фаддееву, я ему о Вас скажу».
В то время Людвиг Дмитриевич Фаддеев читал курс квантовой механики для студентов-математиков 4-го курса, и мой друг Алексей Рейман и я, студенты-второкурсники, его прослушали, сдали экзамен и стали по четвергам ходить на семинары в ЛОМИ. Фаддеев дал нам несколько задач; Рейману очень понравился метод орбит А. А. Кириллова, и он стал этим интенсивно заниматься. Меня это тогда не очень увлекло, и Л. Д. предложил мне «доказать единственность квантовой механики». Это ни меня, ни Реймана не зацепило, и теперь я понимаю, что он имел в виду так называемое деформационное квантование, которое стало очень популярным в конце 90-х, после известной работы Максима Концевича. Наконец в июне 1971 года Фаддеев дал мне машинописную копию совместной с В. Е. Захаровым статьи «Уравнение Кортевега-де Фриса — вполне интегрируемая гамильтонова система», направленную в журнал «Функциональный анализ и его приложения», и препринт В. Е. Захарова и А. Б. Шабата об интегрируемости нелинейного уравнения Шредингера. Моя задача — доказать полную интегрируемость нелинейного уравнения Шредингера как бесконечномерной гамильтоновой системы. Подсознательно я сразу понял, что это и есть то, чем я могу и хочу заниматься.
Так начиналась теория классических интегрируемых систем, нелинейных дифференциальных уравнений, решаемых методом обратной задачи теории рассеяния; из нее возникли теория квантовых интегрируемых систем, уравнение Янга — Бакстера, квантовые группы и много-много всего другого. В 2017 году мои коллеги и я написали большой обзор «Научное наследие Л. Д. Фаддеева. Обзор работ» в «Успехах математических наук», том 72, № 6, где рассказывается про уравнение sine-Gordon, алгебраический Бете-анзатц, магнетик Гейзенберга и про другие увлекательные вещи.
Потом вместе с Аскольдом Ивановичем Виноградовым, моим учителем в теории чисел, я занимался аналитической теорией чисел, с Петром Зографом — связью проблемы акцессорных параметров Пуанкаре с теорией Тейхмюллера и комплексной геометрией пространств модулей, и каждый раз у меня было ощущение, что именно этим я и должен заниматься.
Возвращаясь к вашему вопросу, теперь я могу сказать, что в то время важными областями в Ленинграде были топология, алгебра, функциональный анализ, уравнения в частных производных, современная математическая физика, теория операторов и математическая теория рассеяния, эргодическая теория; надеюсь, что ничего не забыл. В Москве возможностей для талантливых студентов было больше. Конечно, в то время я не мог так формулировать, и тогда не было такого понятия, как «важная область математики»; я и сейчас не знаю, что это значит..
— Петербургская и московская математические школы в прошлом веке стали отдельными явлениями и порой довольно открыто противостояли друг другу. В чем их отличие и ощущается ли оно сегодня? Можете ли вы, общаясь с другим математиком, сказать, что он из той или иной школы?
— Конечно, могу сразу сказать. Петербургская математическая школа занимается более конкретными задачами, из которых естественным образом возникают общие математические теории и методы. При этом исходная задача может быть и прикладной. Родоначальником школы следует считать Эйлера, но у него не было учеников, поэтому, видимо, нужно начать с Чебышева. Его знаменитыми последователями были Марков, Ляпунов, Коркин, Золотарёв, И. М. Виноградов и др. Кстати, в Москве, по-моему, говорят: «Чебышёв».
— Да, с ударением на последний слог. Мы нашли еще одно различие петербургской и московской школы.
— Да, московская школа более абстрактная, здесь люди с самого начала занимались общими теориями. В более позднее время интерес стал сдвигаться в сторону более конкретных сюжетов, как, например, в школах Арнольда и Новикова.
— То есть можно сказать, что московская школа ближе к французской?
— Да, пожалуй, ближе к французской, хотя французская очень формальная. А петербургская — к немецкой школе.
— А есть ли, предположим, американская школа?
— Пожалуй, нет; хотя под влиянием европейцев, переехавших из Европы, были четко выраженные школы по топологии, динамическим системам, теории операторов и т. д. Можно упомянуть и школу Тёрстона по топологии трехмерных многообразий (Г. Я. Перельман доказал его гипотезу геометризации). А вот французская математическая школа существует, потому что сами французы очень редко уезжают учиться из страны и тем самым сохраняют традиции.
— Можно было бы начать со здания Императорской Санкт-Петербургской академии наук на Университетской набережной, где работали М. В. Ломоносов, математики Николай и Даниил Бернулли, Христиан Гольдбах, Леонард Эйлер, астроном Жозеф Делиль и многие другие замечательные ученые. Потом пойти дальше по набережной Лейтенанта Шмидта к дому № 15 («Дом академиков»), где в разное время жили такие математики, как А. М. Ляпунов, А. А. Марков, М. В. Остроградский, В. А. Стеклов и П. Л. Чебышев. Там висит большое количество мемориальных досок, и одна из них посвящена как раз «крупнейшему математику, механику и физику Леонарду Эйлеру». Там же, на Васильевском острове, на 11-й линии, жил известный немецкий математик, создатель теории множеств Георг Кантор (первый президент Германского математического общества, инициатор создания Международного конгресса математиков. — Прим. ред.). Затем можно было бы прогул ться по Невскому, свернуть на набережную Фонтанки и зайти в мой родной институт (Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН), а оттуда — на Каменноостровский проспект, в мой дом, где с 1952-го по 1974 год жил известный российский и советский математик Владимир Иванович Смирнов. В числе прочего он знаменит тем, что написал известный всем пятитомный «Курс высшей математики». Закончить прогулку мы могли бы на Лазаревском кладбище на территории Александро-Невской лавры и посмотреть могилы Ломоносова, Эйлера и многих других замечательных людей. На самом деле в Петербурге так много мест, где жили математики, что этому даже посвящено специальное издание 2018 года: «Математический Петербург. История, наука, достопримечательности. Справочник-путеводитель».
— Дом, в котором вы живете в Санкт-Петербурге, был какой-то особенный?
— Он называется «Профессорский дом». Его построили в 1952 году, и нам дали там квартиру (мой отец был тогда деканом биолого-почвенного факультета ЛГУ). Из окон видна 69-я восьмилетняя школа им. А. С. Пушкина, где я учился. К Пушкину она, кстати, имела самое непосредственное отношение: в 1843 году в это здание перевели Царскосельский лицей; до революции он назывался «Александровский лицей». Там работал отец В. И. Смирнова, он преподавал Закон Божий и жил на территории лицея.
— В ваше время у школы был математический уклон?
— Нет, это была восьмилетняя общеобразовательная, а потом я поступил в 239-ю математическую школу (теперь это Президентский физико-математический лицей № 239), где учились многие будущие питерские математики. Сначала она находилась в знаменитом «Доме со львами» (дом Лобанова-Ростовского) на углу Адмиралтейского проспекта и Исаакиевской площади, а потом ее перевели в бывшую школу рабочей молодежи на пересечении улиц Плеханова и Майорова, куда я и поступил. Это старинный петербургский район; так, Родион Раскольников, направляясь к Алене Ивановне, шел как раз по двору нашей школы. Когда мы были в 10-м классе, школа переехала еще раз — на набережную Мойки, напротив Новой Голландии.
— Как вы решили стать математиком, учитывая, что ваш отец был всемирно известным ботаником, в советское время возглавлял Отделение ботаники Международного союза биологических наук, путешествовал по джунглям и тропическим островам, писал монографии и т. д. В Сети даже можно найти такую частушку: «Самый умный из армян — академик Тахтаджян». Неужели он не увлек вас своей наукой?
— Да, я это тоже слышал. Отец был деканом биологического факультета в Ленинградском университете, и эта частушка, видимо, появилась еще в начале 50-х. У него действительно была очень интересная жизнь. Он родился в 1910 году в Шуши Елизаветпольской губернии Российской империи — маленьком провинциальном городе на Кавказе, где издавались газеты на четырех языках, а в местном театре шли представления на армянском, грузинском, турецком, русском и французском языках. Его отец закончил Лейпцигский университет в 1906 году, говорил на нескольких языках и выписывал в Шуши немецкие газеты. Отец учился в Единой трудовой школе № 42, увлекался ботаникой под руководством своего школьного учителя, князя Макашвили, слушал публичное выступление Троцкого в Тифлисе, был вольнослушателем Ленинградского университета, закончил Всесоюзный институт субтропических культур в Тифлисе, работал в Сухуми, а потом в Ереване. Был знаком с В. Л. Комаровым и Н. И. Вавиловым, неоднократно встречался с ними в Сухуми и в Ленинграде. Был в экспедициях по всему Кавказу, а также и в Албании, Вьетнаме, Индии, Китае, Японии, в 1971-м плавал на судне «Дмитрий Менделеев» и был в Сингапуре, на островах Фиджи, Самоа, а также в Новой Каледонии, Новой Гвинее, Австралии и Новой Зеландии. Увлекался живописью, дружил с Мартиросом Сарьяном, Минасом Аветисяном, с ленинградскими художникам и коллекционерами. Скончался в 2009 году и похоронен на Армяно-григорианском кладбище в Санкт-Петербурге. Это была другая эпоха, и люди были другие.
— Вы с ним много общались или он все время был занят?
— Да, конечно, мы общались, хотя отец часто был занят, много работал дома. Он слушал классическую музыку и очень любил бельканто, но в филармонию и в оперу, а также в театры ходить не любил, поэтому мама брала с собой меня. Биология меня не очень интересовала, и отец не пытался меня специально заинтересовать; я только помню, как он мне объяснял основы генетики, когда у нас в школе поменяли учебник биологии. Так что у меня была полная свобода в выборе занятий, чем я и пользовался.
— И как же вы в итоге выбрали математику?
— Она всегда давалась мне легко, а где-то в 7-м классе я нашел у отца популярные дореволюционные брошюры по дифференциальному и интегральному исчислению. Стал читать, там все было очень понятно написано, мне понравилось. Я не знал, что в городе существуют математические кружки, и никто меня математике дополнительно не учил. Так как 69-я школа была восьмилетка, то мне нужно было решать, где дальше учиться; тогда для ленинградцев был выбор из двух физико-математических школ, № 30 и № 239, и я выбрал последнюю. У нас был замечательный учитель физики, Александр Сергеевич Трошин; знание основ матанализа позволяло мне легко решать разнообразные задачи. Так, в 9-м классе на городской олимпиаде по физике я получил диплом 1-й степени (а по математике — только 3-й степени). Тогда у нас считалось, что вершиной науки является теоретическая физика, чему немало способствовала только что вышедшая книжка Майи Бессараб про жизнь Ландау. Я хотел поступать в МФТИ, но мне объяснили, что москвичи и ленинградцы, как правило, должны учиться в своих родных городах. В конце концов я выбрал математику и поступил на математико-механический факультет Ленинградского университета.
— А что тогда в математике казалось самой важной областью, куда молодежь хотела идти?
— Как и многие мои сокурсники, я не имел ни малейшего понятия о важности различных областей математики и чем «надо» заниматься. Сложно ответить, почему человек выбирает ту или иную область деятельности, занимается этой или другой задачей и т. д. Кто-то скажет, что это случай, кто-то — что это сознательный выбор, кто-то — что по необходимости. А мне кажется, что это некое предопределение, которому человек бессознательно следует...
Отставив философию, расскажу на собственном опыте про выбор области занятий. Я помню, как мой школьный учитель физики Трошин однажды сказал: «Пуанкаре пытался решить задачу трех тел в небесной механике, но не смог. А задачу трех тел в квантовой механике решил молодой ленинградский математик Людвиг Фаддеев». Математический аппарат квантовой механики — это теория линейных операторов в гильбертовом пространстве, поэтому на втором курсе я записался на спецкурс молодого тогда доцента Михаила Захаровича Соломяка с таким названием. После экзамена Соломяк спросил, чем я хочу заниматься, и я ответил «квантовой теорией», на что он сказал: «Тогда Вам надо к Людвигу Фаддееву, я ему о Вас скажу».
В то время Людвиг Дмитриевич Фаддеев читал курс квантовой механики для студентов-математиков 4-го курса, и мой друг Алексей Рейман и я, студенты-второкурсники, его прослушали, сдали экзамен и стали по четвергам ходить на семинары в ЛОМИ. Фаддеев дал нам несколько задач; Рейману очень понравился метод орбит А. А. Кириллова, и он стал этим интенсивно заниматься. Меня это тогда не очень увлекло, и Л. Д. предложил мне «доказать единственность квантовой механики». Это ни меня, ни Реймана не зацепило, и теперь я понимаю, что он имел в виду так называемое деформационное квантование, которое стало очень популярным в конце 90-х, после известной работы Максима Концевича. Наконец в июне 1971 года Фаддеев дал мне машинописную копию совместной с В. Е. Захаровым статьи «Уравнение Кортевега-де Фриса — вполне интегрируемая гамильтонова система», направленную в журнал «Функциональный анализ и его приложения», и препринт В. Е. Захарова и А. Б. Шабата об интегрируемости нелинейного уравнения Шредингера. Моя задача — доказать полную интегрируемость нелинейного уравнения Шредингера как бесконечномерной гамильтоновой системы. Подсознательно я сразу понял, что это и есть то, чем я могу и хочу заниматься.
Так начиналась теория классических интегрируемых систем, нелинейных дифференциальных уравнений, решаемых методом обратной задачи теории рассеяния; из нее возникли теория квантовых интегрируемых систем, уравнение Янга — Бакстера, квантовые группы и много-много всего другого. В 2017 году мои коллеги и я написали большой обзор «Научное наследие Л. Д. Фаддеева. Обзор работ» в «Успехах математических наук», том 72, № 6, где рассказывается про уравнение sine-Gordon, алгебраический Бете-анзатц, магнетик Гейзенберга и про другие увлекательные вещи.
Потом вместе с Аскольдом Ивановичем Виноградовым, моим учителем в теории чисел, я занимался аналитической теорией чисел, с Петром Зографом — связью проблемы акцессорных параметров Пуанкаре с теорией Тейхмюллера и комплексной геометрией пространств модулей, и каждый раз у меня было ощущение, что именно этим я и должен заниматься.
Возвращаясь к вашему вопросу, теперь я могу сказать, что в то время важными областями в Ленинграде были топология, алгебра, функциональный анализ, уравнения в частных производных, современная математическая физика, теория операторов и математическая теория рассеяния, эргодическая теория; надеюсь, что ничего не забыл. В Москве возможностей для талантливых студентов было больше. Конечно, в то время я не мог так формулировать, и тогда не было такого понятия, как «важная область математики»; я и сейчас не знаю, что это значит..
— Петербургская и московская математические школы в прошлом веке стали отдельными явлениями и порой довольно открыто противостояли друг другу. В чем их отличие и ощущается ли оно сегодня? Можете ли вы, общаясь с другим математиком, сказать, что он из той или иной школы?
— Конечно, могу сразу сказать. Петербургская математическая школа занимается более конкретными задачами, из которых естественным образом возникают общие математические теории и методы. При этом исходная задача может быть и прикладной. Родоначальником школы следует считать Эйлера, но у него не было учеников, поэтому, видимо, нужно начать с Чебышева. Его знаменитыми последователями были Марков, Ляпунов, Коркин, Золотарёв, И. М. Виноградов и др. Кстати, в Москве, по-моему, говорят: «Чебышёв».
— Да, с ударением на последний слог. Мы нашли еще одно различие петербургской и московской школы.
— Да, московская школа более абстрактная, здесь люди с самого начала занимались общими теориями. В более позднее время интерес стал сдвигаться в сторону более конкретных сюжетов, как, например, в школах Арнольда и Новикова.
— То есть можно сказать, что московская школа ближе к французской?
— Да, пожалуй, ближе к французской, хотя французская очень формальная. А петербургская — к немецкой школе.
— А есть ли, предположим, американская школа?
— Пожалуй, нет; хотя под влиянием европейцев, переехавших из Европы, были четко выраженные школы по топологии, динамическим системам, теории операторов и т. д. Можно упомянуть и школу Тёрстона по топологии трехмерных многообразий (Г. Я. Перельман доказал его гипотезу геометризации). А вот французская математическая школа существует, потому что сами французы очень редко уезжают учиться из страны и тем самым сохраняют традиции.
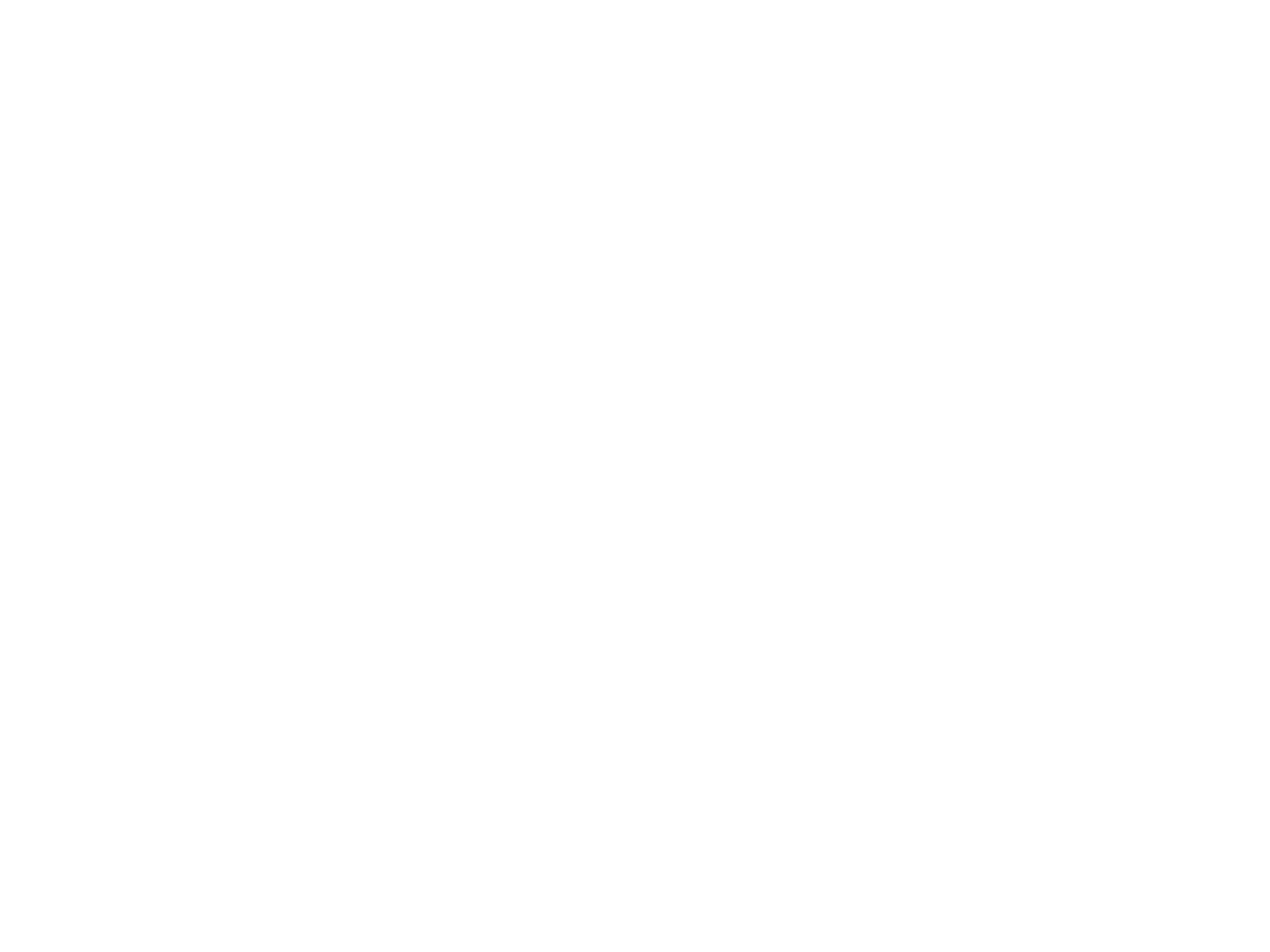
В мире идей
— Леон Арменович, какие области в математике сегодня считаются самыми топовыми? Куда чаще всего устремляется талантливая молодежь?
— Этого объяснить я не могу. Во-первых, я не знаю, что такое «топовая область математики»; во-вторых, сегодня математическое знание очень сильно разрослось и превратилось в многомерную конструкцию, намного более объемную, чем 30—40 лет тому назад. Даже 15 лет назад существовало порядка десяти областей, с которыми можно было как-то разобраться. Сегодня же речь идет о десятках десятков. Конечно, есть популярные области, существует «мода» на то, чем стоит заниматься, и т. д. Молодым людям надо получить работу, что весьма не просто, и это влияет на выбор темы. Дальше мне не хочется это обсуждать, так как это уже «социология науки». Если хотите, популярные области можно определить с помощью ресурса arXiv.org, где каждый день публикуются препринты по математике, физике и другим наукам. Их может загрузить любой человек, после чего работа попадет в соответствующий раздел, например, в алгебраическую геометрию, дифференциальную геометрию, теорию чисел, комбинаторику и т. д. Если судить по этому показателю, то сегодня большой интерес к теории чисел.
— Хочется понять, как этот интерес возникает, что бывает отправной точкой?
— Дополнительный интерес к теории чисел возник, видимо, после эпохального доказательства теоремы Ферма Эндрю Уайлсом (доказана в 1994 году, после 300 лет поиска решения. — Прим. ред.). Потом, в 2013 году, Чжан Итан доказал, что существует бесконечно много пар последовательных простых чисел с ограниченной разностью (около 70 миллионов). Это первый результат на пути доказательства знаменитой проблемы простых чисел-близнецов: существует бесконечно много пар последовательных простых чисел с разностью 2. Эта гипотеза считается гораздо более трудной, чем расширенная гипотеза Римана, и результат Чжан Итана был как гром среди ясного неба. Замечательно, что в его доказательстве использовался усовершенствованный в специальной ситуации вариант результата Энрико Бомбьери и Аскольда Ивановича Виноградова, знаменитой теоремы Бомбьери — Виноградова! Сейчас усилиями многих математиков эта разность доведена до 246.
Эти работы стали как бы центрами кристаллообразования, вокруг которых возникло много замечательных идей и результатов.
— А центр — это человек или это какая-то решенная задача или доказанная гипотеза?
— И то, и другоe, иногда вместе. Выше мы обсуждали современные достижения. Следует также отметить, что в 1956 году великий норвежский математик Атле Сельберг открыл новое направление, получившее название спектральная теория автоморфных функций и формула следа Сельберга. Это была необычайно интересная, но очень сложная тема. Ею очень интересовались и в Советском Союзе, и в Европе и США, но буквально человек 10—20. И только начиная с 80-х годов методы спектральной теории автоморфных функций стали применяться в аналитических задачах теории чисел, и начался настоящий бум.
То же самое сейчас происходит вокруг гипотезы, или программы, Ленглендса (сеть гипотез о связях между теорией чисел и теорией представлений. — Прим. ред.). Ее в 1967 году сформулировал канадский математик Роберт Ленглендс, который работает в Институте высших исследований в Принстоне. Долгое время ею, опять же, занимались во всем мире совсем немного математиков, правда, очень известных. А потом вдруг она стала мегапопулярной, и сейчас ее геометрическими вариациями начали активно заниматься физики и математики.
— Есть впечатляющие результаты?
— В исходной программе Ленглендса (над полями алгебраических чисел) пока результатов немного, но эта область привлекает огромное количество людей. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что в центре кристаллизации изначально должна быть какая-то очень важная работа, которая долго лежит и о которой знает очень узкий круг людей.
— А у вас есть интуиция: какая работа, может быть не самая известная, выстрелит через какой-то период времени?
— Очень хороший вопрос, но, к сожалению, интуиция работает только в обратную сторону и предугадать тут ничего невозможно. Приведу пример: в Германии в начале века было много знаменитых математиков. В частности, тогда работал всем известный сегодня Давид Гильберт, который как бы «конкурировал» с не менее известным Анри Пуанкаре во Франции. Но на самом деле в то время самым популярным в Германии считался математик Пауль Кёбе, крупный специалист по комплексному анализу. Он был безумно знаменит, гораздо больше, чем остальные, и у него была масса учеников. Сегодня его работы, конечно, хорошо знают — есть теорема и неравенство Кёбе, но значительного влияния на дальнейшее развитие математики они не оказали. Другой пример — это Герман Грассман, работы которого в середине XIX века не получили никакого признания современников. Теперь они используются повсеместно, начиная с линейной алгебры и кончая квантовой теорией поля (функциональное интегрирование по грассмановым переменным).
— Интересно, почему некоторые работы открывают целые области для исследования, а некоторые, наоборот, их закрывают?
— Даже если и «закрывают», это на время, потом они снова будут актуальными, но уже на другом витке развития нашей науки.
— Как вы выбираете задачи для работы? Откуда задачи берутся у конкретного человека?
— Я не знаю. Это как спросить у реки, почему она течет в эту сторону, или у живописца, откуда он берет сюжеты для своих работ. Конечно, ему могут заказать портрет или сюжет на тему вместе со спонсором…
Так и у математиков. По-моему, у каждого (по крайней мере, у меня) в голове есть несколько крутых задач, проблем или гипотез, назовите их как угодно, над которыми надо думать. Иногда что-то получается, приходит какая-то мысль в голову или ассоциация в подсознание. Иногда прочитанное или случайно услышанное слово вдруг отзовется потоком ассоциаций, становится ясно, что то, чем ты занимался раньше, можно использовать и здесь. Так возникает новый взгляд на старую задачу или что-то новое, неизвестное ранее.
А бывает и по-другому: кто-то всю жизнь работает в одной области, разрабатывает ее, как горную породу, и находит самоцветы, полудрагоценные металлы, иногда золото и платину, а может быть, даже и бриллианты.
Общим здесь является одно: нужно, чтобы работа над задачей приносила человеку радость открытия, вдохновения — можно называть это по-разному.
Вообще, для меня математики — это музыканты и живописцы у Господа Бога, они сочиняют музыку и пишут картины для Вечности.
— Должно ли результатом этой деятельности стать решение конкретной очень сложной задачи? Или для математиков это, как ни странно, не так важно?
— Важно, чтобы были новые интересные идеи. Если с их помощью удается решить сложную известную задачу — очень хорошо, если они открывают новое направление с новыми задачами — тоже очень хорошо.
— Это интересно, потому что многие думают, что математики как берут задачу, желательно из «списка тысячелетия», за которую Институт Клэя назначил премию в миллион долларов, так и решают ее изо всех сил.
— Это все от лукавого, пиар, реклама и шоу-бизнес. Еще есть и премия Мильнера в 3 миллиона долларов. Может быть, это чересчур радикальная точка зрения, но я считаю, что очень большие деньги часто приносят очень большой вред (как в песне Money группы «Пинк Флойд»). Конечно, эти задачи когда-то кто-то обязательно решит, но премии здесь будут совершенно ни при чем.ости.
— Этого объяснить я не могу. Во-первых, я не знаю, что такое «топовая область математики»; во-вторых, сегодня математическое знание очень сильно разрослось и превратилось в многомерную конструкцию, намного более объемную, чем 30—40 лет тому назад. Даже 15 лет назад существовало порядка десяти областей, с которыми можно было как-то разобраться. Сегодня же речь идет о десятках десятков. Конечно, есть популярные области, существует «мода» на то, чем стоит заниматься, и т. д. Молодым людям надо получить работу, что весьма не просто, и это влияет на выбор темы. Дальше мне не хочется это обсуждать, так как это уже «социология науки». Если хотите, популярные области можно определить с помощью ресурса arXiv.org, где каждый день публикуются препринты по математике, физике и другим наукам. Их может загрузить любой человек, после чего работа попадет в соответствующий раздел, например, в алгебраическую геометрию, дифференциальную геометрию, теорию чисел, комбинаторику и т. д. Если судить по этому показателю, то сегодня большой интерес к теории чисел.
— Хочется понять, как этот интерес возникает, что бывает отправной точкой?
— Дополнительный интерес к теории чисел возник, видимо, после эпохального доказательства теоремы Ферма Эндрю Уайлсом (доказана в 1994 году, после 300 лет поиска решения. — Прим. ред.). Потом, в 2013 году, Чжан Итан доказал, что существует бесконечно много пар последовательных простых чисел с ограниченной разностью (около 70 миллионов). Это первый результат на пути доказательства знаменитой проблемы простых чисел-близнецов: существует бесконечно много пар последовательных простых чисел с разностью 2. Эта гипотеза считается гораздо более трудной, чем расширенная гипотеза Римана, и результат Чжан Итана был как гром среди ясного неба. Замечательно, что в его доказательстве использовался усовершенствованный в специальной ситуации вариант результата Энрико Бомбьери и Аскольда Ивановича Виноградова, знаменитой теоремы Бомбьери — Виноградова! Сейчас усилиями многих математиков эта разность доведена до 246.
Эти работы стали как бы центрами кристаллообразования, вокруг которых возникло много замечательных идей и результатов.
— А центр — это человек или это какая-то решенная задача или доказанная гипотеза?
— И то, и другоe, иногда вместе. Выше мы обсуждали современные достижения. Следует также отметить, что в 1956 году великий норвежский математик Атле Сельберг открыл новое направление, получившее название спектральная теория автоморфных функций и формула следа Сельберга. Это была необычайно интересная, но очень сложная тема. Ею очень интересовались и в Советском Союзе, и в Европе и США, но буквально человек 10—20. И только начиная с 80-х годов методы спектральной теории автоморфных функций стали применяться в аналитических задачах теории чисел, и начался настоящий бум.
То же самое сейчас происходит вокруг гипотезы, или программы, Ленглендса (сеть гипотез о связях между теорией чисел и теорией представлений. — Прим. ред.). Ее в 1967 году сформулировал канадский математик Роберт Ленглендс, который работает в Институте высших исследований в Принстоне. Долгое время ею, опять же, занимались во всем мире совсем немного математиков, правда, очень известных. А потом вдруг она стала мегапопулярной, и сейчас ее геометрическими вариациями начали активно заниматься физики и математики.
— Есть впечатляющие результаты?
— В исходной программе Ленглендса (над полями алгебраических чисел) пока результатов немного, но эта область привлекает огромное количество людей. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что в центре кристаллизации изначально должна быть какая-то очень важная работа, которая долго лежит и о которой знает очень узкий круг людей.
— А у вас есть интуиция: какая работа, может быть не самая известная, выстрелит через какой-то период времени?
— Очень хороший вопрос, но, к сожалению, интуиция работает только в обратную сторону и предугадать тут ничего невозможно. Приведу пример: в Германии в начале века было много знаменитых математиков. В частности, тогда работал всем известный сегодня Давид Гильберт, который как бы «конкурировал» с не менее известным Анри Пуанкаре во Франции. Но на самом деле в то время самым популярным в Германии считался математик Пауль Кёбе, крупный специалист по комплексному анализу. Он был безумно знаменит, гораздо больше, чем остальные, и у него была масса учеников. Сегодня его работы, конечно, хорошо знают — есть теорема и неравенство Кёбе, но значительного влияния на дальнейшее развитие математики они не оказали. Другой пример — это Герман Грассман, работы которого в середине XIX века не получили никакого признания современников. Теперь они используются повсеместно, начиная с линейной алгебры и кончая квантовой теорией поля (функциональное интегрирование по грассмановым переменным).
— Интересно, почему некоторые работы открывают целые области для исследования, а некоторые, наоборот, их закрывают?
— Даже если и «закрывают», это на время, потом они снова будут актуальными, но уже на другом витке развития нашей науки.
— Как вы выбираете задачи для работы? Откуда задачи берутся у конкретного человека?
— Я не знаю. Это как спросить у реки, почему она течет в эту сторону, или у живописца, откуда он берет сюжеты для своих работ. Конечно, ему могут заказать портрет или сюжет на тему вместе со спонсором…
Так и у математиков. По-моему, у каждого (по крайней мере, у меня) в голове есть несколько крутых задач, проблем или гипотез, назовите их как угодно, над которыми надо думать. Иногда что-то получается, приходит какая-то мысль в голову или ассоциация в подсознание. Иногда прочитанное или случайно услышанное слово вдруг отзовется потоком ассоциаций, становится ясно, что то, чем ты занимался раньше, можно использовать и здесь. Так возникает новый взгляд на старую задачу или что-то новое, неизвестное ранее.
А бывает и по-другому: кто-то всю жизнь работает в одной области, разрабатывает ее, как горную породу, и находит самоцветы, полудрагоценные металлы, иногда золото и платину, а может быть, даже и бриллианты.
Общим здесь является одно: нужно, чтобы работа над задачей приносила человеку радость открытия, вдохновения — можно называть это по-разному.
Вообще, для меня математики — это музыканты и живописцы у Господа Бога, они сочиняют музыку и пишут картины для Вечности.
— Должно ли результатом этой деятельности стать решение конкретной очень сложной задачи? Или для математиков это, как ни странно, не так важно?
— Важно, чтобы были новые интересные идеи. Если с их помощью удается решить сложную известную задачу — очень хорошо, если они открывают новое направление с новыми задачами — тоже очень хорошо.
— Это интересно, потому что многие думают, что математики как берут задачу, желательно из «списка тысячелетия», за которую Институт Клэя назначил премию в миллион долларов, так и решают ее изо всех сил.
— Это все от лукавого, пиар, реклама и шоу-бизнес. Еще есть и премия Мильнера в 3 миллиона долларов. Может быть, это чересчур радикальная точка зрения, но я считаю, что очень большие деньги часто приносят очень большой вред (как в песне Money группы «Пинк Флойд»). Конечно, эти задачи когда-то кто-то обязательно решит, но премии здесь будут совершенно ни при чем.ости.
Физика и платонизм
— Когда мы говорили о наиболее популярных областях, вы упомянули алгебраическую геометрию, а я почему-то думала, что на первом месте окажется математическая физика как самая активная и живая область, где много всего происходит.
— Математическая физика — очень сложное понятие, и каждый вкладывает в него разные вещи. Отвечая на этот вопрос, Людвиг Фаддеев написал статью «Что такое современная математическая физика» в «Трудах Математического института им. В. А. Стеклова» (том 226, 1999 год), которую я всем советую прочитать.
Сегодня математическая физика — это «синтетическая» область математики, состоящая из методов и приемов многих областей: теории дифференциальных уравнений в частных производных, функционального анализа, дифференциальной геометрии, алгебраической геометрии, топологии, квантовой теории поля и т. д. Сюда же отнесена «струнная математика» (математический аппарат, возникший вокруг теории струн — одной из фундаментальных теорий, согласно которой элементарные частицы, из которых состоит наш мир, не точки, а крошечные струны. — Прим. ред.). «Струнники» используют разную математику, и вся она в одном пакете тоже называется «Математическая физика».
— А что вкладываете в это понятие вы?
— Все перечисленное выше; более четкого определения я не знаю. В узком смысле для меня это приложение методов квантовой теории поля к задачам чистой математики, что дает большую дополнительную интуицию. Как, например, в XVIII и XIX веках главной интуицией в математике были классическая механика и классическая электродинамика. В наше время развитие квантовой механики и квантовой теории поля привело к массе интересных математических задач, которые до этого даже было неясно, как поставить.
— Что здесь кажется самым интересным?
— Когда можно применить методы квантовой теории поля и сформулировать получающиеся результаты или конструкции в чисто математических терминах. Так, например, из квантовой теории интегрируемых систем возникло понятие квантовых групп. Вообще, когда математики используют «подсказки» от физиков и получают чисто математический результат, они предпочитают отбрасывать все, что привело к его появлению, потому что им это не интересно. Таких примеров можно привести очень много. Самый яркий из них, конечно, теория струн. Это некая теория, которая может быть верна, а может и нет, но математикам это не важно, так как они решают интересные математические задачи, поставленные физиками. Последние, конечно, скажут, что они это уже решили, а математики просто «строго доказали».
— Обычно спрашивают, верите ли вы в теорию струн. Верите, что в основе мира лежит струна?
— Это не вопрос, верить или не верить, скорее надо спросить, описывает ли эта теория окружающий физический мир вокруг нас или нет. Здесь, конечно, мы считаем, что этот мир, «объективная реальность, данная нам в ощущениях», как меня учили в школе и в университете, существует. В этом смысле я считаю, что физический мир эта теория не описывает.
Но это действительно очень красивая идея, хотя и довольно примитивная. Мы берем и считаем, что вместо точек — элементарные частицы, это «пульсирующие маленькие колечки», струны. Движение точек — это линии, которые пересекаются довольно резко, а движение струн — двумерные поверхности, которые являются более гладкими. Но если это описывать формулами, то дальше все получается очень сложно.
В первоначальном подходе такая теория не противоречила специальной теории относительности, только если пространство-время имеет размерность не четыре, как привыкли мы (три пространственных измерения, отображаемых на координатной плоскости как x, y, z, и время. — Прим. ред.), а 26! При этом в теории возникает частица с чисто мнимой массой, что есть полный нонсенс. Однако в 1981 году Александр Поляков из института Ландау предложил новый подход, при котором теория имеет смысл при любой размерности пространства-времени, однако при размерностях, отличных от критической размерности 26, в теории возникает так называемая аномалия — дополнительное поле («поле Лиувилля»), которое тоже необходимо проквантовать и совместить с основными полями. Поляков высказал блестящее предположение: на этом пути можно доказать, что наше пространство-время действительно четырехмерно! Аналогичным образом в так называемой суперсимметрической теории критической размерностью будет размерность 10.
Однако задача квантования теорий с аномалиями оказалась очень сложной, и физики ее забросили. Вместо этого было высказано радикальное предположение, что действительно пространство-время имеет размерность 10, просто остальные измерения настолько «маленькие», что мы их не видим! Тут сразу приходит в голову дореволюционный анекдот, когда какой-то господин что-то ищет под фонарем. К нему подходит городовой и спрашивает: «Что, ваше благородие, делаете?» Он отвечает: «Ищу пятиалтынный», и они оба ищут. Городовой спрашивает: «А где обронили?». Отвечает: «Обронил там, за углом, но ищу его здесь, потому что светло».
Возвращаясь к размерности 10, было предположено, что существует только одно многообразие, которое берет на себя все лишние шесть размерностей пространства-времени. Однако оказалось, что таких многообразий, геометры называют их многообразиями Калаби — Яу, существует очень много, порядка 10500. Это фантастическое число, больше, чем число атомов в наблюдаемой Вселенной!
Как из них выбрать одно многообразие, которое описывает нашу Вселенную?
Геометрам это все равно, им интересны все возможные многообразия, все «возможные миры», но физики ведь должны как-то выбрать одно, не правда ли?
Оказалось, что нет. Видимо, начитавшись в детстве третьесортной околонаучной фантастики, кто-то (я не знаю кто, может быть, у этой идеи есть автор) предложил теорию мультивселенных, теорию, что якобы действительно теория струн описывает все эти миры и мы живем в одном из них по чистой случайности. В каждом мире свои физические законы, наши — лишь случайность в океане возможных физических теорий. Ландау и Паули, классики и строгие цензоры квантовой теории, назвали бы это «патологией» или употребили бы более крепкое выражение. Наукой это назвать нельзя, термин «лженаука» испорчен в 50-е годы, поэтому можно называть «антинаука».
— Красивая же теория!
— Красивая, годится для псевдонаучного фантастического романа. А как физическая теория — это бред, по крайней мере, я так считаю.
С другой стороны, математика теории струн очень красивая, и сама теория, а точнее ее дальнейшее развитие и модификации (без мультивселенных), известные под названием «струнные революции», приводит ко множеству интересных новых результатов в геометрии, топологии, алгебраической геометрии и других областях. Математикам это очень нравится, и они доказывают эти результаты строгими методами своей науки. Есть ли там физический смысл или нет там этого смысла, их не интересует. И это правильно, так как математика изучает «мир идей», который включает в себя все, что было, есть и будет, и все, что вообще возможно. В 2013 году про мир идей я читал лекцию на полит.ру.
Что касается настоящих физиков-теоретиков, таких как Ландау, теории которых объясняют экспериментальные результаты и предсказывают новые, они к теории струн как «теории всего» и к теории мультивселенных относятся отрицательно.
— В интервью Сергей Петрович Новиков очень возмущался по этому поводу.
— Да, многие физики тоже очень резко относятся к происходящему. Потому что все это относится к физике высоких энергий, которая раньше считалась самой вершиной теоретической физики, которая действительно объясняла мир элементарных частиц. А теория струн, по словам ее критиков, ничего не объясняет и попутно придумывает еще что-то совсем уже бессмысленное.
— Хорошо, а какой тогда математической физикой стоит заниматься? Что имеет под собой реальную основу?
— Как мы говорили выше, математическая физика — это просто математика, как-то связанная или мотивированная физическими задачами. Поэтому можно заниматься чем угодно, лишь бы было интересно.
— Мне очень нравится высказывание Людвига Дмитриевича Фаддеева о том, что математика — это шестое чувство физики. Насколько вам созвучна такая идея?
— Это абсолютная правда. Он имел в виду, что математическая красота зачастую определяет правильность той или иной физической теории. Конечно, можно сослаться на эксперимент, но есть еще и некая красота формул, логическая согласованность формулировок и т. д. В каком-то смысле это все восходит к учению Пифагора и философии Платона.
Физики любят использовать такое понятие, как «физический смысл», и, например, представлять электроны как движущиеся частицы. При этом они прекрасно понимают, что «на самом деле» электрон можно описать только при помощи уравнения Дирака, то есть только как математический объект. И в этом смысле математика — шестое чувство физики. Здесь я полностью согласен.
— Математическая физика — очень сложное понятие, и каждый вкладывает в него разные вещи. Отвечая на этот вопрос, Людвиг Фаддеев написал статью «Что такое современная математическая физика» в «Трудах Математического института им. В. А. Стеклова» (том 226, 1999 год), которую я всем советую прочитать.
Сегодня математическая физика — это «синтетическая» область математики, состоящая из методов и приемов многих областей: теории дифференциальных уравнений в частных производных, функционального анализа, дифференциальной геометрии, алгебраической геометрии, топологии, квантовой теории поля и т. д. Сюда же отнесена «струнная математика» (математический аппарат, возникший вокруг теории струн — одной из фундаментальных теорий, согласно которой элементарные частицы, из которых состоит наш мир, не точки, а крошечные струны. — Прим. ред.). «Струнники» используют разную математику, и вся она в одном пакете тоже называется «Математическая физика».
— А что вкладываете в это понятие вы?
— Все перечисленное выше; более четкого определения я не знаю. В узком смысле для меня это приложение методов квантовой теории поля к задачам чистой математики, что дает большую дополнительную интуицию. Как, например, в XVIII и XIX веках главной интуицией в математике были классическая механика и классическая электродинамика. В наше время развитие квантовой механики и квантовой теории поля привело к массе интересных математических задач, которые до этого даже было неясно, как поставить.
— Что здесь кажется самым интересным?
— Когда можно применить методы квантовой теории поля и сформулировать получающиеся результаты или конструкции в чисто математических терминах. Так, например, из квантовой теории интегрируемых систем возникло понятие квантовых групп. Вообще, когда математики используют «подсказки» от физиков и получают чисто математический результат, они предпочитают отбрасывать все, что привело к его появлению, потому что им это не интересно. Таких примеров можно привести очень много. Самый яркий из них, конечно, теория струн. Это некая теория, которая может быть верна, а может и нет, но математикам это не важно, так как они решают интересные математические задачи, поставленные физиками. Последние, конечно, скажут, что они это уже решили, а математики просто «строго доказали».
— Обычно спрашивают, верите ли вы в теорию струн. Верите, что в основе мира лежит струна?
— Это не вопрос, верить или не верить, скорее надо спросить, описывает ли эта теория окружающий физический мир вокруг нас или нет. Здесь, конечно, мы считаем, что этот мир, «объективная реальность, данная нам в ощущениях», как меня учили в школе и в университете, существует. В этом смысле я считаю, что физический мир эта теория не описывает.
Но это действительно очень красивая идея, хотя и довольно примитивная. Мы берем и считаем, что вместо точек — элементарные частицы, это «пульсирующие маленькие колечки», струны. Движение точек — это линии, которые пересекаются довольно резко, а движение струн — двумерные поверхности, которые являются более гладкими. Но если это описывать формулами, то дальше все получается очень сложно.
В первоначальном подходе такая теория не противоречила специальной теории относительности, только если пространство-время имеет размерность не четыре, как привыкли мы (три пространственных измерения, отображаемых на координатной плоскости как x, y, z, и время. — Прим. ред.), а 26! При этом в теории возникает частица с чисто мнимой массой, что есть полный нонсенс. Однако в 1981 году Александр Поляков из института Ландау предложил новый подход, при котором теория имеет смысл при любой размерности пространства-времени, однако при размерностях, отличных от критической размерности 26, в теории возникает так называемая аномалия — дополнительное поле («поле Лиувилля»), которое тоже необходимо проквантовать и совместить с основными полями. Поляков высказал блестящее предположение: на этом пути можно доказать, что наше пространство-время действительно четырехмерно! Аналогичным образом в так называемой суперсимметрической теории критической размерностью будет размерность 10.
Однако задача квантования теорий с аномалиями оказалась очень сложной, и физики ее забросили. Вместо этого было высказано радикальное предположение, что действительно пространство-время имеет размерность 10, просто остальные измерения настолько «маленькие», что мы их не видим! Тут сразу приходит в голову дореволюционный анекдот, когда какой-то господин что-то ищет под фонарем. К нему подходит городовой и спрашивает: «Что, ваше благородие, делаете?» Он отвечает: «Ищу пятиалтынный», и они оба ищут. Городовой спрашивает: «А где обронили?». Отвечает: «Обронил там, за углом, но ищу его здесь, потому что светло».
Возвращаясь к размерности 10, было предположено, что существует только одно многообразие, которое берет на себя все лишние шесть размерностей пространства-времени. Однако оказалось, что таких многообразий, геометры называют их многообразиями Калаби — Яу, существует очень много, порядка 10500. Это фантастическое число, больше, чем число атомов в наблюдаемой Вселенной!
Как из них выбрать одно многообразие, которое описывает нашу Вселенную?
Геометрам это все равно, им интересны все возможные многообразия, все «возможные миры», но физики ведь должны как-то выбрать одно, не правда ли?
Оказалось, что нет. Видимо, начитавшись в детстве третьесортной околонаучной фантастики, кто-то (я не знаю кто, может быть, у этой идеи есть автор) предложил теорию мультивселенных, теорию, что якобы действительно теория струн описывает все эти миры и мы живем в одном из них по чистой случайности. В каждом мире свои физические законы, наши — лишь случайность в океане возможных физических теорий. Ландау и Паули, классики и строгие цензоры квантовой теории, назвали бы это «патологией» или употребили бы более крепкое выражение. Наукой это назвать нельзя, термин «лженаука» испорчен в 50-е годы, поэтому можно называть «антинаука».
— Красивая же теория!
— Красивая, годится для псевдонаучного фантастического романа. А как физическая теория — это бред, по крайней мере, я так считаю.
С другой стороны, математика теории струн очень красивая, и сама теория, а точнее ее дальнейшее развитие и модификации (без мультивселенных), известные под названием «струнные революции», приводит ко множеству интересных новых результатов в геометрии, топологии, алгебраической геометрии и других областях. Математикам это очень нравится, и они доказывают эти результаты строгими методами своей науки. Есть ли там физический смысл или нет там этого смысла, их не интересует. И это правильно, так как математика изучает «мир идей», который включает в себя все, что было, есть и будет, и все, что вообще возможно. В 2013 году про мир идей я читал лекцию на полит.ру.
Что касается настоящих физиков-теоретиков, таких как Ландау, теории которых объясняют экспериментальные результаты и предсказывают новые, они к теории струн как «теории всего» и к теории мультивселенных относятся отрицательно.
— В интервью Сергей Петрович Новиков очень возмущался по этому поводу.
— Да, многие физики тоже очень резко относятся к происходящему. Потому что все это относится к физике высоких энергий, которая раньше считалась самой вершиной теоретической физики, которая действительно объясняла мир элементарных частиц. А теория струн, по словам ее критиков, ничего не объясняет и попутно придумывает еще что-то совсем уже бессмысленное.
— Хорошо, а какой тогда математической физикой стоит заниматься? Что имеет под собой реальную основу?
— Как мы говорили выше, математическая физика — это просто математика, как-то связанная или мотивированная физическими задачами. Поэтому можно заниматься чем угодно, лишь бы было интересно.
— Мне очень нравится высказывание Людвига Дмитриевича Фаддеева о том, что математика — это шестое чувство физики. Насколько вам созвучна такая идея?
— Это абсолютная правда. Он имел в виду, что математическая красота зачастую определяет правильность той или иной физической теории. Конечно, можно сослаться на эксперимент, но есть еще и некая красота формул, логическая согласованность формулировок и т. д. В каком-то смысле это все восходит к учению Пифагора и философии Платона.
Физики любят использовать такое понятие, как «физический смысл», и, например, представлять электроны как движущиеся частицы. При этом они прекрасно понимают, что «на самом деле» электрон можно описать только при помощи уравнения Дирака, то есть только как математический объект. И в этом смысле математика — шестое чувство физики. Здесь я полностью согласен.
Математическая пирамида
— Почему вы для работы выбрали именно Stony Brook University?
— Как и многие мои друзья и хорошие знакомые, я понимал: чтобы иметь возможность продолжать занятия математикой, надо работать за рубежом, так как вместе с Советским Союзом распался и наш математический мир. Стоуни-Брук — это университет штата Нью-Йорк, расположенный на живописном северном побережье Лонг-Айленда, где-то в 100 километрах от города Нью-Йорка. По американским меркам это очень молодой университет, основан 60 лет тому назад; математический и физический факультеты здесь пользуются всемирной известностью. Первым деканом математического факультета (1968—1978) был Джеймс Саймонс, известный специалист в дифференциальной геометрии, впоследствии основатель очень успешного хедж-фонда, миллиардер и филантроп. Он пригласил на работу весь цвет дифференциальной геометрии, включая приехавшего из Ленинграда Михаила Громова. Здесь же работали известные специалисты по теории Тейхмюллера и дискретным группам Ирвин Кра и Бернард Маскит и много других очень известных людей. Примерно в это же время при физическом факультете был создан Институт теоретической физики, и директором пригласили Чженьнин Янга, знаменитого физика-теоретика, самого молодого нобелевского лауреата (получил премию в 35 лет за опровержение так называемого «закона сохранения четности» — одного из двух опровергнутых фундаментальных законов сохранения. — Прим. ред.).
Янг дружил с Фаддеевым и хорошо знал наши с ним работы по квантовым интегрируемым системам (мы с Фаддеевым даже предложили термин «уравнение Янга — Бакстера»), а Кра и Маскит — мои работы с Петром Зографом о проблеме акцессорных параметров Пуанкаре, действии Лиувилля и метрике Вейля — Петерссона на пространствах Тейхмюллера. Во время моего трехнедельного визита в США в 1987 году я рассказывал про это Ирвину Кра и Липману Берсу, классику теории Тейхмюллера. Позже они меня пригласили работать в Стоуни-Бруке, и я согласился. Математический факультет здесь один из лучших в мире; так, в Стоуни-Бруке работает Джон Милнор — один из самых великих математиков XX века.
— Исход математиков из СССР и Восточной Европы в 90-е сравнивают с тем, что происходило перед Второй мировой войной, когда в Америку бежали ученые из Германии. Тогда интеллектуальный взрыв произошел просто потому, что вместе оказалось собрано большое количество топовых ученых.
— Это правда, хотя, может быть, из Советского Союза приезжих ученых было меньше, чем из других стран. Фаддеев показывал мне одно исследование РАН, где было показано, что из СССР уехало порядка 300 ведущих математиков. Но зато, по оценкам уже американских социологов, эти несколько сотен людей изменили математическую культуру в Америке.
— Каким образом?
— К концу 80-х годов в США была очень спокойная и размеренная научная жизнь. Здесь были и есть свои великие математики, но бум, возникший после массового переезда ученых перед и после Второй мировой войны, закончился. А в 90-е годы он возник заново, появилась конкуренция, самим американцам стало сложнее получить работу, несмотря на то что в университетах уже давно было много китайцев. Изменился и ритм научной жизни, стиль публикаций, конференций и т. д.
— В некоторых американских университетах сегодня существуют негласные квоты на прием китайских студентов.
— Например в Гарварде или в Принстоне есть квоты на всё, правда, какие именно — никто не знает, это засекречено. Но, как мне кажется, для приема в аспирантуру по математике квот нет, и поэтому там много китайцев. У нас на факультете примерно треть или половина всех аспирантов — это китайские студенты.
— Давайте предположим, что из России одномоментно уехало 300 топовых математиков. А сколько стране нужно ученых такого класса? В одном из интервью академик Александр Петрович Кулешов назвал цифру в 100 человек.
— Ну, конкретную цифру я бы не стал называть. На самом деле фундаментальную роль играет базовый уровень математического образования в школах и университетах. То есть необходимо, чтобы были не только великие математики и их знаменитые результаты, но и чтобы в стране был высокий уровень математической культуры и грамотности. А для этого должна быть выстроена такая своеобразная пирамида. На самом верху там должны находиться ученые мирового уровня, работающие в ведущих университетах и в Академии наук; на их место со временем приходят их самые сильные и талантливые ученики. На следующем уровне — тоже очень сильные ученики, они идут работать не на математические факультеты ведущих университетов или в Академию наук, а на кафедры высшей математики в университетах и институтах по всей стране. Это необходимо для подготовки квалифицированных программистов, инженеров, конструкторов, дизайнеров для промышленности, а также и для обороны. В основании этой пирамиды находятся квалифицированные учителя математики в школах по всей стране. Их задача — подготовить математически грамотных студентов университетов и институтов, из которых выйдут новые великие ученые в вершине пирамиды, и так далее по кругу.
Если этот принцип нарушить, то система математического образования рухнет. Не может вся математика в стране, основа для подготовки современных квалифицированных кадров, держаться на нескольких ведущих ученых, пусть и мирового уровня.
— Где-то такая система существует?
— Она была в Германии в конце XIX века и прекрасно работала. Бисмарку приписывается знаменитая фраза, что Франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель (в действительности чуть по другому поводу это произнес современник Бисмарка, профессор Лейпцигского университета Оскар Пешель). Тогда математический уровень немецких университетов действительно был лучшим в мире. Советская система образования начиная с 30-х годов была построена как раз по этому старинному немецкому образцу. Во всех вузах страны были кафедры высшей математики, там на высоком уровне работали очень профессиональные преподаватели, которые готовили квалифицированных специалистов.
— В июле этого года в Санкт-Петербурге пройдет одно из самых значимых научных событий — Международный конгресс математиков1. Хочется верить, что это послужит каким-то важным стимулом для развития.
— Бесспорно, это будет важно не только для Петербурга, но и вообще для всей российской математики, особенно для молодежи. Это даст колоссальный заряд энергии для отечественной науки.
— Вы были докладчиком в Варшаве. Как вы узнали о том, что вас выбрали для чтения доклада?
— Докладчиков выбирает комитет, и, конечно, это бывает неожиданно и очень волнительно. В моем случае это еще накладывалось на интересную общую историческую канву. В 1962 году конгресс проходил в Стокгольме. Туда СССР неожиданно послал делегацию из очень молодых математиков — тому же Людвигу Фаддееву и Владимиру Арнольду не было еще и 30 лет. В Швеции они познакомились с очень многими учеными, завязали связи, так что это было очень интересно и важно. Потом был конгресс в Москве, куда приехало много знаменитых западных математиков, и это было замечательно, потому что тогда огромное количество людей вообще впервые в жизни смогли увидеть и пообщаться с живыми математиками из-за рубежа.
Потом, соответственно, были конгрессы в Ницце, Хельсинки и Ванкувере, где наших ученых практически не было. И вдруг после десятилетия на конгресс в Варшаве решают послать советскую делегацию из 300 человек! Для этого из Москвы в Варшаву был пущен специальный поезд, который перевозил только участников конгресса.
— В рамках нацпроекта «Наука» было объявлено о том, что в России заработают пять математических центров мирового уровня. Сейчас работает четыре, один — на базе математического института Эйлера, к созданию которого вы имеете непосредственное отношение. Как этот центр существует сегодня?
— Все эти центры устроены примерно по одному принципу и формату. Эти центры должны быть весьма большими, то есть там должно быть порядка 100 человек, должны проводить научные программы и организовывать конференции. Изначально мы: Фаддеев, Самсон Шаташвили и я — хотели создать на базе института Эйлера небольшой «элитный» институт типа Института высших исследований в Принстоне. Мы активно работали над этим в 2012—2013 годах, но после известной реформы Российской академии наук этот проект был отставлен. Вместо него появился проект математических научных центров, который был реализован, если мне не изменяет память, в 2018—2019 годах. Интересно, что план работы, который мы тогда составили, программы, конференции, постдоки и т. д., сейчас активно воплощается в работе института Эйлера.
— Как у вас устроена математическая жизнь сейчас? Сколько времени вы проводите за компьютером, а сколько — с блокнотом в руках? Нужны ли вам, как некоторым математикам, многочасовые прогулки?
— За компьютером, к сожалению, проводишь больше времени, чем за бумагой. Хотя я предпочитаю сначала всё писать авторучкой, а потом уже делать файл.
Во время пандемии математическая жизнь у нас на факультете выглядела странно. Полтора года все семинары и доклады были только по зуму, а я это очень не люблю. Сейчас становится лучше, но еще не так, как до пандемии, когда были доклады, семинары, конференции, много общения с коллегами и друзьями.
— Математика развивается в общении?
— Знаете, многие считают, что математика — это общественная наука, что математики все время беседуют в коридорах, пьют кофе, пишут мелом на досках и в этом общении рождаются идеи. Конечно, люди всегда общаются, но это все равно что сказать, что живопись — общественный вид искусства.
Я так не считаю. Конечно, есть работы с соавторами, общение, обсуждение, но все равно в конце ты остаешься наедине с самим собой.
— Удается ли вам читать что-то интересное? Можете ли вы посоветовать что-то из художественной литературы?
— В 2013 году я давал интервью Наталии Деминой на полит.ру про книги, оно называлось «Гоголь — непонятный и загадочный». Гоголь — мой любимый писатель; в том интервью много о чем было рассказано.
— Почему среди математиков так много ценителей классической музыки?
— Математики — это те же художники и музыканты, как мы уже говорили. Вообще, математики любят не только классическую музыку; например, я знаю поклонников «Лед Зеппелин» и «Дип Перпл», а очень известный немецкий математик Питер Шольце — фанат «Пинк Флойда». Он придумал новый тип когомологий и назвал его «призматические когомологии» в честь альбома «Пинк Флойд» «Обратная сторона Луны», где изображена призма. Я, например, фанат «Битлз»; сейчас мне досталась большая коллекция пластинок с барочной музыкой, и я с большим удовольствием слушаю сочинения Альбинони, Монтеверди, Палестрины, Перселла, Куперена. Бах — это ведь тоже музыка эпохи барокко!
— Как и многие мои друзья и хорошие знакомые, я понимал: чтобы иметь возможность продолжать занятия математикой, надо работать за рубежом, так как вместе с Советским Союзом распался и наш математический мир. Стоуни-Брук — это университет штата Нью-Йорк, расположенный на живописном северном побережье Лонг-Айленда, где-то в 100 километрах от города Нью-Йорка. По американским меркам это очень молодой университет, основан 60 лет тому назад; математический и физический факультеты здесь пользуются всемирной известностью. Первым деканом математического факультета (1968—1978) был Джеймс Саймонс, известный специалист в дифференциальной геометрии, впоследствии основатель очень успешного хедж-фонда, миллиардер и филантроп. Он пригласил на работу весь цвет дифференциальной геометрии, включая приехавшего из Ленинграда Михаила Громова. Здесь же работали известные специалисты по теории Тейхмюллера и дискретным группам Ирвин Кра и Бернард Маскит и много других очень известных людей. Примерно в это же время при физическом факультете был создан Институт теоретической физики, и директором пригласили Чженьнин Янга, знаменитого физика-теоретика, самого молодого нобелевского лауреата (получил премию в 35 лет за опровержение так называемого «закона сохранения четности» — одного из двух опровергнутых фундаментальных законов сохранения. — Прим. ред.).
Янг дружил с Фаддеевым и хорошо знал наши с ним работы по квантовым интегрируемым системам (мы с Фаддеевым даже предложили термин «уравнение Янга — Бакстера»), а Кра и Маскит — мои работы с Петром Зографом о проблеме акцессорных параметров Пуанкаре, действии Лиувилля и метрике Вейля — Петерссона на пространствах Тейхмюллера. Во время моего трехнедельного визита в США в 1987 году я рассказывал про это Ирвину Кра и Липману Берсу, классику теории Тейхмюллера. Позже они меня пригласили работать в Стоуни-Бруке, и я согласился. Математический факультет здесь один из лучших в мире; так, в Стоуни-Бруке работает Джон Милнор — один из самых великих математиков XX века.
— Исход математиков из СССР и Восточной Европы в 90-е сравнивают с тем, что происходило перед Второй мировой войной, когда в Америку бежали ученые из Германии. Тогда интеллектуальный взрыв произошел просто потому, что вместе оказалось собрано большое количество топовых ученых.
— Это правда, хотя, может быть, из Советского Союза приезжих ученых было меньше, чем из других стран. Фаддеев показывал мне одно исследование РАН, где было показано, что из СССР уехало порядка 300 ведущих математиков. Но зато, по оценкам уже американских социологов, эти несколько сотен людей изменили математическую культуру в Америке.
— Каким образом?
— К концу 80-х годов в США была очень спокойная и размеренная научная жизнь. Здесь были и есть свои великие математики, но бум, возникший после массового переезда ученых перед и после Второй мировой войны, закончился. А в 90-е годы он возник заново, появилась конкуренция, самим американцам стало сложнее получить работу, несмотря на то что в университетах уже давно было много китайцев. Изменился и ритм научной жизни, стиль публикаций, конференций и т. д.
— В некоторых американских университетах сегодня существуют негласные квоты на прием китайских студентов.
— Например в Гарварде или в Принстоне есть квоты на всё, правда, какие именно — никто не знает, это засекречено. Но, как мне кажется, для приема в аспирантуру по математике квот нет, и поэтому там много китайцев. У нас на факультете примерно треть или половина всех аспирантов — это китайские студенты.
— Давайте предположим, что из России одномоментно уехало 300 топовых математиков. А сколько стране нужно ученых такого класса? В одном из интервью академик Александр Петрович Кулешов назвал цифру в 100 человек.
— Ну, конкретную цифру я бы не стал называть. На самом деле фундаментальную роль играет базовый уровень математического образования в школах и университетах. То есть необходимо, чтобы были не только великие математики и их знаменитые результаты, но и чтобы в стране был высокий уровень математической культуры и грамотности. А для этого должна быть выстроена такая своеобразная пирамида. На самом верху там должны находиться ученые мирового уровня, работающие в ведущих университетах и в Академии наук; на их место со временем приходят их самые сильные и талантливые ученики. На следующем уровне — тоже очень сильные ученики, они идут работать не на математические факультеты ведущих университетов или в Академию наук, а на кафедры высшей математики в университетах и институтах по всей стране. Это необходимо для подготовки квалифицированных программистов, инженеров, конструкторов, дизайнеров для промышленности, а также и для обороны. В основании этой пирамиды находятся квалифицированные учителя математики в школах по всей стране. Их задача — подготовить математически грамотных студентов университетов и институтов, из которых выйдут новые великие ученые в вершине пирамиды, и так далее по кругу.
Если этот принцип нарушить, то система математического образования рухнет. Не может вся математика в стране, основа для подготовки современных квалифицированных кадров, держаться на нескольких ведущих ученых, пусть и мирового уровня.
— Где-то такая система существует?
— Она была в Германии в конце XIX века и прекрасно работала. Бисмарку приписывается знаменитая фраза, что Франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель (в действительности чуть по другому поводу это произнес современник Бисмарка, профессор Лейпцигского университета Оскар Пешель). Тогда математический уровень немецких университетов действительно был лучшим в мире. Советская система образования начиная с 30-х годов была построена как раз по этому старинному немецкому образцу. Во всех вузах страны были кафедры высшей математики, там на высоком уровне работали очень профессиональные преподаватели, которые готовили квалифицированных специалистов.
— В июле этого года в Санкт-Петербурге пройдет одно из самых значимых научных событий — Международный конгресс математиков1. Хочется верить, что это послужит каким-то важным стимулом для развития.
— Бесспорно, это будет важно не только для Петербурга, но и вообще для всей российской математики, особенно для молодежи. Это даст колоссальный заряд энергии для отечественной науки.
— Вы были докладчиком в Варшаве. Как вы узнали о том, что вас выбрали для чтения доклада?
— Докладчиков выбирает комитет, и, конечно, это бывает неожиданно и очень волнительно. В моем случае это еще накладывалось на интересную общую историческую канву. В 1962 году конгресс проходил в Стокгольме. Туда СССР неожиданно послал делегацию из очень молодых математиков — тому же Людвигу Фаддееву и Владимиру Арнольду не было еще и 30 лет. В Швеции они познакомились с очень многими учеными, завязали связи, так что это было очень интересно и важно. Потом был конгресс в Москве, куда приехало много знаменитых западных математиков, и это было замечательно, потому что тогда огромное количество людей вообще впервые в жизни смогли увидеть и пообщаться с живыми математиками из-за рубежа.
Потом, соответственно, были конгрессы в Ницце, Хельсинки и Ванкувере, где наших ученых практически не было. И вдруг после десятилетия на конгресс в Варшаве решают послать советскую делегацию из 300 человек! Для этого из Москвы в Варшаву был пущен специальный поезд, который перевозил только участников конгресса.
— В рамках нацпроекта «Наука» было объявлено о том, что в России заработают пять математических центров мирового уровня. Сейчас работает четыре, один — на базе математического института Эйлера, к созданию которого вы имеете непосредственное отношение. Как этот центр существует сегодня?
— Все эти центры устроены примерно по одному принципу и формату. Эти центры должны быть весьма большими, то есть там должно быть порядка 100 человек, должны проводить научные программы и организовывать конференции. Изначально мы: Фаддеев, Самсон Шаташвили и я — хотели создать на базе института Эйлера небольшой «элитный» институт типа Института высших исследований в Принстоне. Мы активно работали над этим в 2012—2013 годах, но после известной реформы Российской академии наук этот проект был отставлен. Вместо него появился проект математических научных центров, который был реализован, если мне не изменяет память, в 2018—2019 годах. Интересно, что план работы, который мы тогда составили, программы, конференции, постдоки и т. д., сейчас активно воплощается в работе института Эйлера.
— Как у вас устроена математическая жизнь сейчас? Сколько времени вы проводите за компьютером, а сколько — с блокнотом в руках? Нужны ли вам, как некоторым математикам, многочасовые прогулки?
— За компьютером, к сожалению, проводишь больше времени, чем за бумагой. Хотя я предпочитаю сначала всё писать авторучкой, а потом уже делать файл.
Во время пандемии математическая жизнь у нас на факультете выглядела странно. Полтора года все семинары и доклады были только по зуму, а я это очень не люблю. Сейчас становится лучше, но еще не так, как до пандемии, когда были доклады, семинары, конференции, много общения с коллегами и друзьями.
— Математика развивается в общении?
— Знаете, многие считают, что математика — это общественная наука, что математики все время беседуют в коридорах, пьют кофе, пишут мелом на досках и в этом общении рождаются идеи. Конечно, люди всегда общаются, но это все равно что сказать, что живопись — общественный вид искусства.
Я так не считаю. Конечно, есть работы с соавторами, общение, обсуждение, но все равно в конце ты остаешься наедине с самим собой.
— Удается ли вам читать что-то интересное? Можете ли вы посоветовать что-то из художественной литературы?
— В 2013 году я давал интервью Наталии Деминой на полит.ру про книги, оно называлось «Гоголь — непонятный и загадочный». Гоголь — мой любимый писатель; в том интервью много о чем было рассказано.
— Почему среди математиков так много ценителей классической музыки?
— Математики — это те же художники и музыканты, как мы уже говорили. Вообще, математики любят не только классическую музыку; например, я знаю поклонников «Лед Зеппелин» и «Дип Перпл», а очень известный немецкий математик Питер Шольце — фанат «Пинк Флойда». Он придумал новый тип когомологий и назвал его «призматические когомологии» в честь альбома «Пинк Флойд» «Обратная сторона Луны», где изображена призма. Я, например, фанат «Битлз»; сейчас мне досталась большая коллекция пластинок с барочной музыкой, и я с большим удовольствием слушаю сочинения Альбинони, Монтеверди, Палестрины, Перселла, Куперена. Бах — это ведь тоже музыка эпохи барокко!
Интервью опубликовано на интернет-портале kommersant.ru 31 мая 2022 года.