Михаил Цфасман
О математике, культуре и жизни
Беседовал Михаил Гельфанд
Фото Евгения Гурко
Фото Евгения Гурко
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ЦФАСМАН — доктор физико- математических наук, заведующий сектором алгебры и теории чисел Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН), проректор по научной работе и профессор Независимого московского университета, ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Обладатель наград: Вторая премия на Международной математической олимпиаде; Премия IEEE за лучшую работу по теории информации; кавалер французского ордена Академических пальмовых ветвей «За вклад во французскую культуру».
— Есть два стандартных вопроса, которые задают все плохие журналисты. Я с них и начну.
— «Еврей ли вы?» и «Почему в продаже нет животного масла?»
— Эти вопросы задают не журналисты, а публика на лекциях пророку Самуилу. Первый: над чем вы сейчас работаете?
— Я сейчас занимаюсь большим количеством разной ерунды, из которой к науке в том или ином смысле относится то, что мы с Сережей Влэдуцем и Митей Ногиным мучительно дописываем второй том нашей книжки, продолжение книги «Алгеброгеометрические коды». Первый называется «Алгеброгеометрические коды: основные понятия». Если начать его листать, то там на каждой второй странице сказано: «Об этом мы поговорим в книге „Алгеброгеометрические коды: дополнительные главы“». И вот эти дополнительные главы мы пишем уже лет десять.
— Это новая наука или это описание науки, которая уже существует?
— Писание книги — это не наука, это специфическая педагогика. Это попытка объяснить что-то ученому, который, может быть, и сильнее автора, но немного в другой области; либо ему нужны какие-то конкретные вещи. Примерно с теми же педагогическими целями мне хочется написать сейчас несколько обзоров по близким мне тематикам. А из задач, относящихся собственно к математике… У меня есть одна идея, которую я последние годы пытаюсь с разной степенью интенсивности обдумывать. Не обещаю, что будет понятно.
Та область математики, которая меня интересует больше всего, — это то, что некоторые называют арифметической геометрией. Я это называю менее красиво, но зато более ясно: связи и аналогии между теорией чисел и алгебраической геометрией. Эта наука возникла в начале XX века и очень сильно продвинулась в 1950—60-е годы и позже: например, на этом пути была доказана теорема Ферма. Если махать руками и давать общие ощущения, это возможность посмотреть на целые числа как на геометрический объект. У целых чисел есть своя, очень непростая, геометрия, которая очень похожа на геометрию кривых над конечными полями. В этой большой области, которой занимается очень много народу, есть одно направление, которое мне особенно дорого. У кривой есть такой параметр, род. У сферы это 0; у тора, который поверхность бублика, — 1; у кренделя — 2 и т. д. — по количеству дырок.
— Это честные поверхности в трехмерном пространстве, без бутылки Клейна?
— Да, это честные ориентированные поверхности без бутылки Клейна. Оказывается, что понятие рода есть и в алгеброгеометрической ситуации, но там оно иначе определяется. Меня интересует, что происходит, когда род стремится к бесконечности, и, особенно, какой бесконечный объект этому соответствует. Вот мы взяли, например, обычный крендель, потом сверху повесили штуковину с большим количеством дырок и по этой бесконечной башне перешли к пределу. Что в итоге получится?
— Ну как же, мы получим гностическую философию.
— Видимо, да. Грубая идея такая: вместо того чтобы работать с уже известными нам объектами, а потом увеличивать какой-то из их параметров (в данном случае род), мне бы хотелось работать сразу на бесконечном уровне.
У пространства, например, бывает размерность (у обычного пространства это 3, у плоскости — 2). Если в нем лежит какое-то подпространство, например прямая в трехмерном пространстве, то можно сказать, что у прямой размерность 1, а у пространства 3, то есть размерность прямой — треть от размерности пространства. Пусть теперь пространство бесконечномерно и подпространство в нем тоже бесконечномерно. Ясно, что про их размерности сверх этого ничего не скажешь. Но бывают ситуации, когда очень хочется сказать, что размерность подпространства — это половина или треть от размерности всего пространства. И та и другая размерность бесконечны, а отношения этих двух величин конечны. Как это четко сказать, как сформулировать?
— Пространство функций на единичном отрезке и пространство функций, которые тождественно равны нулю на полуотрезке от половины до единицы, — размерность второго — это не половина размерности первого?
— Совершенно верно, это один из примеров. Или мы потребуем, чтобы значения первой половины отрезка совпадали со значениями во второй со сдвигом. Это ясныепримеры. Но существует очень много неясных примеров.
И существуют ситуации, когда эту размерность заведомо нельзя определить. То же самое мне хочется сделать для алгебраических кривых и числовых полей. Это бесконечная теория, которой не существует, но к которой существуют подходы, связанные с нашими работами. У меня есть любимая работа — она хуже цитируется, чем те работы, которые я почитаю малоинтересными, потому что она трудная. Этой работе 12—13 лет, но мне кажется, что смысл тех результатов, которые там получены, мы до сих не понимаем. Мне бы очень хотелось понять.
— Второй стандартный вопрос, который задают плохие журналисты: какие у этого практические применения?
— Главная польза в том, что человечество станет умнее.
— «Еврей ли вы?» и «Почему в продаже нет животного масла?»
— Эти вопросы задают не журналисты, а публика на лекциях пророку Самуилу. Первый: над чем вы сейчас работаете?
— Я сейчас занимаюсь большим количеством разной ерунды, из которой к науке в том или ином смысле относится то, что мы с Сережей Влэдуцем и Митей Ногиным мучительно дописываем второй том нашей книжки, продолжение книги «Алгеброгеометрические коды». Первый называется «Алгеброгеометрические коды: основные понятия». Если начать его листать, то там на каждой второй странице сказано: «Об этом мы поговорим в книге „Алгеброгеометрические коды: дополнительные главы“». И вот эти дополнительные главы мы пишем уже лет десять.
— Это новая наука или это описание науки, которая уже существует?
— Писание книги — это не наука, это специфическая педагогика. Это попытка объяснить что-то ученому, который, может быть, и сильнее автора, но немного в другой области; либо ему нужны какие-то конкретные вещи. Примерно с теми же педагогическими целями мне хочется написать сейчас несколько обзоров по близким мне тематикам. А из задач, относящихся собственно к математике… У меня есть одна идея, которую я последние годы пытаюсь с разной степенью интенсивности обдумывать. Не обещаю, что будет понятно.
Та область математики, которая меня интересует больше всего, — это то, что некоторые называют арифметической геометрией. Я это называю менее красиво, но зато более ясно: связи и аналогии между теорией чисел и алгебраической геометрией. Эта наука возникла в начале XX века и очень сильно продвинулась в 1950—60-е годы и позже: например, на этом пути была доказана теорема Ферма. Если махать руками и давать общие ощущения, это возможность посмотреть на целые числа как на геометрический объект. У целых чисел есть своя, очень непростая, геометрия, которая очень похожа на геометрию кривых над конечными полями. В этой большой области, которой занимается очень много народу, есть одно направление, которое мне особенно дорого. У кривой есть такой параметр, род. У сферы это 0; у тора, который поверхность бублика, — 1; у кренделя — 2 и т. д. — по количеству дырок.
— Это честные поверхности в трехмерном пространстве, без бутылки Клейна?
— Да, это честные ориентированные поверхности без бутылки Клейна. Оказывается, что понятие рода есть и в алгеброгеометрической ситуации, но там оно иначе определяется. Меня интересует, что происходит, когда род стремится к бесконечности, и, особенно, какой бесконечный объект этому соответствует. Вот мы взяли, например, обычный крендель, потом сверху повесили штуковину с большим количеством дырок и по этой бесконечной башне перешли к пределу. Что в итоге получится?
— Ну как же, мы получим гностическую философию.
— Видимо, да. Грубая идея такая: вместо того чтобы работать с уже известными нам объектами, а потом увеличивать какой-то из их параметров (в данном случае род), мне бы хотелось работать сразу на бесконечном уровне.
У пространства, например, бывает размерность (у обычного пространства это 3, у плоскости — 2). Если в нем лежит какое-то подпространство, например прямая в трехмерном пространстве, то можно сказать, что у прямой размерность 1, а у пространства 3, то есть размерность прямой — треть от размерности пространства. Пусть теперь пространство бесконечномерно и подпространство в нем тоже бесконечномерно. Ясно, что про их размерности сверх этого ничего не скажешь. Но бывают ситуации, когда очень хочется сказать, что размерность подпространства — это половина или треть от размерности всего пространства. И та и другая размерность бесконечны, а отношения этих двух величин конечны. Как это четко сказать, как сформулировать?
— Пространство функций на единичном отрезке и пространство функций, которые тождественно равны нулю на полуотрезке от половины до единицы, — размерность второго — это не половина размерности первого?
— Совершенно верно, это один из примеров. Или мы потребуем, чтобы значения первой половины отрезка совпадали со значениями во второй со сдвигом. Это ясныепримеры. Но существует очень много неясных примеров.
И существуют ситуации, когда эту размерность заведомо нельзя определить. То же самое мне хочется сделать для алгебраических кривых и числовых полей. Это бесконечная теория, которой не существует, но к которой существуют подходы, связанные с нашими работами. У меня есть любимая работа — она хуже цитируется, чем те работы, которые я почитаю малоинтересными, потому что она трудная. Этой работе 12—13 лет, но мне кажется, что смысл тех результатов, которые там получены, мы до сих не понимаем. Мне бы очень хотелось понять.
— Второй стандартный вопрос, который задают плохие журналисты: какие у этого практические применения?
— Главная польза в том, что человечество станет умнее.
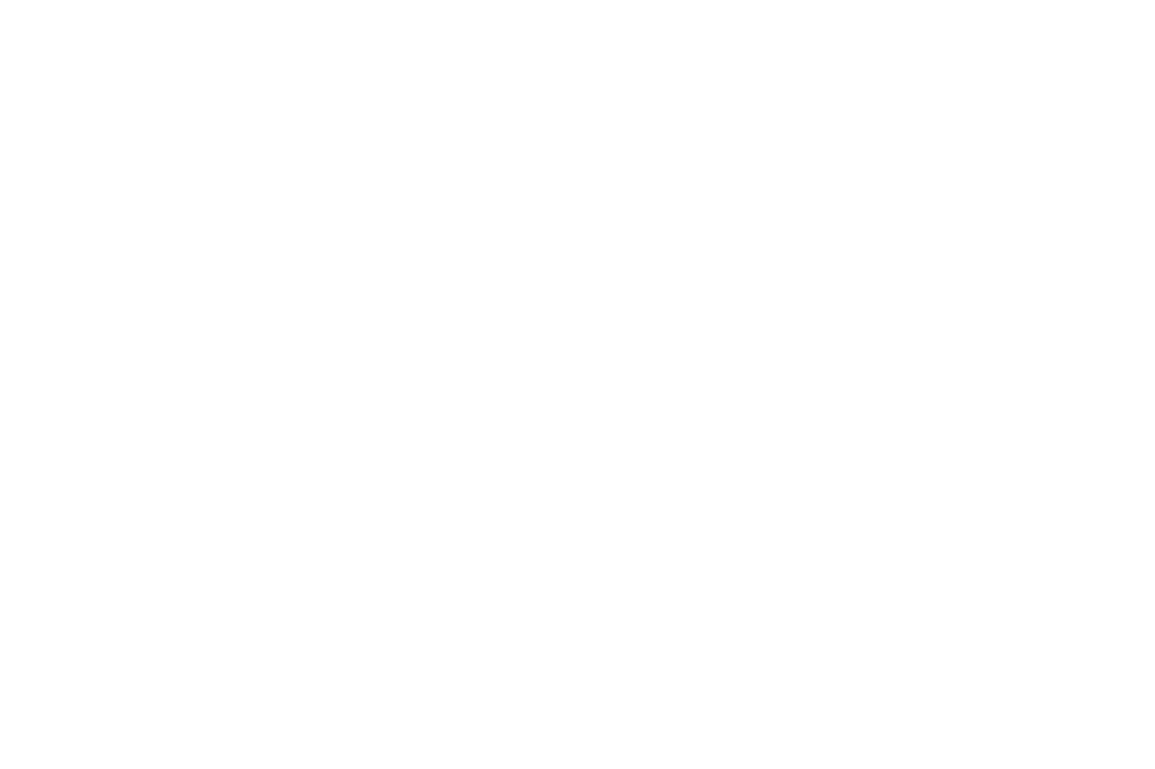
— Сколько человек в состоянии понять, что там написано, — какая это доля от человечества?
— Сколько человек станет умнее — это один вопрос, а то, что человечество станет в целом умнее, — это совершенно другой вопрос.
Математические идеи устроены следующим образом. Человек пишет статью. Наш коллега Сеня Шлосман (С. Б. Шлосман, сотрудник ИППИ РАН. — Прим. ред.) мне как-то сказал: «Статьи мы пишем не для того, чтобы их читали (ясно же, что никто их читать не будет), а для того, чтобы самому быть уверенным в том, что то, что там написано, — правильно». Но мне все-таки кажется, что, если статью не прочитал ни один человек, эта деятельность потеряна для человечества. Неизвестно, сколько человек эти работы прочли, но известно, сколько процитировали. Самую популярную мою работу процитировали около 500 раз, для математики это много. А эту — самую, с моей точки зрения, значительную — около 50. Это те люди, которые использовали ее в своей работе.
— С другой стороны, не все, кто цитировал эту статью, ее читали.
— Куски читали. Но это не значит, что читали целиком, и не значит, что все поняли. Я считаю, что в моей области хорошее цитирование — это человек 20. И особенно приятно, когда другой хороший ученый делает что-то, что без твоей работы было бы невозможно.
— Вы все время сбиваетесь на цитирование, а я-то как раз не собирался про это разговаривать, потому что совершенно ясно, что эта мера к математике прилагается очень криво и, в общем, смысла не имеет. Можно случайно написать статью с биологами и убить цитированиями всех знакомых математиков просто наповал. Или все-таки математики меряются цитированиями?
— Всерьез, конечно, нет. Цитирование — вещь полезная в отрицательном смысле. Если есть какой-то математик, которого за всю жизнь никто не процитировал, то это, скорее всего, свидетельствует о его уровне. Если мы смотрим на цитирование института, там еще лучше. Если на 300 ученых за год три цитирования, то это о чем-то говорит. А вот если у института в год тысяча или 10 тысяч цитирований, разница не говорит абсолютно ни о чем.
— А между сотней и тысячей?
— От области зависит. Возвращаясь к вопросу, сколько человек это прочтет. Может быть, 50, может, 200, может, 500 — в зависимости от того, что получится. Их количество невелико. Но у человечества существует некая ноосфера, и в нее мы что-то вкладываем. Это одна польза. Вторая польза — это польза от культурной деятельности вообще. Происходит она циклическими кругами: один человек прочел и что-то придумал, другой человек прочел и что-то понял, третий об этом рассказал. Это такое культурное влияние, как то, что происходило до тех пор, пока не рухнула советская власть. Она так и рухнула: разговаривали люди на кухне потихонечку…
— Есть точка зрения, что она рухнула, потому что, с одной стороны, упали цены на нефть, а с другой — Рейган устроил «звездные войны», и что это была чистая провокация…
— ...В результате которой военный бюджет Союза превысил государственный.
— Да, а вовсе не потому, что разговаривали на кухне.
— Видимо, верно и то и другое. Это такое культурное влияние науки. И есть третья причина, зачем все это нужно: вот я, например, что-то придумал, другие математики что-то придумали — через пять-шесть итераций это дошло до инженеров. Такого рода вещь есть в моей биографии.
Вот я что-то говорю, а слушатель что-то понимает. Казалось бы, этого происходить не должно: у меня не очень четкая дикция, одновременно шум в коридоре, еще что-то. Если бы я выдавал просто некую последовательность звуков, а ты бы ее записывал, вряд ли бы записал адекватно. А понимаем мы потому, что в языке есть избыточность. Таким же образом опечатки в тексте, как правило, не меняют смысл на противоположный, и можно из контекста или просто зная русский словарь восстановить смысл. Такого же рода избыточность можно создавать искусственно: это называется коды, исправляющие ошибки, они же корректирующие коды. Есть математическая теория таких кодов, которая запаяна в каждый компьютер или телефон. В 1980-е годы я был в аспирантуре, и мой учитель Ю. И. Манин рассказал нам о замечательной конструкции, которая строит коды по неким алгебраическим кривым. Это был первый раз, когда я услышал слово «код», но в окончательной формулировке вопроса этого слова не было. Я на этот вопрос ответил, еще один человек ответил — и постепенно мы сделали работу, про которую у меня было ощущение, что это какая-то никому не интересная мелочь. А твой батюшка (С. И. Гельфанд. — Прим. ред.) сказал, что это в соответствующей области очень большое достижение, надо обязательно об этом статью написать. Вот эта статья до сих пор моя самая цитируемая и самая модная.
— В телефон-то ее засунули?
— Прошло 30 лет, за которые она потихоньку доходит до телефона. В нынешних телефонах ее еще, думаю, нет. Но вроде бы в каких-то устройствах похитрее, чем телефон, какие-то самые первые шаги этой конструкции уже есть. Это некое опосредованное влияние на науку.
— Есть известное высказывание, которое приписывают Фейнману и много кому еще: если вы не можете за десять минут объяснить своей бабушке, чем вы занимаетесь, скорее всего, вы занимаетесь ерундой. Насколько это высказывание применимо к математике?
— Я бы его ослабил, и тогда оно будет применимо к математике, а в полной форме, конечно, нет. Если предположить, что ваша бабушка закончила хорошую школу и до сих пор помнит, чему ее в этой школе учили, то можно рассказать нечто, что не есть мой собственный результат и даже не есть результат моих учителей, но что есть яркий результат в моей области. Вот рассказать так, чтобы он был понятен, — это я могу. Но все-таки некая база нужна, поскольку даже среди образованного слоя есть люди, которые о математике не знают совсем ничего, даже о школьной; такой «бабушке» уже не расскажешь.
— Сколько человек станет умнее — это один вопрос, а то, что человечество станет в целом умнее, — это совершенно другой вопрос.
Математические идеи устроены следующим образом. Человек пишет статью. Наш коллега Сеня Шлосман (С. Б. Шлосман, сотрудник ИППИ РАН. — Прим. ред.) мне как-то сказал: «Статьи мы пишем не для того, чтобы их читали (ясно же, что никто их читать не будет), а для того, чтобы самому быть уверенным в том, что то, что там написано, — правильно». Но мне все-таки кажется, что, если статью не прочитал ни один человек, эта деятельность потеряна для человечества. Неизвестно, сколько человек эти работы прочли, но известно, сколько процитировали. Самую популярную мою работу процитировали около 500 раз, для математики это много. А эту — самую, с моей точки зрения, значительную — около 50. Это те люди, которые использовали ее в своей работе.
— С другой стороны, не все, кто цитировал эту статью, ее читали.
— Куски читали. Но это не значит, что читали целиком, и не значит, что все поняли. Я считаю, что в моей области хорошее цитирование — это человек 20. И особенно приятно, когда другой хороший ученый делает что-то, что без твоей работы было бы невозможно.
— Вы все время сбиваетесь на цитирование, а я-то как раз не собирался про это разговаривать, потому что совершенно ясно, что эта мера к математике прилагается очень криво и, в общем, смысла не имеет. Можно случайно написать статью с биологами и убить цитированиями всех знакомых математиков просто наповал. Или все-таки математики меряются цитированиями?
— Всерьез, конечно, нет. Цитирование — вещь полезная в отрицательном смысле. Если есть какой-то математик, которого за всю жизнь никто не процитировал, то это, скорее всего, свидетельствует о его уровне. Если мы смотрим на цитирование института, там еще лучше. Если на 300 ученых за год три цитирования, то это о чем-то говорит. А вот если у института в год тысяча или 10 тысяч цитирований, разница не говорит абсолютно ни о чем.
— А между сотней и тысячей?
— От области зависит. Возвращаясь к вопросу, сколько человек это прочтет. Может быть, 50, может, 200, может, 500 — в зависимости от того, что получится. Их количество невелико. Но у человечества существует некая ноосфера, и в нее мы что-то вкладываем. Это одна польза. Вторая польза — это польза от культурной деятельности вообще. Происходит она циклическими кругами: один человек прочел и что-то придумал, другой человек прочел и что-то понял, третий об этом рассказал. Это такое культурное влияние, как то, что происходило до тех пор, пока не рухнула советская власть. Она так и рухнула: разговаривали люди на кухне потихонечку…
— Есть точка зрения, что она рухнула, потому что, с одной стороны, упали цены на нефть, а с другой — Рейган устроил «звездные войны», и что это была чистая провокация…
— ...В результате которой военный бюджет Союза превысил государственный.
— Да, а вовсе не потому, что разговаривали на кухне.
— Видимо, верно и то и другое. Это такое культурное влияние науки. И есть третья причина, зачем все это нужно: вот я, например, что-то придумал, другие математики что-то придумали — через пять-шесть итераций это дошло до инженеров. Такого рода вещь есть в моей биографии.
Вот я что-то говорю, а слушатель что-то понимает. Казалось бы, этого происходить не должно: у меня не очень четкая дикция, одновременно шум в коридоре, еще что-то. Если бы я выдавал просто некую последовательность звуков, а ты бы ее записывал, вряд ли бы записал адекватно. А понимаем мы потому, что в языке есть избыточность. Таким же образом опечатки в тексте, как правило, не меняют смысл на противоположный, и можно из контекста или просто зная русский словарь восстановить смысл. Такого же рода избыточность можно создавать искусственно: это называется коды, исправляющие ошибки, они же корректирующие коды. Есть математическая теория таких кодов, которая запаяна в каждый компьютер или телефон. В 1980-е годы я был в аспирантуре, и мой учитель Ю. И. Манин рассказал нам о замечательной конструкции, которая строит коды по неким алгебраическим кривым. Это был первый раз, когда я услышал слово «код», но в окончательной формулировке вопроса этого слова не было. Я на этот вопрос ответил, еще один человек ответил — и постепенно мы сделали работу, про которую у меня было ощущение, что это какая-то никому не интересная мелочь. А твой батюшка (С. И. Гельфанд. — Прим. ред.) сказал, что это в соответствующей области очень большое достижение, надо обязательно об этом статью написать. Вот эта статья до сих пор моя самая цитируемая и самая модная.
— В телефон-то ее засунули?
— Прошло 30 лет, за которые она потихоньку доходит до телефона. В нынешних телефонах ее еще, думаю, нет. Но вроде бы в каких-то устройствах похитрее, чем телефон, какие-то самые первые шаги этой конструкции уже есть. Это некое опосредованное влияние на науку.
— Есть известное высказывание, которое приписывают Фейнману и много кому еще: если вы не можете за десять минут объяснить своей бабушке, чем вы занимаетесь, скорее всего, вы занимаетесь ерундой. Насколько это высказывание применимо к математике?
— Я бы его ослабил, и тогда оно будет применимо к математике, а в полной форме, конечно, нет. Если предположить, что ваша бабушка закончила хорошую школу и до сих пор помнит, чему ее в этой школе учили, то можно рассказать нечто, что не есть мой собственный результат и даже не есть результат моих учителей, но что есть яркий результат в моей области. Вот рассказать так, чтобы он был понятен, — это я могу. Но все-таки некая база нужна, поскольку даже среди образованного слоя есть люди, которые о математике не знают совсем ничего, даже о школьной; такой «бабушке» уже не расскажешь.
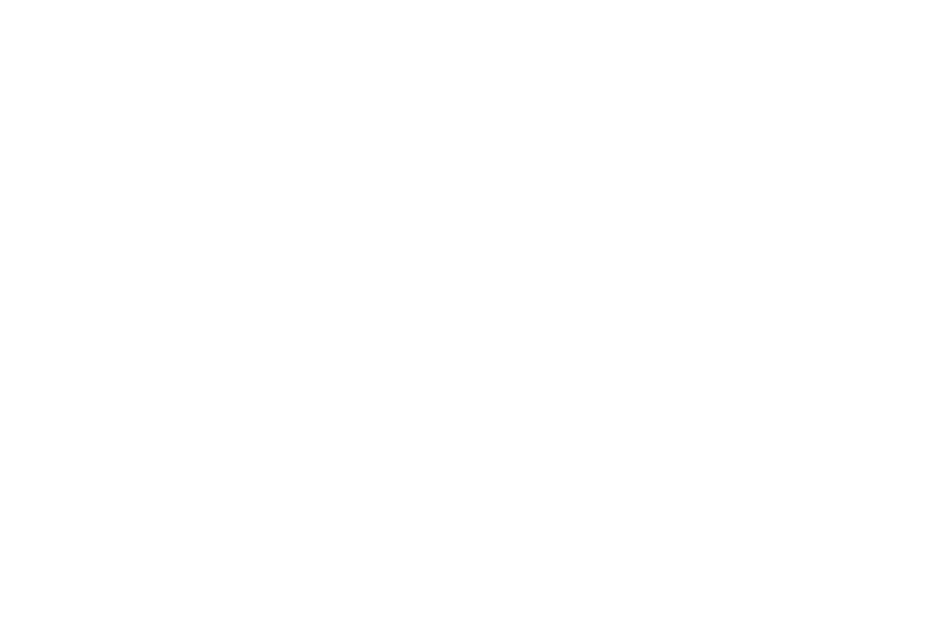
— Бабушке-филологу.
— Я знаю филологов, которые очень хорошо помнят школьную математику, и наоборот. Я могу себе представить и бабушку — физика-экспериментатора…
— Кстати, о физике. Манин говорил, что одним из основных источников идей и направлений является физика, в частности, для него лично.
— Для меня, безусловно, нет.
— У меня ощущение, что бывают физические и лингвистические математики.
— Для меня, пожалуй, не то и не другое, а все-таки математика как таковая. Для меня источник идей — мое базовое образование, когда я в 7-м классе ходил в вечернюю математическую школу. То, что я выучил в этой вечерней школе, я знаю хорошо. То, что я выучил в старших классах уже просто математической школы, я знаю похуже. То, что я выучил после университета, я уже почти совсем забыл.
Мне кажется, основным источником того, чем я занимаюсь, является сама математика. Это также происходит в несколько этапов: физики выдали некую идею, эта идея преломилась через одного, другого, третьего математика и потихоньку дошла до меня так, что я даже этой физики не вижу.
— А сама математика не является в каком-то смысле лингвистикой?
— Пожалуй, нет. Математика является изучением реального нематериального мира. Бог создал мир материальный, который изучают физики, и мир нематериальный. Куском этого нематериального мира является мир математических идей. Для меня число 2 или эллиптическая кривая ничуть не менее реальны, чем Проксима Центавра или электрон. Физик один и тот же объект изучает на разных приборах и смотрит на него под разными углами (с одного бока посмотришь — волна, а с другого — вроде частица; а на самом деле это не то и не другое, а пси-функция, то есть чисто математический объект). Есть математики, которые любят решать задачи. Берется какая-нибудь великая проблема, ее очень мощно атакуют, и в конце, если повезет, получается решение. Я этого никогда особо не любил, хотя в юности задачи решать умел. Я любил взять какой-нибудь математический объект и постараться подойти к нему по самым разным тропинкам, посмотреть на него под очень разными углами. Для меня математика — это скорее не физика или лингвистика, а теология. Этот идеальный, но реально существующий мир — дар Божий нам — мы и изучаем. Интересных объектов в нем много.
В физике можно изучать планету или электрон, и это правильно. А можно положить шесть стульев друг на друга в беспорядке и начать изучать этот странный физический объект. Это занятие уже довольно нелепо. В математике тоже самое: существуют тупиковые области, причем заранее никогда не известно, какая именно из них тупиковая.
— Например?
— Например, сейчас это общая топология. Примеров очень много, и внутри каждой серьезной области есть отдельные тупиковые вопросы и прочее. Существуют естественные и неестественные объекты. Мастерство математика заключается в том, чтобы понять, какой объект естественный, и броситься на его изучение под самыми разными углами, прекрасно понимая при этом, что до конца мы его все равно не изучим. Но, возможно, мы увидим какие-то закономерности, которые нам покажутся красивыми, интересными и полезными для других областей математики, а в редких случаях и для приложений. Такое вот катафатическое богословие.
— Верно ли я понимаю, что правильный объект существует не в одной области математики, а сразу в нескольких?
— Наибольшее удовольствие мне доставляют те результаты, где мы видим стыки разных областей математики. Это может быть один и тот же объект, который существует в разных областях математики, а может это произойти таким образом, что группы идей из разных областей вдруг встречаются вместе, чтобы начать изучать какой-то новый объект. Может быть так, что какой-то объект, который изучают в одной области математики, вдруг оказывается связан с другой областью. И эта одна из самых красивых вещей, которые я в жизни знаю. Недаром та область, которой я занимаюсь, находится между алгеброй, геометрией, анализом и теорией чисел — все вместе намешано. И именно тогда, когда в результате встречаются идеи отовсюду, этот результат мне особенно нравится.
— Существуют ли «области математики» или это дань традиции, когда кафедры как-то традиционно называются?
— Существует знаменитая история про Каждана (Давид (Дима) Каждан, математик, ученик И. М. Гельфанда. — Прим. ред.), которого, когда он приехал в Америку, чтобы записать в университетскую брошюру, спросили, в какой области математики он работает. Каждан не понял вопроса. Он сказал: «Я математик, я в математике работаю». При этом таких людей, как Дима, все-таки очень немного.
— Это история про то, как один человек работает в разных областях. А я спросил, существуют ли вообще области? Или это навязанное структурирование математического пространства, приходящее из традиции?
— Области существуют. Другое дело, что это структурирование математического пространства можно производить разными способами. Часть способов связана с традицией, часть еще с чем-то. Вот, кстати, то немногое полезное, что мы можем извлечь из библиометрии. Если мы возьмем математиков верхнего уровня, то у тех из них, кто работает в области математического анализа, число публикаций в разы больше, чем у тех, кто работает в области алгебры. Выходит, между этими двумя дисциплинами есть некая разница.
— Почему так?
— Я вижу одну причину, но не уверен, что она единственная. В анализе трудно придумать идею, зато если человек придумывает идею, то она применяется сразу к очень многим задачам в разных областях анализа. Из одной идеи получается десяток статей. А в алгебре скорее из многих идей получается одна статья. Но совершенно ясно, что все эти области перетекают друг в друга. Кроме того, интуиция чуть-чуть разная. Если делить очень грубо на алгебру, геометрию и анализ, это три чуть-чуть разных интуиции.
— Феномен российских, точнее, советских математических школ и вообще прекрасная советская математика: откуда она взялась и куда она делась?
— Это правильный вопрос, но я не знаю, смогу ли я на него ответить. Тут есть и некоторое преувеличение, безусловно. Для развития любой науки, в особенности математики, очень важен фактор селективности — когда в одну и ту же школу собраны дети, которым математика (а) интересна и (б) они имеют к ней хотя бы минимальные способности. Когда мы создавали факультет математики во ВШЭ, я сформулировал про студентов такую мысль: кого наберешь, того и выпустишь, если сумеешь не испортить. В этом секрет успеха математических школ. Но не надо думать, что советская система была такой уж исключительной. Французское образование до определенного момента — потом оно здорово испортилось — обладало замечательной эффективностью, в совершенно другие моменты времени оно тоже выпускало хороших математиков, причем довольно много. Математические школы какого-нибудь Ирана тоже дают хороших математиков. В любой американский университет приезжаешь и видишь, кто там из студентов самые сильные. Оказывается, что если это не Юго-Восточная Азия, то как раз Иран. Потому что в Иране были хорошие математические школы, не знаю, сохранились ли они сейчас.
— Ну, бомбы-то надо делать — наверное, сохранились.
— О российской математической школе. Во-первых, она никуда не делась: по тем студентам, которые поступают в Независимый университет или на тот же матфак «Вышки», у меня нет ощущения, что они слабее, чем мы были в их возрасте. На уровне школьного образования все это есть. Мне кажется, что российская наука взялась из сочетания двух строго противоположных факторов: большевистской диктатуры, которая загоняла людей в науку по признаку минимального наличия совести (другие области для них часто бывали закрыты), и оттепели, которая привела к тому, что появились новые возможности. Сочетание этих возможностей с количеством людей, которые в более свободном обществе занимались бы какой-нибудь, не к ночи будь помянута, юриспруденцией или полезнейшей для всех медициной.
— Почему же математика, а не медицина? Медициной тоже можно заниматься, не сильно кривя душой.
— Если ты посмотришь на 1970—80-е годы, прием в медицинские вузы был существенно более коррумпирован.
— Сейчас, я подозреваю, то же самое. А какие у вас были в 17 лет альтернативы?
— Я из медицинской семьи, поэтому медицина была одной альтернативой. Второй — какая-нибудь биофизика, потому что я в школе любил биологию, а учась в математической школе, знал физику. Поскольку мне не очень хотелось становиться именно врачом, я думал либо о медицинской, либо о биофизической науке. Ученым я захотел стать сразу после того, как перестал хотеть быть пожарным, то есть начиная с четырех лет, но области менялись. В возрасте лет 17, когда надо было выбирать направление, у меня было такое соображение: мне бы хотелось заниматься чем-то, что приносило бы пользу человечеству и при этом не приносило пользу советской власти. Математика идеально удовлетворяла этим условиям.
— Почему же? Казалось бы, и коды…
— Коды получились случайно, уже на излете советской власти, когда уже было понятно, что она рухнет. Что там в вопросе было еще?
— Откуда взялись вообще великие советские математика и физика?
— Математика, материально живя крохами со стола физики, имела возможность развиваться во многом благодаря ядерному проекту — это верно. Сами математики, конечно, тоже делились и по социальному признаку, и по своим взаимоотношениям с ядерной бомбой и с властью.
Я всегда мечтал заниматься именно чистой математикой, как она тогда называлась (сейчас мы политкорректно говорим «фундаментальной»). Меня всегда интересовало развитие идей, а не приложений, даже если приложения могли бы быть.
— Вы сказали, что человек с совестью выдавливался в науку, потому что все остальное требовало компромисса…
— Наука, к сожалению, тоже требовала компромисса, но, может быть, не такого очевидного.
— А совесть вообще является условием для занятий наукой?
— Нет. Бывают совершенно бессовестные и при этом очень хорошие ученые.
— Например, кто?
— Есть два совершенно замечательных немецких ученых: Хельмут Хассе и его ученик Освальд Тайхмюллер. Они немного в разном смысле сотрудничали с нацистским режимом. Хассе был президентом Академии наук, он симпатизировал нацизму, но не сильно. Главным образом ему хотелось сохранить немецкую науку. Нельзя сказать, что у него совести совсем не было, но мне кажется, что он перешел те грани, которые можно было бы допустить в этой ситуации. Второй пример совершенно другого рода: Тайхмюллер погиб на Восточном фронте в 30-летнем возрасте. Он был представителем гитлеровской молодежи, которая активнейшим образом проводила чистки в университетах, — Тайхмюллер был секретарем соответствующих комсомольских ячеек (там они назывались как-то иначе). Оба — совершенно замечательные ученые. Если у нас — И. М. Виноградов был, по крайней мере в юные годы, очень хорошим специалистом по теории чисел.
Мнения, высказываемые моими западными коллегами, варьируют от того, что совесть гораздо важнее науки, до того, что не существует такого понятия (совесть) вообще.
— Вы же не только самой математикой занимаетесь, но и ее организацией. Это требует большого количества компромиссов?
— Мне так повезло, что я организацией науки занимаюсь сбоку. Поэтому от меня требуется очень немного компромиссов. Во-первых, я говорю то, что думаю.
— Всегда?
— Нет. Есть один ограничитель, но он не связан с политической целесообразностью. Я не люблю высказывать человеку в глаза отрицательное мнение о нем.
— А за глаза?
— В частной беседе могу высказать, в публичной постараюсь скрыть имя или что-то еще. Если это относится не к проблеме совести, а к тому, что просто собеседник идиот, довольно нелепо ему об этом говорить.
Далее, я могу в интервью сказать, что мне нынешние правители России представляются катастрофой для нашей страны. Вы можете публиковать это или нет.
— Опубликуем.
— При этом я не боюсь это мнение высказывать. Я могу его не высказывать в случае, если я в нем не полностью уверен, еще по каким-то причинам, но не из соображений опасения.
— А написать это на листе бумаги и пойти на Манежную площадь?
— Крайне неестественно для меня. Для меня очень естественно сказать об этом за чашкой чая в кругу друзей, чуть менее естественно сказать об этом группе собравшихся студентов (это я сделаю, если только мне зададут прямой вопрос) и неестественно пойти куда бы то ни было с плакатом. Притом я скорее одобряю тех, кто идет с плакатом. Для меня естественный круг общения — малый. А уж как он потом кругами расширяется или не расширяется — это отдельный вопрос.
Я сейчас расскажу историю. Конец 2011 года, сразу после выборов замечательного нашего парламента. Демонстрация. Мои друзья заходят в кафе, потому что холодно. Кафе забито, потому что всем холодно. К ним за столик, попросив разрешения, подсаживается мужичок и интересуется: «А вы на демонстрацию пришли?» Они отвечают, что да. «Я вот тоже подумал и решил сходить, хотя я не со всем согласен». — «А с чем вы не согласны?» — «Мне не нравится агрессия, которая в Интернете появляется. Вот, например, Путина я тоже не очень люблю. Но против него такая агрессия, что мне даже хочется его защищать». — «А где именно вы видели эту агрессию, на каком сайте?» — «Да ни на каком специальном сайте. Я просто набрал в поисковой строке „Путин — с…а“, и не поверите, какая агрессия!»
— На этом мы и закончим.
— Я знаю филологов, которые очень хорошо помнят школьную математику, и наоборот. Я могу себе представить и бабушку — физика-экспериментатора…
— Кстати, о физике. Манин говорил, что одним из основных источников идей и направлений является физика, в частности, для него лично.
— Для меня, безусловно, нет.
— У меня ощущение, что бывают физические и лингвистические математики.
— Для меня, пожалуй, не то и не другое, а все-таки математика как таковая. Для меня источник идей — мое базовое образование, когда я в 7-м классе ходил в вечернюю математическую школу. То, что я выучил в этой вечерней школе, я знаю хорошо. То, что я выучил в старших классах уже просто математической школы, я знаю похуже. То, что я выучил после университета, я уже почти совсем забыл.
Мне кажется, основным источником того, чем я занимаюсь, является сама математика. Это также происходит в несколько этапов: физики выдали некую идею, эта идея преломилась через одного, другого, третьего математика и потихоньку дошла до меня так, что я даже этой физики не вижу.
— А сама математика не является в каком-то смысле лингвистикой?
— Пожалуй, нет. Математика является изучением реального нематериального мира. Бог создал мир материальный, который изучают физики, и мир нематериальный. Куском этого нематериального мира является мир математических идей. Для меня число 2 или эллиптическая кривая ничуть не менее реальны, чем Проксима Центавра или электрон. Физик один и тот же объект изучает на разных приборах и смотрит на него под разными углами (с одного бока посмотришь — волна, а с другого — вроде частица; а на самом деле это не то и не другое, а пси-функция, то есть чисто математический объект). Есть математики, которые любят решать задачи. Берется какая-нибудь великая проблема, ее очень мощно атакуют, и в конце, если повезет, получается решение. Я этого никогда особо не любил, хотя в юности задачи решать умел. Я любил взять какой-нибудь математический объект и постараться подойти к нему по самым разным тропинкам, посмотреть на него под очень разными углами. Для меня математика — это скорее не физика или лингвистика, а теология. Этот идеальный, но реально существующий мир — дар Божий нам — мы и изучаем. Интересных объектов в нем много.
В физике можно изучать планету или электрон, и это правильно. А можно положить шесть стульев друг на друга в беспорядке и начать изучать этот странный физический объект. Это занятие уже довольно нелепо. В математике тоже самое: существуют тупиковые области, причем заранее никогда не известно, какая именно из них тупиковая.
— Например?
— Например, сейчас это общая топология. Примеров очень много, и внутри каждой серьезной области есть отдельные тупиковые вопросы и прочее. Существуют естественные и неестественные объекты. Мастерство математика заключается в том, чтобы понять, какой объект естественный, и броситься на его изучение под самыми разными углами, прекрасно понимая при этом, что до конца мы его все равно не изучим. Но, возможно, мы увидим какие-то закономерности, которые нам покажутся красивыми, интересными и полезными для других областей математики, а в редких случаях и для приложений. Такое вот катафатическое богословие.
— Верно ли я понимаю, что правильный объект существует не в одной области математики, а сразу в нескольких?
— Наибольшее удовольствие мне доставляют те результаты, где мы видим стыки разных областей математики. Это может быть один и тот же объект, который существует в разных областях математики, а может это произойти таким образом, что группы идей из разных областей вдруг встречаются вместе, чтобы начать изучать какой-то новый объект. Может быть так, что какой-то объект, который изучают в одной области математики, вдруг оказывается связан с другой областью. И эта одна из самых красивых вещей, которые я в жизни знаю. Недаром та область, которой я занимаюсь, находится между алгеброй, геометрией, анализом и теорией чисел — все вместе намешано. И именно тогда, когда в результате встречаются идеи отовсюду, этот результат мне особенно нравится.
— Существуют ли «области математики» или это дань традиции, когда кафедры как-то традиционно называются?
— Существует знаменитая история про Каждана (Давид (Дима) Каждан, математик, ученик И. М. Гельфанда. — Прим. ред.), которого, когда он приехал в Америку, чтобы записать в университетскую брошюру, спросили, в какой области математики он работает. Каждан не понял вопроса. Он сказал: «Я математик, я в математике работаю». При этом таких людей, как Дима, все-таки очень немного.
— Это история про то, как один человек работает в разных областях. А я спросил, существуют ли вообще области? Или это навязанное структурирование математического пространства, приходящее из традиции?
— Области существуют. Другое дело, что это структурирование математического пространства можно производить разными способами. Часть способов связана с традицией, часть еще с чем-то. Вот, кстати, то немногое полезное, что мы можем извлечь из библиометрии. Если мы возьмем математиков верхнего уровня, то у тех из них, кто работает в области математического анализа, число публикаций в разы больше, чем у тех, кто работает в области алгебры. Выходит, между этими двумя дисциплинами есть некая разница.
— Почему так?
— Я вижу одну причину, но не уверен, что она единственная. В анализе трудно придумать идею, зато если человек придумывает идею, то она применяется сразу к очень многим задачам в разных областях анализа. Из одной идеи получается десяток статей. А в алгебре скорее из многих идей получается одна статья. Но совершенно ясно, что все эти области перетекают друг в друга. Кроме того, интуиция чуть-чуть разная. Если делить очень грубо на алгебру, геометрию и анализ, это три чуть-чуть разных интуиции.
— Феномен российских, точнее, советских математических школ и вообще прекрасная советская математика: откуда она взялась и куда она делась?
— Это правильный вопрос, но я не знаю, смогу ли я на него ответить. Тут есть и некоторое преувеличение, безусловно. Для развития любой науки, в особенности математики, очень важен фактор селективности — когда в одну и ту же школу собраны дети, которым математика (а) интересна и (б) они имеют к ней хотя бы минимальные способности. Когда мы создавали факультет математики во ВШЭ, я сформулировал про студентов такую мысль: кого наберешь, того и выпустишь, если сумеешь не испортить. В этом секрет успеха математических школ. Но не надо думать, что советская система была такой уж исключительной. Французское образование до определенного момента — потом оно здорово испортилось — обладало замечательной эффективностью, в совершенно другие моменты времени оно тоже выпускало хороших математиков, причем довольно много. Математические школы какого-нибудь Ирана тоже дают хороших математиков. В любой американский университет приезжаешь и видишь, кто там из студентов самые сильные. Оказывается, что если это не Юго-Восточная Азия, то как раз Иран. Потому что в Иране были хорошие математические школы, не знаю, сохранились ли они сейчас.
— Ну, бомбы-то надо делать — наверное, сохранились.
— О российской математической школе. Во-первых, она никуда не делась: по тем студентам, которые поступают в Независимый университет или на тот же матфак «Вышки», у меня нет ощущения, что они слабее, чем мы были в их возрасте. На уровне школьного образования все это есть. Мне кажется, что российская наука взялась из сочетания двух строго противоположных факторов: большевистской диктатуры, которая загоняла людей в науку по признаку минимального наличия совести (другие области для них часто бывали закрыты), и оттепели, которая привела к тому, что появились новые возможности. Сочетание этих возможностей с количеством людей, которые в более свободном обществе занимались бы какой-нибудь, не к ночи будь помянута, юриспруденцией или полезнейшей для всех медициной.
— Почему же математика, а не медицина? Медициной тоже можно заниматься, не сильно кривя душой.
— Если ты посмотришь на 1970—80-е годы, прием в медицинские вузы был существенно более коррумпирован.
— Сейчас, я подозреваю, то же самое. А какие у вас были в 17 лет альтернативы?
— Я из медицинской семьи, поэтому медицина была одной альтернативой. Второй — какая-нибудь биофизика, потому что я в школе любил биологию, а учась в математической школе, знал физику. Поскольку мне не очень хотелось становиться именно врачом, я думал либо о медицинской, либо о биофизической науке. Ученым я захотел стать сразу после того, как перестал хотеть быть пожарным, то есть начиная с четырех лет, но области менялись. В возрасте лет 17, когда надо было выбирать направление, у меня было такое соображение: мне бы хотелось заниматься чем-то, что приносило бы пользу человечеству и при этом не приносило пользу советской власти. Математика идеально удовлетворяла этим условиям.
— Почему же? Казалось бы, и коды…
— Коды получились случайно, уже на излете советской власти, когда уже было понятно, что она рухнет. Что там в вопросе было еще?
— Откуда взялись вообще великие советские математика и физика?
— Математика, материально живя крохами со стола физики, имела возможность развиваться во многом благодаря ядерному проекту — это верно. Сами математики, конечно, тоже делились и по социальному признаку, и по своим взаимоотношениям с ядерной бомбой и с властью.
Я всегда мечтал заниматься именно чистой математикой, как она тогда называлась (сейчас мы политкорректно говорим «фундаментальной»). Меня всегда интересовало развитие идей, а не приложений, даже если приложения могли бы быть.
— Вы сказали, что человек с совестью выдавливался в науку, потому что все остальное требовало компромисса…
— Наука, к сожалению, тоже требовала компромисса, но, может быть, не такого очевидного.
— А совесть вообще является условием для занятий наукой?
— Нет. Бывают совершенно бессовестные и при этом очень хорошие ученые.
— Например, кто?
— Есть два совершенно замечательных немецких ученых: Хельмут Хассе и его ученик Освальд Тайхмюллер. Они немного в разном смысле сотрудничали с нацистским режимом. Хассе был президентом Академии наук, он симпатизировал нацизму, но не сильно. Главным образом ему хотелось сохранить немецкую науку. Нельзя сказать, что у него совести совсем не было, но мне кажется, что он перешел те грани, которые можно было бы допустить в этой ситуации. Второй пример совершенно другого рода: Тайхмюллер погиб на Восточном фронте в 30-летнем возрасте. Он был представителем гитлеровской молодежи, которая активнейшим образом проводила чистки в университетах, — Тайхмюллер был секретарем соответствующих комсомольских ячеек (там они назывались как-то иначе). Оба — совершенно замечательные ученые. Если у нас — И. М. Виноградов был, по крайней мере в юные годы, очень хорошим специалистом по теории чисел.
Мнения, высказываемые моими западными коллегами, варьируют от того, что совесть гораздо важнее науки, до того, что не существует такого понятия (совесть) вообще.
— Вы же не только самой математикой занимаетесь, но и ее организацией. Это требует большого количества компромиссов?
— Мне так повезло, что я организацией науки занимаюсь сбоку. Поэтому от меня требуется очень немного компромиссов. Во-первых, я говорю то, что думаю.
— Всегда?
— Нет. Есть один ограничитель, но он не связан с политической целесообразностью. Я не люблю высказывать человеку в глаза отрицательное мнение о нем.
— А за глаза?
— В частной беседе могу высказать, в публичной постараюсь скрыть имя или что-то еще. Если это относится не к проблеме совести, а к тому, что просто собеседник идиот, довольно нелепо ему об этом говорить.
Далее, я могу в интервью сказать, что мне нынешние правители России представляются катастрофой для нашей страны. Вы можете публиковать это или нет.
— Опубликуем.
— При этом я не боюсь это мнение высказывать. Я могу его не высказывать в случае, если я в нем не полностью уверен, еще по каким-то причинам, но не из соображений опасения.
— А написать это на листе бумаги и пойти на Манежную площадь?
— Крайне неестественно для меня. Для меня очень естественно сказать об этом за чашкой чая в кругу друзей, чуть менее естественно сказать об этом группе собравшихся студентов (это я сделаю, если только мне зададут прямой вопрос) и неестественно пойти куда бы то ни было с плакатом. Притом я скорее одобряю тех, кто идет с плакатом. Для меня естественный круг общения — малый. А уж как он потом кругами расширяется или не расширяется — это отдельный вопрос.
Я сейчас расскажу историю. Конец 2011 года, сразу после выборов замечательного нашего парламента. Демонстрация. Мои друзья заходят в кафе, потому что холодно. Кафе забито, потому что всем холодно. К ним за столик, попросив разрешения, подсаживается мужичок и интересуется: «А вы на демонстрацию пришли?» Они отвечают, что да. «Я вот тоже подумал и решил сходить, хотя я не со всем согласен». — «А с чем вы не согласны?» — «Мне не нравится агрессия, которая в Интернете появляется. Вот, например, Путина я тоже не очень люблю. Но против него такая агрессия, что мне даже хочется его защищать». — «А где именно вы видели эту агрессию, на каком сайте?» — «Да ни на каком специальном сайте. Я просто набрал в поисковой строке „Путин — с…а“, и не поверите, какая агрессия!»
— На этом мы и закончим.
Интервью опубликовано в газете «Троицкий вариант — Наука», в № 198 от 23 февраля 2016 года.