Анатолий Вершик
Эстетика — едва ли не главная вещь в математике
Беседовала Елена Кудрявцева
Фото Евгения Гурко
Фото Евгения Гурко
АНАТОЛИЙ МОИСЕЕВИЧ ВЕРШИК (1933 – 2024) родился в 1933 году, в 1956-м с отличием окончил математико-механический факультет Ленинградского университета. Сегодня — доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова, ведущий научный сотрудник Добрушинской математической лаборатории Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН), профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, член Европейской академии наук. С 1988-го по 2008 год возглавлял Санкт-Петербургское математическое общество.
— Анатолий Моисеевич, в течение года мы говорили с математиками о самом интересном в их науке. А насколько вообще, на ваш взгляд, математика в этом сегодня нуждается?
— Знаете, для популяризации математика — наука очень тяжелая. В отличие от биологии и физики, которые занимаются изучением природы, то есть наблюдаемым миром, математика занимается миром, который ненаблюдаем, и даже для самих математиков. Поэтому популяризовать математику для широкой публики практически невозможно, а вот для молодежи и для тех, кто интересуется наукой, это необходимо делать, несмотря на трудности. В нашей науке много красивых элементарных задач, которые можно объяснить школьникам и людям с небольшой подготовкой. До войны были знаменитые книги Якова Перельмана «Занимательная арифметика», «Занимательная механика» и др., которые отлично удовлетворяли первый интерес к науке и заражали энтузиазмом. Сегодня некоторые из них устарели, но появилась масса других книг для разного уровня подготовки, все время появляются новые задачи, вытесняющие старые.
— А разве может устареть математика?
— Вот пример, хорошо подходящий к конференции, на которой мы с вами находимся. (Речь идет о ежегодной школе-конференции ИППИ РАН «Информационные технологии и системы». — Прим. ред.) До войны, как вы знаете, еще не была создана теория информации в том виде, в каком мы знаем ее сегодня. И она принесла с собой элементарные задачи особого теоретико-информационного свойства, которых раньше не было. Например, предположим, у вас есть сколько-то монет, часть из которых — фальшивые. Они чуть легче, чем обыкновенные. Требуется сделать минимум взвешиваний, чтобы определить, сколько у вас поддельных монет, а сколько — настоящих. Таких задач в те времена не было. Сегодня хорошей олимпиадной задачей для школьника может служить упрощенный результат статьи из самого последнего научного журнала. Часто, если математик пишет работу, его просят упростить какое-то новое элементарное соображение, которое всегда есть в хорошей работе, до олимпиадных заданий. Я иногда выполнял такого рода заказы; это полезно, и это вид популяризации математики и в то же время привлечение внимания молодежи к математике. Молодые люди очень хорошо чувствуют новые соображения и быстро применяют их. Но сейчас такой популяризацией, к сожалению, ученые занимаются меньше, чем раньше.
— А почему же тогда математику невозможно популяризовать для широкой публики? Тем более что после реформы РАН ученым, по существу, этим предписано заниматься для получения финансирования…
— Сейчас, действительно, даже в ряде научных отчетов полагается давать популярное изложение некоторых полученных результатов. Но для чиновников популяризацию иной раз достаточно сымитировать. Другое дело, что специалист, читая или слушая эту имитацию, может иногда покраснеть. Но если же говорить о популяризации реальных достижений для широкой публики, то по сравнению с представителями других наук у математиков здесь дела совсем плохи. Очень показателен пример со знаменитой столетней гипотезой Пуанкаре, блестяще доказанной Григорием Перельманом (петербургский геометр, однофамилец знаменитого популяризатора точных наук Якова Перельмана. — Прим. ред.). Поскольку интерес публики, подогретый миллионной премией, был невероятно велик, то появились многочисленные публикации в массмедиа о нем и на эту тему. Как правило, математику читать или слушать их невозможно или от смеха, или от слез. Но правда состоит в том, что какие-то даже не самые сложные вещи в принципе невозможно объяснить людям, у которых нет определенного набора знаний. Формулировка гипотезы несложная, и как-то еще можно понятно объяснить случай размерности два, исследованный еще до Пуанкаре, но тоже нетривиальный. Но понять смысл собственно гипотезы для размерности три — увы!
— Да что вы говорите!
— Тем не менее понимание доступно хорошему студенту второго курса математического или физического факультета. Ну а в чем состоит само решение — так в этом долго разбирались самые квалифицированные специалисты. К сожалению, и это настоящий вызов для самих математиков. Суть их деятельности редко удается объяснить вовне. Мир математики существует отдельно, и в этом — ее и сильная, и слабая стороны. Результат Перельмана — гораздо более общий, кстати, чем гипотеза Пуанкаре, это высочайшее достижение математической науки. А та бездна вульгаризаций и попыток «вывести» немедленно какие-то следствия для «устройства вселенной» остается на совести этой публики.
— Вы писали, что вы против премий Института Клэя (частный институт в Кембридже, штат Массачусетс, США, учредивший премию за решение одной из «семи задач тысячелетия», принципиальных для развития математики и развития человечества. — Прим. ред.). Почему?
— Да, я действительно с самого начала был критически настроен к самой идее премий Клэя. Ученые, которые в состоянии заниматься подобными задачами «тысячелетия», будут заниматься ими и без обещанных премий, но ажиотаж премии вызовут, и так оно и получилось. Но и список задач тоже вызвал вопросы. Во всей этой миллионной затее есть элемент шоу-бизнеса, морковки на веревочке. Все-таки в науке обычно дают премии уже после того, как что-то совершено, и это естественно. Математики иногда только в шутку оценивают в деньгах ответ на какую-нибудь задачу. Надо сказать, что у моей позиции всегда было много критиков, в основном среди американцев, но куда больше ученых — и в Штатах, и в Европе, и в Японии — эту точку зрения поддерживали. Этот довод я приводил моему другу Артуру Джаффе — замечательному математику, который как раз был председателем премии Клэя, которую учредили незадолго до 2000 года. В ответ на мою критику он мне объяснил, что я ничего не понимаю в американской жизни и что, если какая-то мамаша услышит, что математикам за решение задачи дают миллион долларов, она немедленно отправит сына учиться математике в университет. Не знаю, насколько это убедительно, но в целом мое мнение не изменилось.
Г. Перельману присудили и эту премию, и Филдсовскую премию, и др., но он их не принял. А еще ранее он не принял премию Европейского математического общества за другую работу. Между прочим, единственная премия, которую он принял, была премия нашего Санкт-Петербургского математического общества за результаты его кандидатской диссертации в 1991 году.
Но вот совершенно непредвиденно с премией получилось совсем другое. А именно: отказ Гриши получить эту и другие премии (несущественно, по какой причине) продемонстрировал широкой публике, возможно, в гипертрофированной форме, что есть среди математиков и такое отношение к премиям и к деньгам — отделяющее науку от них. Это полезно знать современному обществу. Полезней, чем гипотезу Пуанкаре.
— Знаете, для популяризации математика — наука очень тяжелая. В отличие от биологии и физики, которые занимаются изучением природы, то есть наблюдаемым миром, математика занимается миром, который ненаблюдаем, и даже для самих математиков. Поэтому популяризовать математику для широкой публики практически невозможно, а вот для молодежи и для тех, кто интересуется наукой, это необходимо делать, несмотря на трудности. В нашей науке много красивых элементарных задач, которые можно объяснить школьникам и людям с небольшой подготовкой. До войны были знаменитые книги Якова Перельмана «Занимательная арифметика», «Занимательная механика» и др., которые отлично удовлетворяли первый интерес к науке и заражали энтузиазмом. Сегодня некоторые из них устарели, но появилась масса других книг для разного уровня подготовки, все время появляются новые задачи, вытесняющие старые.
— А разве может устареть математика?
— Вот пример, хорошо подходящий к конференции, на которой мы с вами находимся. (Речь идет о ежегодной школе-конференции ИППИ РАН «Информационные технологии и системы». — Прим. ред.) До войны, как вы знаете, еще не была создана теория информации в том виде, в каком мы знаем ее сегодня. И она принесла с собой элементарные задачи особого теоретико-информационного свойства, которых раньше не было. Например, предположим, у вас есть сколько-то монет, часть из которых — фальшивые. Они чуть легче, чем обыкновенные. Требуется сделать минимум взвешиваний, чтобы определить, сколько у вас поддельных монет, а сколько — настоящих. Таких задач в те времена не было. Сегодня хорошей олимпиадной задачей для школьника может служить упрощенный результат статьи из самого последнего научного журнала. Часто, если математик пишет работу, его просят упростить какое-то новое элементарное соображение, которое всегда есть в хорошей работе, до олимпиадных заданий. Я иногда выполнял такого рода заказы; это полезно, и это вид популяризации математики и в то же время привлечение внимания молодежи к математике. Молодые люди очень хорошо чувствуют новые соображения и быстро применяют их. Но сейчас такой популяризацией, к сожалению, ученые занимаются меньше, чем раньше.
— А почему же тогда математику невозможно популяризовать для широкой публики? Тем более что после реформы РАН ученым, по существу, этим предписано заниматься для получения финансирования…
— Сейчас, действительно, даже в ряде научных отчетов полагается давать популярное изложение некоторых полученных результатов. Но для чиновников популяризацию иной раз достаточно сымитировать. Другое дело, что специалист, читая или слушая эту имитацию, может иногда покраснеть. Но если же говорить о популяризации реальных достижений для широкой публики, то по сравнению с представителями других наук у математиков здесь дела совсем плохи. Очень показателен пример со знаменитой столетней гипотезой Пуанкаре, блестяще доказанной Григорием Перельманом (петербургский геометр, однофамилец знаменитого популяризатора точных наук Якова Перельмана. — Прим. ред.). Поскольку интерес публики, подогретый миллионной премией, был невероятно велик, то появились многочисленные публикации в массмедиа о нем и на эту тему. Как правило, математику читать или слушать их невозможно или от смеха, или от слез. Но правда состоит в том, что какие-то даже не самые сложные вещи в принципе невозможно объяснить людям, у которых нет определенного набора знаний. Формулировка гипотезы несложная, и как-то еще можно понятно объяснить случай размерности два, исследованный еще до Пуанкаре, но тоже нетривиальный. Но понять смысл собственно гипотезы для размерности три — увы!
— Да что вы говорите!
— Тем не менее понимание доступно хорошему студенту второго курса математического или физического факультета. Ну а в чем состоит само решение — так в этом долго разбирались самые квалифицированные специалисты. К сожалению, и это настоящий вызов для самих математиков. Суть их деятельности редко удается объяснить вовне. Мир математики существует отдельно, и в этом — ее и сильная, и слабая стороны. Результат Перельмана — гораздо более общий, кстати, чем гипотеза Пуанкаре, это высочайшее достижение математической науки. А та бездна вульгаризаций и попыток «вывести» немедленно какие-то следствия для «устройства вселенной» остается на совести этой публики.
— Вы писали, что вы против премий Института Клэя (частный институт в Кембридже, штат Массачусетс, США, учредивший премию за решение одной из «семи задач тысячелетия», принципиальных для развития математики и развития человечества. — Прим. ред.). Почему?
— Да, я действительно с самого начала был критически настроен к самой идее премий Клэя. Ученые, которые в состоянии заниматься подобными задачами «тысячелетия», будут заниматься ими и без обещанных премий, но ажиотаж премии вызовут, и так оно и получилось. Но и список задач тоже вызвал вопросы. Во всей этой миллионной затее есть элемент шоу-бизнеса, морковки на веревочке. Все-таки в науке обычно дают премии уже после того, как что-то совершено, и это естественно. Математики иногда только в шутку оценивают в деньгах ответ на какую-нибудь задачу. Надо сказать, что у моей позиции всегда было много критиков, в основном среди американцев, но куда больше ученых — и в Штатах, и в Европе, и в Японии — эту точку зрения поддерживали. Этот довод я приводил моему другу Артуру Джаффе — замечательному математику, который как раз был председателем премии Клэя, которую учредили незадолго до 2000 года. В ответ на мою критику он мне объяснил, что я ничего не понимаю в американской жизни и что, если какая-то мамаша услышит, что математикам за решение задачи дают миллион долларов, она немедленно отправит сына учиться математике в университет. Не знаю, насколько это убедительно, но в целом мое мнение не изменилось.
Г. Перельману присудили и эту премию, и Филдсовскую премию, и др., но он их не принял. А еще ранее он не принял премию Европейского математического общества за другую работу. Между прочим, единственная премия, которую он принял, была премия нашего Санкт-Петербургского математического общества за результаты его кандидатской диссертации в 1991 году.
Но вот совершенно непредвиденно с премией получилось совсем другое. А именно: отказ Гриши получить эту и другие премии (несущественно, по какой причине) продемонстрировал широкой публике, возможно, в гипертрофированной форме, что есть среди математиков и такое отношение к премиям и к деньгам — отделяющее науку от них. Это полезно знать современному обществу. Полезней, чем гипотезу Пуанкаре.
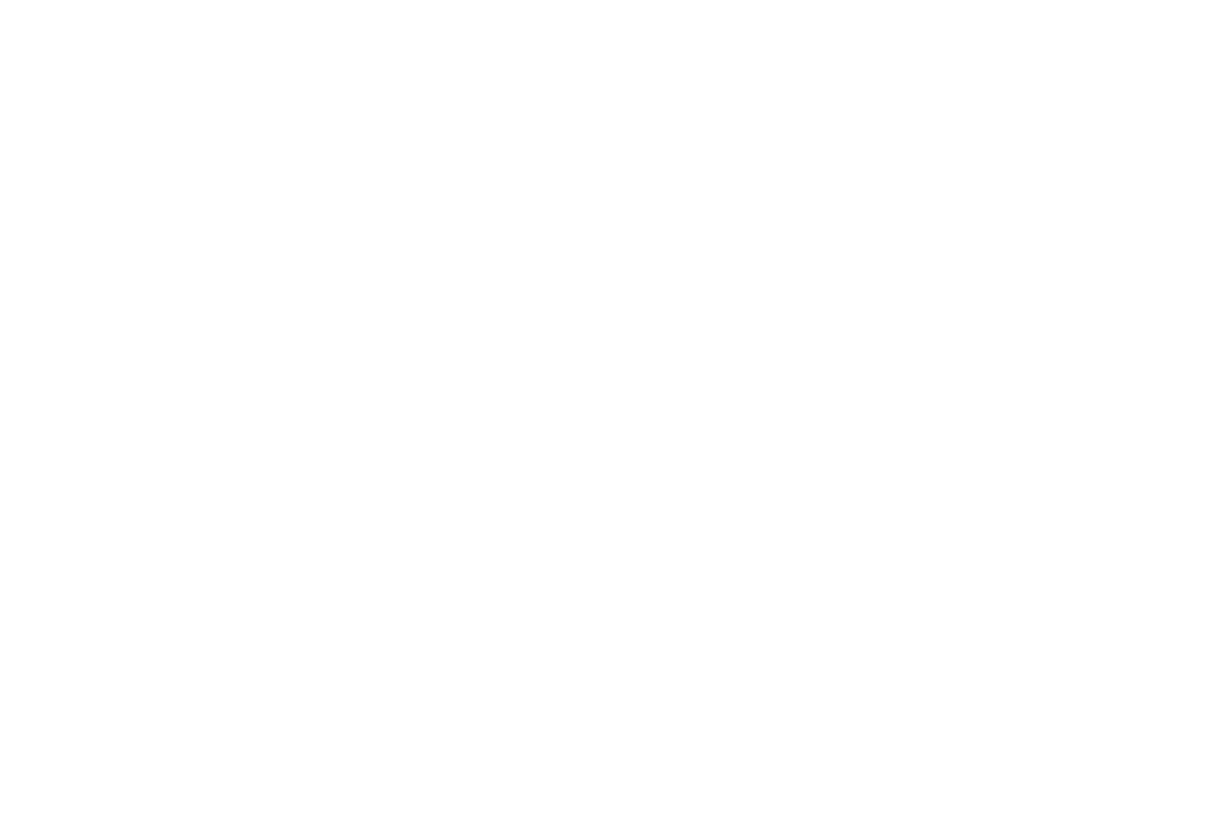
— А вообще — ради чего работают современные математики? Вот лично вы как выбираете для себя задачи? Если не ошибаюсь, вам принадлежат слова, что для работы подходит только красивая, эстетически привлекательная задача. А что это значит?
— Вопрос, ради чего люди занимаются наукой, оставляю без ответа. Наверно, один из ответов — по зову души. А по поводу выбора задач хочу сказать, что действительно, чтобы решить задачу, нужно, во всяком случае для меня, чтобы она привлекала эстетически. Эстетика в математике — очень важная вещь. Конечно, есть много разных причин выбора тех или иных задач — их актуальность, важность для приложений, производственная необходимость, иногда спортивный момент, традиционный интерес и т. д. Лично у меня в математике есть несколько тем, которыми я занимаюсь попеременно, и есть задачи, которые я хочу успеть решить, но объяснять их не имеет смысла. Можно назвать только области, к которым они относятся. Скажем, на третьем курсе я по совету своего первого руководителя Глеба Павловича Акилова прочел работы Израиля Моисеевича Гельфанда и его соавторов, которые в те времена были мало известны у нас в Ленинграде. Эти работы поразили меня своей красотой и оставили очень сильное впечатление. Идеи Гельфанда произвели настоящую революцию в функциональном анализе. Фактически он — главный создатель современной теории представлений. Изучение этих работ во многом определило мой выбор. С тех пор мне посчастливилось сотрудничать и с ним самим, и с его коллегой Марком Иосифовичем Граевым, который до сих пор работает, в свои 94 года. Мы занимались теорией представлений, а другую область, близкую мне, — комбинаторику он не очень жаловал.
Но позже, столкнувшись с ней в своих исследованиях, и, хочу думать, не без моих разговоров, он сказал, что комбинаторика — это математика XXI века. Комбинаторика, по мнению многих, это что-то из программы 9-го или 10-го класса школы. На самом деле это фундаментальная часть математики, потому что каждое серьезное продвижение в любой области содержит комбинаторное ядро. В близкой области я сотрудничал с моим учителем Леонидом Витальевичем Канторовичем, ставшим позже нобелевским лауреатом и одним из создателей математической экономики. Любопытно, что одно из его замечательных достижений, сделанных в прикладных целях (теория транспортных задач), стало важным чисто математическим методом. Наконец, у своего главного учителя, замечательного ученого Владимира Абрамовича Рохлина, я учился топологии, теории динамических систем. Вот такой сплав из комбинаторики, теории представлений и динамики и составляет мои занятия, ими же занимается моя лаборатория. Это сочетание оказалось очень удачным и с чисто математической, и с эстетической точки зрения, во всяком случае, наши работы очень хорошо цитируются, они очень известны.
— Как вы относитесь к тому, что цитирование в научных журналах сегодня стало одним из главных критериев успешности ученого? И может ли что-либо заменить этот критерий?
— Цитируемость — критерий, который легко проверить, — вот и вся его привлекательность для бюрократов. Есть много систем учета публикаций и цитирований. Нельзя сказать, что это неважный критерий, но он — очень ограниченного применения. На мой взгляд, во всех решениях, относящихся к оценке научной работы, следует учитывать в первую очередь совсем другой критерий. Я бы выразил его одним словом — доверие. Нужно доверять оценкам авторитетных ученых в данной области, причем их мнение ставить во главу угла. Именно активно работающие ученые должны решать, какое направление следует развивать здесь и сейчас, кого нанимать на работу, кому давать грант или премию. При этом, разумеется, специалисты должны быть вне подозрений в необъективности, недостаточной компетентности и т. д. и они должны нести ответственность за свои решения. Но другого научного способа решения вопроса о критериях оценок научной деятельности, по моему убеждению, — нет. В сегодняшнем подходе эти идеи есть в сугубо искаженном виде. Доверие власти к науке основано скорее на личных контактах. Я же считаю — говорить надо о доверии, базирующемся на мнении профессионального сообщества. Отсутствие доверия власти к ученым исчерпывающе проиллюстрировано пресловутой реформой Академии в 2013 году — и самим содержанием реформы, и тем, как она (тайно) готовилась и проводилась. Но отсутствие доверия вызывает ответное недоверие ученых к власти. И оно только растет.
— Насколько реально сегодня в России «чистым математикам», не имеющим уклона в прикладные науки, получить грант на развитие своей науки?
— Время иностранных грантов в России прошло в 90-х годах. Я иногда повторяю фразу, выглядящую теперь крамольной, о том, что в 2000 году я получил грант НАТО на проведение международной конференции. Тогда этот «агрессивный альянс» решил поддерживать некоторые международные конференции на чисто научные темы и в России тоже, что было очень здорово. Но была еще программа Американского математического общества в начале 90-х. Члены этого общества собрали тогда миллион долларов на гранты российским математикам, и это помогло многим в то тяжелое время не уйти из науки. То же самое относится к фонду Сороса, существенная помощь которого в то же время оплевывается почти официально. Что касается отечественных грантов, то я считаю одним из немногих положительных достижений послеперестроечного времени создание РФФИ — Российского фонда фундаментальных исследований. Он сделан по образцу знаменитого фонда National Science Foundation в Америке и сыграл положительную роль в научной жизни России. Я принимал участие в его деятельности и получал его гранты. Сейчас сфера его действия сужается.
Три года назад, после разгрома РАН, был учрежден еще один фонд — Российский научный фонд, гораздо более богатый, но и гораздо более суровый. Моя группа также получила грант этого фонда на три года, но продолжения на следующие два года не получила, и стоит объяснить почему. Это имеет отношение к вашему предыдущему вопросу. По количеству публикаций мы даже перевыполнили взятые на себя в заявке обязательства.
Публикации были в солидных российских и международных журналах. Но небольшая часть из них была в известном российском издании, которое по какой-то причине не вошло в один из списков изданий, которые выбрал фонд в качестве ориентира. И потому эти работы не были засчитаны. То есть РНФ игнорирует серьезный российский журнал только потому, что он и его перевод не вошли в один из иностранных списков, признаваемых фондом как аксиому! И это вопреки мнению ученых, высказавшихся по этому вопросу. Вот это пример формалистики и патологической любви к наукометрии.
— Мы с вами гуляем по берегу Финского залива в Репино. Сорок лет назад здесь проходила международная математическая конференция, и вам не разрешили прочитать на ней доклад. Помните, о чем вы тогда хотели говорить?
— Тему сейчас, вероятно, вспоминать не имеет смысла, а вот сам случай был достаточно показателен. Дело в том, что тогда все ученые делились на две неравные части: «выездные» и «невыездные». Были люди, которым, хотя и не систематически, были доступны поездки за рубеж для контактов с коллегами. И было огромное количество людей, которые не могли даже думать об этом, — я по ряду причин был как раз среди этой части. Поэтому международные конференции, проводившиеся в стране, конечно, привлекали внимание. И вот здесь в Репино, недалеко отсюда, в 1976 году проходила конференция по теории информации. Я подал заявку для доклада, потому что на ней предполагалась серьезная математическая часть, которую организовывал замечательный математик из Института проблем передачи информации РАН Роланд Львович Добрушин. Но поскольку конференция была связана с теорией кодирования, то она была, как говорят, режимной, попасть туда, как оказалось, можно было только по особым разрешениям, и вообще она была перенасыщена «учеными в штатском».
Вообще, любое участие в международных конференциях, поездки куда-то начинались с того, что компетентные органы давали или не давали характеристику, которую подписывали в университетах декан факультета, секретарь партбюро и секретарь профкома. Мне такую характеристику для поездки на 30 километров от Ленинграда в Репино не дали, и позже один мой коллега рассказал почему: он спросил чиновника, почему Вершик не может прочитать там научный доклад. Ему ответили: «Он не ведет общественную работу». Мой коллега возразил, что уже в течение нескольких лет я организовывал работу Ленинградского математического общества. Ответ был афористичный: «Какая же это общественная работа, раз она ему нравится?»
В общем, доклад я сделать не смог, но, конечно, ездил на заседания и беседовал с коллегами. Это одна из многих подобных историй. Все препятствия этого типа играли разрушительную роль для советской науки, но это и был тот самый «железный занавес». А для многих крупных ученых (например, для В. А. Рохлина) невозможность поехать на международную конференцию и сделать там доклад о своих достижениях была чудовищной несправедливостью. Часто эти отказы обставлялись обещаниями, объяснениями и т. п. Но в результате приглашения поехать на конгресс или просто на доклад не могли быть использованы, и в итоге, когда делегацию приходили встречать западные коллеги, им нужные люди объясняли, что такой-то «заболел» или «он принимает экзамены» и т. д.
— Вопрос, ради чего люди занимаются наукой, оставляю без ответа. Наверно, один из ответов — по зову души. А по поводу выбора задач хочу сказать, что действительно, чтобы решить задачу, нужно, во всяком случае для меня, чтобы она привлекала эстетически. Эстетика в математике — очень важная вещь. Конечно, есть много разных причин выбора тех или иных задач — их актуальность, важность для приложений, производственная необходимость, иногда спортивный момент, традиционный интерес и т. д. Лично у меня в математике есть несколько тем, которыми я занимаюсь попеременно, и есть задачи, которые я хочу успеть решить, но объяснять их не имеет смысла. Можно назвать только области, к которым они относятся. Скажем, на третьем курсе я по совету своего первого руководителя Глеба Павловича Акилова прочел работы Израиля Моисеевича Гельфанда и его соавторов, которые в те времена были мало известны у нас в Ленинграде. Эти работы поразили меня своей красотой и оставили очень сильное впечатление. Идеи Гельфанда произвели настоящую революцию в функциональном анализе. Фактически он — главный создатель современной теории представлений. Изучение этих работ во многом определило мой выбор. С тех пор мне посчастливилось сотрудничать и с ним самим, и с его коллегой Марком Иосифовичем Граевым, который до сих пор работает, в свои 94 года. Мы занимались теорией представлений, а другую область, близкую мне, — комбинаторику он не очень жаловал.
Но позже, столкнувшись с ней в своих исследованиях, и, хочу думать, не без моих разговоров, он сказал, что комбинаторика — это математика XXI века. Комбинаторика, по мнению многих, это что-то из программы 9-го или 10-го класса школы. На самом деле это фундаментальная часть математики, потому что каждое серьезное продвижение в любой области содержит комбинаторное ядро. В близкой области я сотрудничал с моим учителем Леонидом Витальевичем Канторовичем, ставшим позже нобелевским лауреатом и одним из создателей математической экономики. Любопытно, что одно из его замечательных достижений, сделанных в прикладных целях (теория транспортных задач), стало важным чисто математическим методом. Наконец, у своего главного учителя, замечательного ученого Владимира Абрамовича Рохлина, я учился топологии, теории динамических систем. Вот такой сплав из комбинаторики, теории представлений и динамики и составляет мои занятия, ими же занимается моя лаборатория. Это сочетание оказалось очень удачным и с чисто математической, и с эстетической точки зрения, во всяком случае, наши работы очень хорошо цитируются, они очень известны.
— Как вы относитесь к тому, что цитирование в научных журналах сегодня стало одним из главных критериев успешности ученого? И может ли что-либо заменить этот критерий?
— Цитируемость — критерий, который легко проверить, — вот и вся его привлекательность для бюрократов. Есть много систем учета публикаций и цитирований. Нельзя сказать, что это неважный критерий, но он — очень ограниченного применения. На мой взгляд, во всех решениях, относящихся к оценке научной работы, следует учитывать в первую очередь совсем другой критерий. Я бы выразил его одним словом — доверие. Нужно доверять оценкам авторитетных ученых в данной области, причем их мнение ставить во главу угла. Именно активно работающие ученые должны решать, какое направление следует развивать здесь и сейчас, кого нанимать на работу, кому давать грант или премию. При этом, разумеется, специалисты должны быть вне подозрений в необъективности, недостаточной компетентности и т. д. и они должны нести ответственность за свои решения. Но другого научного способа решения вопроса о критериях оценок научной деятельности, по моему убеждению, — нет. В сегодняшнем подходе эти идеи есть в сугубо искаженном виде. Доверие власти к науке основано скорее на личных контактах. Я же считаю — говорить надо о доверии, базирующемся на мнении профессионального сообщества. Отсутствие доверия власти к ученым исчерпывающе проиллюстрировано пресловутой реформой Академии в 2013 году — и самим содержанием реформы, и тем, как она (тайно) готовилась и проводилась. Но отсутствие доверия вызывает ответное недоверие ученых к власти. И оно только растет.
— Насколько реально сегодня в России «чистым математикам», не имеющим уклона в прикладные науки, получить грант на развитие своей науки?
— Время иностранных грантов в России прошло в 90-х годах. Я иногда повторяю фразу, выглядящую теперь крамольной, о том, что в 2000 году я получил грант НАТО на проведение международной конференции. Тогда этот «агрессивный альянс» решил поддерживать некоторые международные конференции на чисто научные темы и в России тоже, что было очень здорово. Но была еще программа Американского математического общества в начале 90-х. Члены этого общества собрали тогда миллион долларов на гранты российским математикам, и это помогло многим в то тяжелое время не уйти из науки. То же самое относится к фонду Сороса, существенная помощь которого в то же время оплевывается почти официально. Что касается отечественных грантов, то я считаю одним из немногих положительных достижений послеперестроечного времени создание РФФИ — Российского фонда фундаментальных исследований. Он сделан по образцу знаменитого фонда National Science Foundation в Америке и сыграл положительную роль в научной жизни России. Я принимал участие в его деятельности и получал его гранты. Сейчас сфера его действия сужается.
Три года назад, после разгрома РАН, был учрежден еще один фонд — Российский научный фонд, гораздо более богатый, но и гораздо более суровый. Моя группа также получила грант этого фонда на три года, но продолжения на следующие два года не получила, и стоит объяснить почему. Это имеет отношение к вашему предыдущему вопросу. По количеству публикаций мы даже перевыполнили взятые на себя в заявке обязательства.
Публикации были в солидных российских и международных журналах. Но небольшая часть из них была в известном российском издании, которое по какой-то причине не вошло в один из списков изданий, которые выбрал фонд в качестве ориентира. И потому эти работы не были засчитаны. То есть РНФ игнорирует серьезный российский журнал только потому, что он и его перевод не вошли в один из иностранных списков, признаваемых фондом как аксиому! И это вопреки мнению ученых, высказавшихся по этому вопросу. Вот это пример формалистики и патологической любви к наукометрии.
— Мы с вами гуляем по берегу Финского залива в Репино. Сорок лет назад здесь проходила международная математическая конференция, и вам не разрешили прочитать на ней доклад. Помните, о чем вы тогда хотели говорить?
— Тему сейчас, вероятно, вспоминать не имеет смысла, а вот сам случай был достаточно показателен. Дело в том, что тогда все ученые делились на две неравные части: «выездные» и «невыездные». Были люди, которым, хотя и не систематически, были доступны поездки за рубеж для контактов с коллегами. И было огромное количество людей, которые не могли даже думать об этом, — я по ряду причин был как раз среди этой части. Поэтому международные конференции, проводившиеся в стране, конечно, привлекали внимание. И вот здесь в Репино, недалеко отсюда, в 1976 году проходила конференция по теории информации. Я подал заявку для доклада, потому что на ней предполагалась серьезная математическая часть, которую организовывал замечательный математик из Института проблем передачи информации РАН Роланд Львович Добрушин. Но поскольку конференция была связана с теорией кодирования, то она была, как говорят, режимной, попасть туда, как оказалось, можно было только по особым разрешениям, и вообще она была перенасыщена «учеными в штатском».
Вообще, любое участие в международных конференциях, поездки куда-то начинались с того, что компетентные органы давали или не давали характеристику, которую подписывали в университетах декан факультета, секретарь партбюро и секретарь профкома. Мне такую характеристику для поездки на 30 километров от Ленинграда в Репино не дали, и позже один мой коллега рассказал почему: он спросил чиновника, почему Вершик не может прочитать там научный доклад. Ему ответили: «Он не ведет общественную работу». Мой коллега возразил, что уже в течение нескольких лет я организовывал работу Ленинградского математического общества. Ответ был афористичный: «Какая же это общественная работа, раз она ему нравится?»
В общем, доклад я сделать не смог, но, конечно, ездил на заседания и беседовал с коллегами. Это одна из многих подобных историй. Все препятствия этого типа играли разрушительную роль для советской науки, но это и был тот самый «железный занавес». А для многих крупных ученых (например, для В. А. Рохлина) невозможность поехать на международную конференцию и сделать там доклад о своих достижениях была чудовищной несправедливостью. Часто эти отказы обставлялись обещаниями, объяснениями и т. п. Но в результате приглашения поехать на конгресс или просто на доклад не могли быть использованы, и в итоге, когда делегацию приходили встречать западные коллеги, им нужные люди объясняли, что такой-то «заболел» или «он принимает экзамены» и т. д.
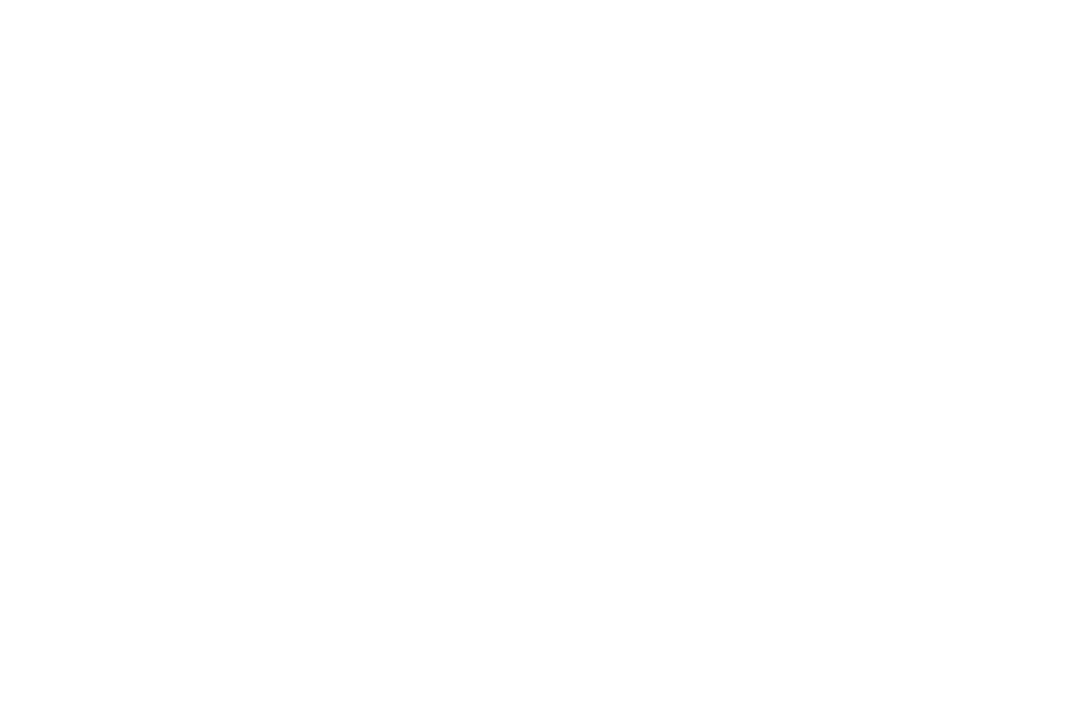
— И как ваши западные коллеги воспринимали такое положение дел?
— О, это очень интересно! Вы знаете, что тогда появился иронический термин Russian Time. В 1974 году я получил приглашение сделать секционный доклад на Международном математическом конгрессе в Ванкувере. На этот конгресс было отобрано много докладов российских математиков, в том числе Давида Каждана, Иосифа Бернштейна, Григория Маргулиса, Михаила Бирмана и др. Эти доклады были включены в расписание, и их нельзя было заменять. Но тех, кого я перечислил, и меня тоже советский Национальный комитет математиков (был такой одно время) не рекомендовал университетам и институтам, где они работали, посылать на конгресс. Да университеты и сами бы не выпустили. И вот на самом конгрессе расписание составлено, а докладчика, которого объявляет председательствующий, — нет. И наступала тишина, ее и назвали Russian Time.
Кстати, у этой истории было замечательное продолжение. Не так давно Международный математический союз опубликовал в Интернете фамилии всех докладчиков всех конгрессов, и там не было упоминаний о таких несостоявшихся докладчиках. Я написал им, что они не смогли выступить не по их вине, и попросил включить их имена в общий список. На это мне написали, что это повлечет большие трудности, потому что тогда нужно рассматривать и докладчиков из Китая, математиков, которые имели схожие проблемы, и т. д. Но в итоге, к их чести, в конце концов они включили всех.
— Тем не менее можно слышать, что вот тогда-то, несмотря ни на что, и был расцвет науки, а после развала СССР все зачахло...
— К таким разговорам я всегда отношусь, мягко выражаясь, с недоверием. У нас как-то быстро забыли, а сейчас многие и не знают, что славу науки того времени во многом дала та часть математиков, которая в определенном смысле не была официально признана, они работали не в университетах, научных институтах и т. д., а в различных далеких от науки организациях. Им не удавалось защитить диссертации, было трудно печатать работы и т. д., а среди них были и те, кто не смог поступить на математические факультеты, но они тем не менее стали замечательными математиками. Говорить про них как о советских математиках — все равно что говорить о том, что Ахматова и Булгаков — это были замечательные советские писатели. Та же фальшь. Часто говорят, что математики уезжали из-за развала страны в перестройку. Но и это вранье.
Массовая эмиграция началась, как только была разрешена или стала возможной. В 1970—80-е годы уехало очень много ученых. Уезжали они по разным причинам, но уезжали от самой советской системы в ее различных, в том числе и «научных», проявлениях. Многих моих талантливых учеников под разными предлогами не брали в аспирантуру, не оставляли при университете. Кто хотел из них уехать, тому я активно помогал, писал рекомендации и т. д. Сегодня они работают в самых лучших университетах мира. Но они, может быть, и не поехали, если бы собственная страна их так не отталкивала. Именно в этом одна из главных причин сегодняшнего кризиса, причина того, что сегодня у нас нет уже школ по функциональному анализу, алгебраической геометрии и др. такого уровня, какой был раньше. И ответственность за нынешнее кадровое состояние науки в значительной степени лежит на представителях советской власти разного уровня. Но, по счастью, у нас есть замечательная молодежь, а это всегда вселяет надежду.
Я еще скажу одну еретическую вещь: после 1991 года у либеральных ученых был шанс забрать инициативу в научном руководстве в институтах и университетах в свои руки. Те администраторы от науки, которые выталкивали неугодных людей из науки, валили диссертации по национальному признаку и т. д., вдруг испуганно затихли, они вдруг оказались не у дел, они почувствовали, что их время прошло, — их перестали слушать. Всем становилось понятно, кто есть кто. Но оказалось, что инициативу взять некому, потому что либеральные ученые как-то тоже почему-то исчезли. И постепенно опять ожили затихшие.
— Иными словами, вы хотите сказать, что советская математика сформировалась вопреки существовавшей системе, а не благодаря ей?
— Сложно ответить однозначно. Это и так, и не так. Взаимоотношения власти и науки в советские времена прошли разные этапы, но они не были ни тогда, ни сейчас такими, какими должны быть в демократических странах. Власть обязана прислушиваться к мнению настоящих ученых, а ученые должны аргументированно оппонировать ей.
— В этом году наш журнал открыл новую рубрику, посвященную осмыслению событий столетней давности — революции 1917 года. Насколько она, на ваш взгляд, повлияла на развитие математики?
— Это огромный вопрос! Переворот 1917 года заложил известный принцип, который является базовым в любом тоталитарном государстве. Он состоит в том, что каждый гражданин должен в первую очередь служить государству. Это его обязанность, от которой он не может уклониться. Другое дело, что иногда это не противоречит его собственным целям и интересам. Но я думаю, что науке и любой другой творческой деятельности этот принцип противоречит. Тому много доказательств и примеров, есть и связанные с наукой. Но вернемся к конкретным вещам. В целом революция, а особенно последовавшее за ней время, стала сокрушительной для массы талантливых ученых. До 1917 года российская, и особенно петербургская, математическая школа была довольно сильной. Революцию часть математиков отвергла, а часть приняла с надеждой.
В целом Академия наук довольно долго пыталась сохранить свою относительную самостоятельность, в ней сохранялось много академиков, которые хотя и не афишировали это, но имели явно скептическое отношение к советской власти. Вспомним смелое и яркое выступление И. П. Павлова. Это закончилось массовым наступлением на академию в 1928-м. После этого она уже была, так сказать, инкрустирована людьми нового типа.
Среди замечательных ученых-математиков тех лет — А. А. Фридман, умерший в молодости в 1925 году от тифа, А. М. Ляпунов, который покончил с собой в 1918 году. Д. Ф. Егоров, президент Московского математического общества, который был обвинен в монархизме и осужден за религиозные убеждения вместе с известным философом А. Ф. Лосевым. Его отправили в ссылку в Казань, где он умер в тюремной больнице. Н. М. Гюнтер — петербургский математик, смелые выступления которого оставались на памяти математиков много лет.
— Вы застали кого-то из дореволюционной профессуры?
— Совсем немногих, но это было очень важно. Потому что эти люди были мостом между дореволюционной математикой и послереволюционной. Эти знакомства позволяли понять особый дух, особую традицию отношения к науке как к чему-то самоценному. В Ленинграде таким связующим звеном между дореволюционным и послереволюционным поколениями был замечательный математик Владимир Иванович Смирнов. В Москве такую же роль сыграли Дмитрий Федорович Егоров, о котором я говорил, и Николай Николаевич Лузин, чьими учениками были такие знаменитые ученые, как А. Н. Колмогоров, П. С. Урысон, Л. А. Люстерник, П. С. Новиков и др. Подлинная история советской науки и математики в частности еще не написана, и даже нет видимых попыток этого.
Очень интересна история, связанная отчасти с Санкт-Петербургским институтом им. Л. Эйлера. История скорее интересна тем подобием поведения с одной стороны математиков СССР и США и таким же подобием властей этих двух стран. Можно сказать также, что это пародия на взаимоотношения тогдашней американской и советской науки. Как известно, была такая мантра в США, и ее поддерживали у нас, что Советский Союз преуспел на первых порах в космонавтике, запусках спутников потому, что у нас было очень хорошее математическое образование. Про математическое образование чистая правда: оно было и в какой-то степени остается хорошим, но его роль в данном вопросе, конечно, сильно преувеличена. Тем не менее американцы выделили большие средства на стимулирование и развитие математических факультетов и т. д. Уже в 1980-е специалисты в американских университетах сделали целую серию хороших статей в популярных журналах о том, как математика помогает в самых разных сферах жизни. И это возымело действие. Конгресс увеличил вложения и т. д., деталей я не помню. После этого всплеска в США наше политбюро, испугавшись активности американцев, тоже приняло постановление о повышении студенческих стипендий на матфакультетах и об открытии ни много ни мало Международного математического института типа Advanced Study в Принстоне. Москва от этой идеи почему-то отказалась, тогда было решено открыть его в Киеве. Но на ту пору случилась катастрофа 1986 года в Чернобыле. Тогда идею подхватило научное начальство в Ленинграде, и у нас был организован Международный институт, получивший в 1991-м имя Леонарда Эйлера. В целом история интересная, она о том, что и та и другая сторона повышала ставки. Но сейчас это уже невозможно.
— О, это очень интересно! Вы знаете, что тогда появился иронический термин Russian Time. В 1974 году я получил приглашение сделать секционный доклад на Международном математическом конгрессе в Ванкувере. На этот конгресс было отобрано много докладов российских математиков, в том числе Давида Каждана, Иосифа Бернштейна, Григория Маргулиса, Михаила Бирмана и др. Эти доклады были включены в расписание, и их нельзя было заменять. Но тех, кого я перечислил, и меня тоже советский Национальный комитет математиков (был такой одно время) не рекомендовал университетам и институтам, где они работали, посылать на конгресс. Да университеты и сами бы не выпустили. И вот на самом конгрессе расписание составлено, а докладчика, которого объявляет председательствующий, — нет. И наступала тишина, ее и назвали Russian Time.
Кстати, у этой истории было замечательное продолжение. Не так давно Международный математический союз опубликовал в Интернете фамилии всех докладчиков всех конгрессов, и там не было упоминаний о таких несостоявшихся докладчиках. Я написал им, что они не смогли выступить не по их вине, и попросил включить их имена в общий список. На это мне написали, что это повлечет большие трудности, потому что тогда нужно рассматривать и докладчиков из Китая, математиков, которые имели схожие проблемы, и т. д. Но в итоге, к их чести, в конце концов они включили всех.
— Тем не менее можно слышать, что вот тогда-то, несмотря ни на что, и был расцвет науки, а после развала СССР все зачахло...
— К таким разговорам я всегда отношусь, мягко выражаясь, с недоверием. У нас как-то быстро забыли, а сейчас многие и не знают, что славу науки того времени во многом дала та часть математиков, которая в определенном смысле не была официально признана, они работали не в университетах, научных институтах и т. д., а в различных далеких от науки организациях. Им не удавалось защитить диссертации, было трудно печатать работы и т. д., а среди них были и те, кто не смог поступить на математические факультеты, но они тем не менее стали замечательными математиками. Говорить про них как о советских математиках — все равно что говорить о том, что Ахматова и Булгаков — это были замечательные советские писатели. Та же фальшь. Часто говорят, что математики уезжали из-за развала страны в перестройку. Но и это вранье.
Массовая эмиграция началась, как только была разрешена или стала возможной. В 1970—80-е годы уехало очень много ученых. Уезжали они по разным причинам, но уезжали от самой советской системы в ее различных, в том числе и «научных», проявлениях. Многих моих талантливых учеников под разными предлогами не брали в аспирантуру, не оставляли при университете. Кто хотел из них уехать, тому я активно помогал, писал рекомендации и т. д. Сегодня они работают в самых лучших университетах мира. Но они, может быть, и не поехали, если бы собственная страна их так не отталкивала. Именно в этом одна из главных причин сегодняшнего кризиса, причина того, что сегодня у нас нет уже школ по функциональному анализу, алгебраической геометрии и др. такого уровня, какой был раньше. И ответственность за нынешнее кадровое состояние науки в значительной степени лежит на представителях советской власти разного уровня. Но, по счастью, у нас есть замечательная молодежь, а это всегда вселяет надежду.
Я еще скажу одну еретическую вещь: после 1991 года у либеральных ученых был шанс забрать инициативу в научном руководстве в институтах и университетах в свои руки. Те администраторы от науки, которые выталкивали неугодных людей из науки, валили диссертации по национальному признаку и т. д., вдруг испуганно затихли, они вдруг оказались не у дел, они почувствовали, что их время прошло, — их перестали слушать. Всем становилось понятно, кто есть кто. Но оказалось, что инициативу взять некому, потому что либеральные ученые как-то тоже почему-то исчезли. И постепенно опять ожили затихшие.
— Иными словами, вы хотите сказать, что советская математика сформировалась вопреки существовавшей системе, а не благодаря ей?
— Сложно ответить однозначно. Это и так, и не так. Взаимоотношения власти и науки в советские времена прошли разные этапы, но они не были ни тогда, ни сейчас такими, какими должны быть в демократических странах. Власть обязана прислушиваться к мнению настоящих ученых, а ученые должны аргументированно оппонировать ей.
— В этом году наш журнал открыл новую рубрику, посвященную осмыслению событий столетней давности — революции 1917 года. Насколько она, на ваш взгляд, повлияла на развитие математики?
— Это огромный вопрос! Переворот 1917 года заложил известный принцип, который является базовым в любом тоталитарном государстве. Он состоит в том, что каждый гражданин должен в первую очередь служить государству. Это его обязанность, от которой он не может уклониться. Другое дело, что иногда это не противоречит его собственным целям и интересам. Но я думаю, что науке и любой другой творческой деятельности этот принцип противоречит. Тому много доказательств и примеров, есть и связанные с наукой. Но вернемся к конкретным вещам. В целом революция, а особенно последовавшее за ней время, стала сокрушительной для массы талантливых ученых. До 1917 года российская, и особенно петербургская, математическая школа была довольно сильной. Революцию часть математиков отвергла, а часть приняла с надеждой.
В целом Академия наук довольно долго пыталась сохранить свою относительную самостоятельность, в ней сохранялось много академиков, которые хотя и не афишировали это, но имели явно скептическое отношение к советской власти. Вспомним смелое и яркое выступление И. П. Павлова. Это закончилось массовым наступлением на академию в 1928-м. После этого она уже была, так сказать, инкрустирована людьми нового типа.
Среди замечательных ученых-математиков тех лет — А. А. Фридман, умерший в молодости в 1925 году от тифа, А. М. Ляпунов, который покончил с собой в 1918 году. Д. Ф. Егоров, президент Московского математического общества, который был обвинен в монархизме и осужден за религиозные убеждения вместе с известным философом А. Ф. Лосевым. Его отправили в ссылку в Казань, где он умер в тюремной больнице. Н. М. Гюнтер — петербургский математик, смелые выступления которого оставались на памяти математиков много лет.
— Вы застали кого-то из дореволюционной профессуры?
— Совсем немногих, но это было очень важно. Потому что эти люди были мостом между дореволюционной математикой и послереволюционной. Эти знакомства позволяли понять особый дух, особую традицию отношения к науке как к чему-то самоценному. В Ленинграде таким связующим звеном между дореволюционным и послереволюционным поколениями был замечательный математик Владимир Иванович Смирнов. В Москве такую же роль сыграли Дмитрий Федорович Егоров, о котором я говорил, и Николай Николаевич Лузин, чьими учениками были такие знаменитые ученые, как А. Н. Колмогоров, П. С. Урысон, Л. А. Люстерник, П. С. Новиков и др. Подлинная история советской науки и математики в частности еще не написана, и даже нет видимых попыток этого.
Очень интересна история, связанная отчасти с Санкт-Петербургским институтом им. Л. Эйлера. История скорее интересна тем подобием поведения с одной стороны математиков СССР и США и таким же подобием властей этих двух стран. Можно сказать также, что это пародия на взаимоотношения тогдашней американской и советской науки. Как известно, была такая мантра в США, и ее поддерживали у нас, что Советский Союз преуспел на первых порах в космонавтике, запусках спутников потому, что у нас было очень хорошее математическое образование. Про математическое образование чистая правда: оно было и в какой-то степени остается хорошим, но его роль в данном вопросе, конечно, сильно преувеличена. Тем не менее американцы выделили большие средства на стимулирование и развитие математических факультетов и т. д. Уже в 1980-е специалисты в американских университетах сделали целую серию хороших статей в популярных журналах о том, как математика помогает в самых разных сферах жизни. И это возымело действие. Конгресс увеличил вложения и т. д., деталей я не помню. После этого всплеска в США наше политбюро, испугавшись активности американцев, тоже приняло постановление о повышении студенческих стипендий на матфакультетах и об открытии ни много ни мало Международного математического института типа Advanced Study в Принстоне. Москва от этой идеи почему-то отказалась, тогда было решено открыть его в Киеве. Но на ту пору случилась катастрофа 1986 года в Чернобыле. Тогда идею подхватило научное начальство в Ленинграде, и у нас был организован Международный институт, получивший в 1991-м имя Леонарда Эйлера. В целом история интересная, она о том, что и та и другая сторона повышала ставки. Но сейчас это уже невозможно.
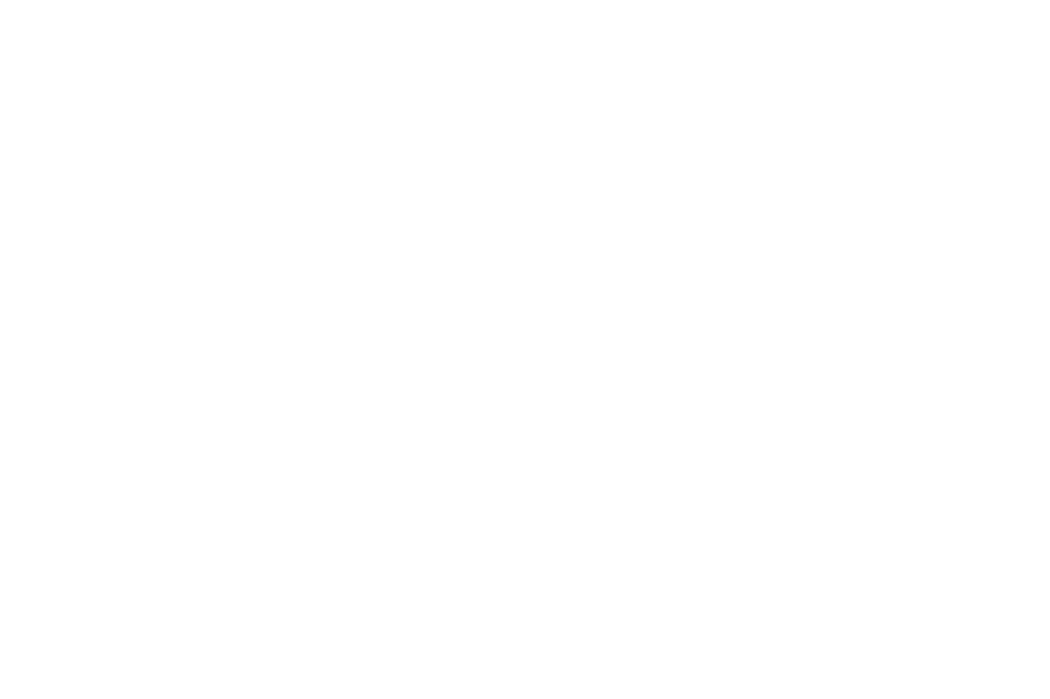
— Почему? Гонка за лидерство в науке закончилась?
— Мы живем в совершенно другом мире! Сегодня совершенно другие реалии. Я думаю, что роль фундаментальной науки будет ослабевать, но хорошо ли или плохо это для самой фундаментальной науки — неясно. Может быть, и неплохо. Что касается прикладных направлений, то политики хотят мгновенных и выигрышных приложений, прорывов, ежеминутной отчетности и т. д. Но по заказу прорывы не происходят. В этом суетливом нетерпении причина наступления на РАН 2013 года, хотя само это учреждение нуждалось и нуждается в полном переустройстве. С начала этого разгрома идет очень быстрый процесс бюрократизации, который грозит переплюнуть то, что было в СССР. То есть сама система советской организации науки развалена до основания, а этот процесс бюрократизации остался, он как бы живет сам по себе. Авторитета у академии фактически уже никакого нет. И я думаю, что нет никакого четкого видения будущего. Но есть международное сообщество ученых, российские ученые, может быть впервые, по-настоящему входят в него вот уже несколько десятков лет, невзирая на всякие политические пертурбации и тенденции. Это очень важно.
— Анатолий Моисеевич, можно ли сегодня предположить, в какую сторону будет развиваться математика, какие направления окажутся более востребованными?
— Математика — живой организм, меняющийся довольно быстро, поэтому сложно предугадать, в какую сторону она будет развиваться. Я считаю, что сегодня в математике, безусловно, преувеличивается роль прикладных направлений. Я много занимался приложениями и считаю, что математика всегда открыта к любым вторжениям computer science, физики, биологии и других областей знания. Все это, конечно, хорошо, но главное в математике, как говорил Д. Гильберт, это ее внутреннее единство, то есть глубинный смысл ее собственных меняющихся построений. В каком-то смысле математика будет существовать всегда, потому что является частью структуры человеческого разума, и уничтожить ее можно, только уничтожив само человечество.
— Мы живем в совершенно другом мире! Сегодня совершенно другие реалии. Я думаю, что роль фундаментальной науки будет ослабевать, но хорошо ли или плохо это для самой фундаментальной науки — неясно. Может быть, и неплохо. Что касается прикладных направлений, то политики хотят мгновенных и выигрышных приложений, прорывов, ежеминутной отчетности и т. д. Но по заказу прорывы не происходят. В этом суетливом нетерпении причина наступления на РАН 2013 года, хотя само это учреждение нуждалось и нуждается в полном переустройстве. С начала этого разгрома идет очень быстрый процесс бюрократизации, который грозит переплюнуть то, что было в СССР. То есть сама система советской организации науки развалена до основания, а этот процесс бюрократизации остался, он как бы живет сам по себе. Авторитета у академии фактически уже никакого нет. И я думаю, что нет никакого четкого видения будущего. Но есть международное сообщество ученых, российские ученые, может быть впервые, по-настоящему входят в него вот уже несколько десятков лет, невзирая на всякие политические пертурбации и тенденции. Это очень важно.
— Анатолий Моисеевич, можно ли сегодня предположить, в какую сторону будет развиваться математика, какие направления окажутся более востребованными?
— Математика — живой организм, меняющийся довольно быстро, поэтому сложно предугадать, в какую сторону она будет развиваться. Я считаю, что сегодня в математике, безусловно, преувеличивается роль прикладных направлений. Я много занимался приложениями и считаю, что математика всегда открыта к любым вторжениям computer science, физики, биологии и других областей знания. Все это, конечно, хорошо, но главное в математике, как говорил Д. Гильберт, это ее внутреннее единство, то есть глубинный смысл ее собственных меняющихся построений. В каком-то смысле математика будет существовать всегда, потому что является частью структуры человеческого разума, и уничтожить ее можно, только уничтожив само человечество.
Интервью опубликовано в журнале «Огонек», № 4 от 30 января 2017 года.