Никита Введенская
Золотой век был недолгим
Беседовала Елена Кудрявцева
Фото Евгения Гурко
Фото Евгения Гурко
НИКИТА ДМИТРИЕВНА ВВЕДЕНСКАЯ (1930—2022) — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Добрушинской математической лаборатории Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН). Никита Дмитриевна выросла в Ташкенте в семье врача. После школы поступила на мехмат МГУ. Принимала участие в работе школьных математических кружков мехмата. Несколько лет работала в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша, занимаясь методами гидродинамических расчетов, в конце 60-х годов прошлого века перешла в ИППИ РАН.
Проведение Международного конгресса математиков (ICM 2022) в Санкт-Петербурге решением исполкома Международного математического союза от 26.02.2022 отменено; конгресс прошел в виртуальном формате.
— Может быть, не очень хорошо с этого начинать разговор, но все-таки отмечу, что вы — первая женщина-математик в нашей чреде прогулок. Женщины редко приживаются в этой науке?
— В конце 40-х, когда я поступала на мехмат МГУ, примерно половину студентов составляли девушки. Но потом большая часть из них ушла в самые разные сферы — в службы программистов, в преподавание, в закрытые военные институты. В чистой науке и тогда в итоге оставались единицы.
— Журнал Nature недавно опубликовал данные, что сегодня в США почти половину всех степеней PhD в точных науках и инженерном деле получают женщины. Правда, потом занимают в этих сферах лишь 21 и 5 % постов соответственно.
— Это нормальный ход вещей, математика действительно очень трудная вещь, и здесь я согласна с замечательным математиком Михаилом Леонидовичем Громовым (получил премию Абеля «за революционный вклад в геометрию», работает в Институте высших научных исследований под Парижем. — Прим. ред.) — видимо, женщины меньше приспособлены к математике, как, например, и к шахматам. Но нас же не обижает, что все великие шахматисты — мужчины? Тот факт, что сейчас в математику идет много женщин, — это работа некой специальной феминистской пропаганды, а я вообще против такого тупого феминизма. Пусть каждый делает то, что у него лучше получается.
— Что же вас подтолкнуло выбрать эту науку задолго до появления в нашей стране феминизма в его современном виде? У вас была математическая семья?
— Нет, нисколько нет. У меня в роду в основном были врачи. Дед по папиной линии происходил из очень простой семьи дьякона. Он был, видимо, очень настойчивым и способным человеком, выучился на лекаря, работал в Москве и в Томске, где со временем стал профессором, организовал анатомический театр, работал в тюремном комитете (или комиссии). Мой отец тоже выучился на врача, получил диплом в 1912 году, какое-то время учился в Берлине, в Первую мировую был офицером на фронте, в частности в рядах Русского экспедиционного корпуса во Франции (войска Русской императорской армии, участвовавшие в Первой мировой войне. — Прим. ред.), был кавалером ордена Почетного легиона за храбрость, после революции работал хирургом в Томске и в Ташкенте, где возглавлял урологическую клинику. Он одним из первых в Союзе стал применять рентгеноконтроль при операциях. В войну сначала консультировал все эвакуационные госпитали, потом добился мобилизации, отправки на фронт.
В Ташкенте еще до революции была небольшая, но сильная прослойка интеллигенции — офицеры, врачи, учителя, там работали известный лингвист Поливанов, хирург и священник Войно-Ясенецкий. У нас часто бывал биолог Николай Дмитриевич Леонов (его упоминает Н. Я. Мандельштам как «абсолютно своего человека»). Близким знакомым, другом был Михаил Александрович Салье, арабист, переводчик «Тысячи и одной ночи». Меня на дому учили английскому и музыке, устраивали домашние концерты. Так что математику ничто не предвещало. Потом при Ташкентском университете по аналогии с университетом московским был организован математический кружок, проходили олимпиады, и мне понравилось решать задачи. Так просто я решила поступать на мехмат.
— Что собой представлял мехмат конца 40-х?
— Когда мы поступили, ректором МГУ был еще А. Н. Несмеянов, а потом им стал совершенно замечательный математик Иван Георгиевич Петровский. Говорят, его назначили волей Сталина, несмотря на то что Петровский был беспартийным, — такое тоже бывало. Вообще, он был исключительно порядочным и одаренным человеком, читал нам лекции, общался со студентами. Тогда весь университет был очень маленьким. Он располагался в здании на Моховой улице, и всех нас — математиков, механиков, астрономов — на курсе было всего чуть больше сотни. Но именно мехмат того времени мог похвастаться великолепным преподавательским составом. Можно сказать, что на тот момент это был самый сильный математический центр в мире.
— В конце 40-х, когда я поступала на мехмат МГУ, примерно половину студентов составляли девушки. Но потом большая часть из них ушла в самые разные сферы — в службы программистов, в преподавание, в закрытые военные институты. В чистой науке и тогда в итоге оставались единицы.
— Журнал Nature недавно опубликовал данные, что сегодня в США почти половину всех степеней PhD в точных науках и инженерном деле получают женщины. Правда, потом занимают в этих сферах лишь 21 и 5 % постов соответственно.
— Это нормальный ход вещей, математика действительно очень трудная вещь, и здесь я согласна с замечательным математиком Михаилом Леонидовичем Громовым (получил премию Абеля «за революционный вклад в геометрию», работает в Институте высших научных исследований под Парижем. — Прим. ред.) — видимо, женщины меньше приспособлены к математике, как, например, и к шахматам. Но нас же не обижает, что все великие шахматисты — мужчины? Тот факт, что сейчас в математику идет много женщин, — это работа некой специальной феминистской пропаганды, а я вообще против такого тупого феминизма. Пусть каждый делает то, что у него лучше получается.
— Что же вас подтолкнуло выбрать эту науку задолго до появления в нашей стране феминизма в его современном виде? У вас была математическая семья?
— Нет, нисколько нет. У меня в роду в основном были врачи. Дед по папиной линии происходил из очень простой семьи дьякона. Он был, видимо, очень настойчивым и способным человеком, выучился на лекаря, работал в Москве и в Томске, где со временем стал профессором, организовал анатомический театр, работал в тюремном комитете (или комиссии). Мой отец тоже выучился на врача, получил диплом в 1912 году, какое-то время учился в Берлине, в Первую мировую был офицером на фронте, в частности в рядах Русского экспедиционного корпуса во Франции (войска Русской императорской армии, участвовавшие в Первой мировой войне. — Прим. ред.), был кавалером ордена Почетного легиона за храбрость, после революции работал хирургом в Томске и в Ташкенте, где возглавлял урологическую клинику. Он одним из первых в Союзе стал применять рентгеноконтроль при операциях. В войну сначала консультировал все эвакуационные госпитали, потом добился мобилизации, отправки на фронт.
В Ташкенте еще до революции была небольшая, но сильная прослойка интеллигенции — офицеры, врачи, учителя, там работали известный лингвист Поливанов, хирург и священник Войно-Ясенецкий. У нас часто бывал биолог Николай Дмитриевич Леонов (его упоминает Н. Я. Мандельштам как «абсолютно своего человека»). Близким знакомым, другом был Михаил Александрович Салье, арабист, переводчик «Тысячи и одной ночи». Меня на дому учили английскому и музыке, устраивали домашние концерты. Так что математику ничто не предвещало. Потом при Ташкентском университете по аналогии с университетом московским был организован математический кружок, проходили олимпиады, и мне понравилось решать задачи. Так просто я решила поступать на мехмат.
— Что собой представлял мехмат конца 40-х?
— Когда мы поступили, ректором МГУ был еще А. Н. Несмеянов, а потом им стал совершенно замечательный математик Иван Георгиевич Петровский. Говорят, его назначили волей Сталина, несмотря на то что Петровский был беспартийным, — такое тоже бывало. Вообще, он был исключительно порядочным и одаренным человеком, читал нам лекции, общался со студентами. Тогда весь университет был очень маленьким. Он располагался в здании на Моховой улице, и всех нас — математиков, механиков, астрономов — на курсе было всего чуть больше сотни. Но именно мехмат того времени мог похвастаться великолепным преподавательским составом. Можно сказать, что на тот момент это был самый сильный математический центр в мире.
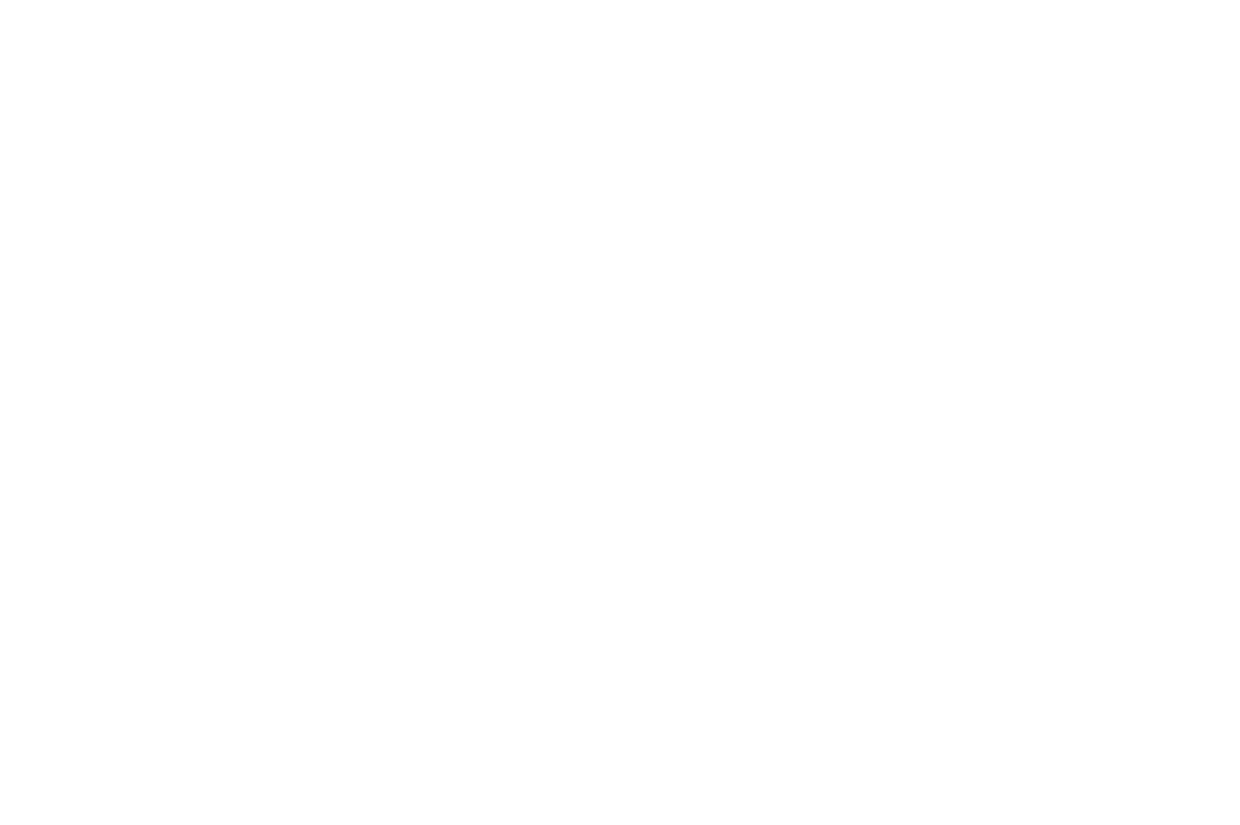
— Это несмотря на предшествовавшие этому времени репрессии и войну?
— Дело в том, что Сталин почти не истреблял математику, не знаю, почему сперва, а позже она должна была послужить атомному проекту. У математиков долгое время сохранялись связи с западными коллегами, поэтому сама наука оставалась живой, открытой, свободной от идеологии. Вся идеология сначала сводилась к тому, что математическим проблемам давали второе имя какого-нибудь советского или русского математика, который тоже работал в этой области, например, неравенство Коши стало неравенством Буняковского — Коши.
— Можете выделить самую главную составляющую хорошего математического образования того времени?
— Самым замечательным на мехмате была возможность посещать разного рода семинары. Это вообще отличие отечественной математической школы — математики любили общаться друг с другом. В то время доска объявлений на нашем этаже была увешана листочками с объявлениями семинаров, куда ты мог прийти и запросто послушать ведущих математиков в мире. Это делало математическое образование первоклассным, а теперь, когда таких величин в российской математике осталось мало, она теряет центральные позиции, превращается в провинциальную.
— Но ведь именно когда вы учились на мехмате, в МГУ началась волна антисемитизма. Как это ощущалось, переживалось изнутри?
— Я поступала в 1948 году и кончила в 1953-м, когда, как говорится, к счастью, умер Сталин. С детства я довольно хорошо представляла, в какой стране живу, и поэтому на похороны Сталина пошла из чистого любопытства. Это было такое всеобщее помешательство, и хорошо, что мы с друзьями не попали на само действо: уже на подходе к Трубной площади колыхалась огромная толпа, грозящая обернуться страшной давкой. Так вот, в 48-м людям с еврейскими корнями на мехмат еще можно было поступить, а на физфак с ними уже откровенно не брали. Когда мы закончили учиться, то многим моим сокурсникам уже невозможно было попасть в аспирантуру, устроиться на работу, и замечательные математики шли преподавать в школы. Переживалось это очень болезненно, потому что речь шла о самых близких людях, и не только поэтому. Тогда еврейский вопрос был лакмусовой бумажкой, по которой можно было определить, относится человек к приличному обществу или нет.
Потом, в 60-е годы, был период, когда этот маразм закончился и наступил недолгий золотой век мехмата. В конце 60-х опять началась антисемитская кампания, которая теперь велась практически официально. Тогда параллельно системе возникла целая череда частных кружков для талантливых школьников, которых не взяли на мехмат. Можно сказать, что из этого вырос тот независимый университет, который мы сегодня знаем.
— Дело в том, что Сталин почти не истреблял математику, не знаю, почему сперва, а позже она должна была послужить атомному проекту. У математиков долгое время сохранялись связи с западными коллегами, поэтому сама наука оставалась живой, открытой, свободной от идеологии. Вся идеология сначала сводилась к тому, что математическим проблемам давали второе имя какого-нибудь советского или русского математика, который тоже работал в этой области, например, неравенство Коши стало неравенством Буняковского — Коши.
— Можете выделить самую главную составляющую хорошего математического образования того времени?
— Самым замечательным на мехмате была возможность посещать разного рода семинары. Это вообще отличие отечественной математической школы — математики любили общаться друг с другом. В то время доска объявлений на нашем этаже была увешана листочками с объявлениями семинаров, куда ты мог прийти и запросто послушать ведущих математиков в мире. Это делало математическое образование первоклассным, а теперь, когда таких величин в российской математике осталось мало, она теряет центральные позиции, превращается в провинциальную.
— Но ведь именно когда вы учились на мехмате, в МГУ началась волна антисемитизма. Как это ощущалось, переживалось изнутри?
— Я поступала в 1948 году и кончила в 1953-м, когда, как говорится, к счастью, умер Сталин. С детства я довольно хорошо представляла, в какой стране живу, и поэтому на похороны Сталина пошла из чистого любопытства. Это было такое всеобщее помешательство, и хорошо, что мы с друзьями не попали на само действо: уже на подходе к Трубной площади колыхалась огромная толпа, грозящая обернуться страшной давкой. Так вот, в 48-м людям с еврейскими корнями на мехмат еще можно было поступить, а на физфак с ними уже откровенно не брали. Когда мы закончили учиться, то многим моим сокурсникам уже невозможно было попасть в аспирантуру, устроиться на работу, и замечательные математики шли преподавать в школы. Переживалось это очень болезненно, потому что речь шла о самых близких людях, и не только поэтому. Тогда еврейский вопрос был лакмусовой бумажкой, по которой можно было определить, относится человек к приличному обществу или нет.
Потом, в 60-е годы, был период, когда этот маразм закончился и наступил недолгий золотой век мехмата. В конце 60-х опять началась антисемитская кампания, которая теперь велась практически официально. Тогда параллельно системе возникла целая череда частных кружков для талантливых школьников, которых не взяли на мехмат. Можно сказать, что из этого вырос тот независимый университет, который мы сегодня знаем.
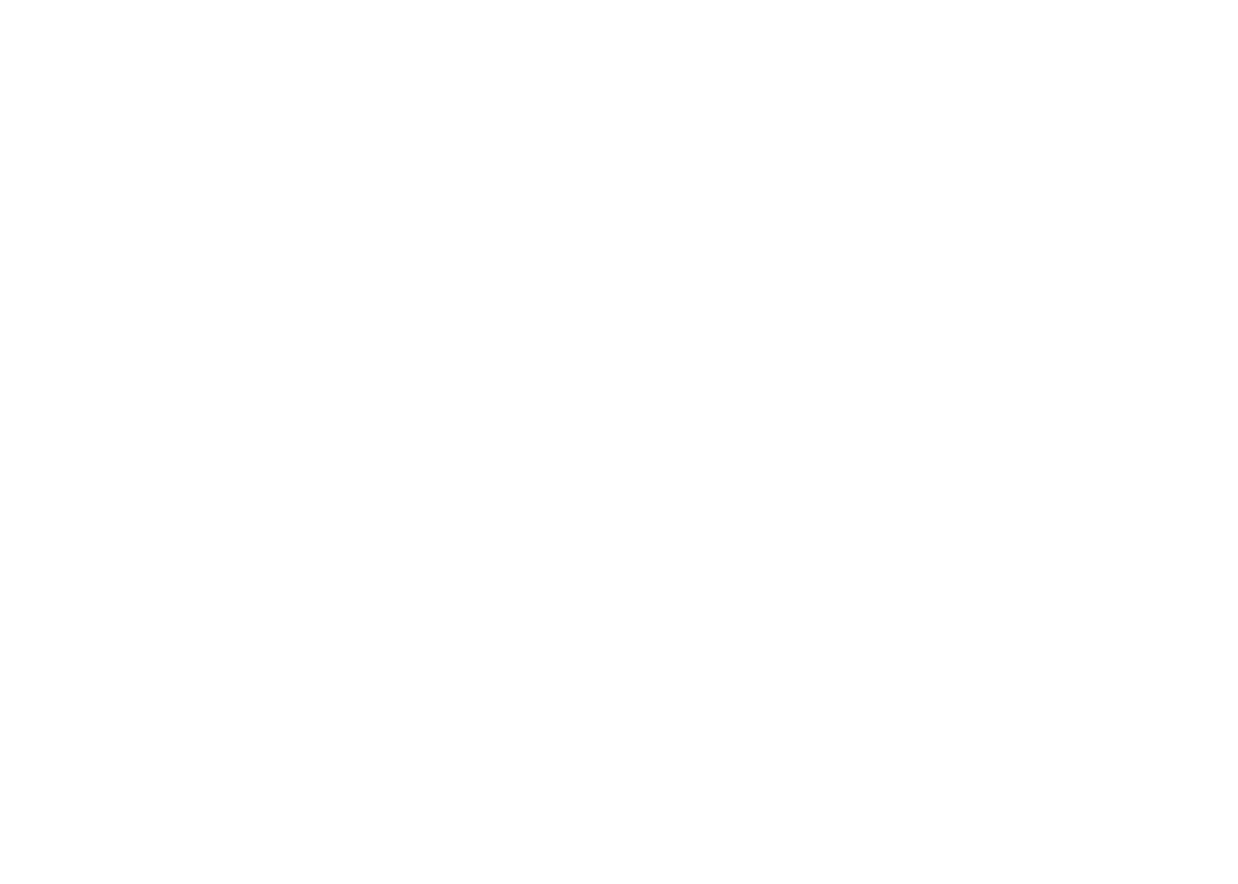
— Когда вы поступили на мехмат, что было пределом мечтаний? Какие области считались самыми перспективными?
— Тогда я абсолютно об этом не думала. Я поступила, радовалась, что учусь, что познакомилась с такими замечательными людьми. Я стала заниматься у прекрасного математика, женщины, кстати, Ольги Арсеньевны Олейник, которая после смерти Петровского заведовала кафедрой дифференциальных уравнений мехмата МГУ. Но сначала мне удалось поработать (немного) в семинаре очень интересного математика Александра Семеновича Кронрода. Он был незаурядным человеком, очень громким, жизнерадостным и общительным, который со всеми сразу переходил на «ты». Кронрод одним из первых у нас в стране стал интересоваться вычислительной математикой и тем, что сейчас называется computer science. Он очень рано понял, что зарождается новая наука и вместе с ней — целая новая область жизни. Он ее всячески пропагандировал, ездил на все конференции, уговаривал начальство обратить на это направление внимание и т. д. Именно он, работая в вычислительном отделе Института атомной энергии, вместе с Николаем Ивановичем Бессоновым создал РВМ — релейную вычислительную машину (прототип ЭВМ).
— Кронрода считают основоположником создания направления искусственного интеллекта. Он и до этого додумался?
— Он во многом обогнал время, потому что подобные идеи возникли у него еще в 50-е годы. Благодаря своему характеру, умению дружить со своими сотрудниками Кронрод создал вокруг себя очень хорошую научную группу, и они выделили целую группу логических задач, над которыми было перспективно думать. Например, они взялись писать программу для карточной игры в дурака. Смешно, но оказалось, что это намного труднее, чем написать программу для шахмат. Первые компьютерные шахматные программы были созданы как раз в Советском Союзе под эгидой Кронрода в 1966 году. В 67-м их программа соревновалась с шахматной программой, созданной американцами в Стэнфордском университете. Коды передавались по телеграфу раз в неделю, так что матч продолжался целый год. В итоге со счетом 3:1 победила программа Кронрода. Вот это мало кто знает и понимает.
— А тогда у него было много единомышленников? Удалось разглядеть, что именно за этой наукой будущее?
— Конечно нет! То, что позже стало называться высоким программированием, тогда не было оценено. Только теперь мы понимаем, что это действительно определило развитие современного мира. Тогда такого понимания не было, и для подтверждения я хочу рассказать случай, о котором мало кто помнит, но который, пожалуй, повлиял на историю советской науки. Шел очередной семинар Мстислава Всеволодовича Келдыша — они проводились каждые две недели. Это было время Хрущева, когда Келдыш был директором Института прикладной математики, президентом Академии наук, членом ЦК, возглавлял научную часть космической программы, то есть стоял очень высоко и был необыкновенно влиятельным человеком. Так вот, на семинаре делал доклад Михаил Романович Шура-Бура — заведующий отделом системного программирования Института прикладной математики АН (занимался решением расчетных задач, связанных с программами атомной и термоядерной энергетики. — Прим. ред.). Он говорил о том, что в США начинают развиваться гигантские вычислительные машины, которые постепенно входят в повседневную жизнь и уже начинают применяться в бизнесе, в частных компаниях, в магазинах. То есть речь идет о первых шагах компьютерной техники. В докладе звучала мысль, что этим стоит серьезно заниматься, то есть нужно выделять людей для работы, вкладывать средства и т. д. Келдыш, как правило, комментировал выступления, и вот после доклада он тихим голосом, как привык говорить всегда, сказал: «А может, лучше вкладывать деньги не в вычислительные машины, а в сельское хозяйство?» Это было воспринято как сигнал к действию, и с того времени мы стали катастрофически отставать в области вычислительной техники, потому что не было принято решение продвигать компьютеры.
— Многие историки говорят о том, что Келдыш в 1966 году принял драматичное решение о копировании в СССР серии IBM-360, которая к этому времени уже сильно устарела. Под это было перестроено производство, и таким образом мы действительно безнадежно отстали.
— Нормальной вычислительной техники, которая могла бы конкурировать по скорости с зарубежной, в институтах всегда не хватало. Одна из самых мощных по тем временам ЭВМ — БЭСМ существовала в единственном экземпляре (создана в 1952 году, установлена в НИИ точной механики и вычислительной техники, на ней, в частности, рассчитывали траекторию ракеты, доставившей вымпел СCCР на Луну. — Прим. ред.). Поэтому сначала мы пользовались ламповой машиной «Стрела» (их существовало всего семь образцов на страну. — Прим. ред.), не хватало элементарных электрических счетных машинок «Мерседес», которые шумели так же, как пишущие, и поставлялись в СССР из Германии. Поэтому сложно представить, но многие расчеты, в том числе для военных, совершенно закрытых и секретных нужд, делались на счетах. По крайней мере, проверяли расчеты именно так. В нынешнем мире, с его огромной индустрией софта, с огромным количеством удобных программ и приложений, это почти невозможно себе представить.
— А идеи Кронрода так и остались идеями?
— Александр Семенович был грубо уволен после того, как он подписал знаменитое «письмо 99-ти» в поддержку математика Александра Сергеевича Есенина-Вольпина (ученый, правозащитник, боровшийся за соблюдение в СССР конституционных норм. — Прим. ред.), которого поместили в психиатрическую больницу. Кронрод, как человек очень увлекающийся, стал заниматься другими вещами, например борьбой с раком. У него были своеобразные идеи, что онкологическим больным нужна терапия бактериями, и они стали с женой производить и раздавать молоко с каким-то кефирным грибком, так что к нему в Москве стояли очереди. Он сидел у постели умирающих больных, надеясь их воскресить, придумывал новые методы и проверял их на себе столь активно, что сам чуть не помер от этого.
— Тогда я абсолютно об этом не думала. Я поступила, радовалась, что учусь, что познакомилась с такими замечательными людьми. Я стала заниматься у прекрасного математика, женщины, кстати, Ольги Арсеньевны Олейник, которая после смерти Петровского заведовала кафедрой дифференциальных уравнений мехмата МГУ. Но сначала мне удалось поработать (немного) в семинаре очень интересного математика Александра Семеновича Кронрода. Он был незаурядным человеком, очень громким, жизнерадостным и общительным, который со всеми сразу переходил на «ты». Кронрод одним из первых у нас в стране стал интересоваться вычислительной математикой и тем, что сейчас называется computer science. Он очень рано понял, что зарождается новая наука и вместе с ней — целая новая область жизни. Он ее всячески пропагандировал, ездил на все конференции, уговаривал начальство обратить на это направление внимание и т. д. Именно он, работая в вычислительном отделе Института атомной энергии, вместе с Николаем Ивановичем Бессоновым создал РВМ — релейную вычислительную машину (прототип ЭВМ).
— Кронрода считают основоположником создания направления искусственного интеллекта. Он и до этого додумался?
— Он во многом обогнал время, потому что подобные идеи возникли у него еще в 50-е годы. Благодаря своему характеру, умению дружить со своими сотрудниками Кронрод создал вокруг себя очень хорошую научную группу, и они выделили целую группу логических задач, над которыми было перспективно думать. Например, они взялись писать программу для карточной игры в дурака. Смешно, но оказалось, что это намного труднее, чем написать программу для шахмат. Первые компьютерные шахматные программы были созданы как раз в Советском Союзе под эгидой Кронрода в 1966 году. В 67-м их программа соревновалась с шахматной программой, созданной американцами в Стэнфордском университете. Коды передавались по телеграфу раз в неделю, так что матч продолжался целый год. В итоге со счетом 3:1 победила программа Кронрода. Вот это мало кто знает и понимает.
— А тогда у него было много единомышленников? Удалось разглядеть, что именно за этой наукой будущее?
— Конечно нет! То, что позже стало называться высоким программированием, тогда не было оценено. Только теперь мы понимаем, что это действительно определило развитие современного мира. Тогда такого понимания не было, и для подтверждения я хочу рассказать случай, о котором мало кто помнит, но который, пожалуй, повлиял на историю советской науки. Шел очередной семинар Мстислава Всеволодовича Келдыша — они проводились каждые две недели. Это было время Хрущева, когда Келдыш был директором Института прикладной математики, президентом Академии наук, членом ЦК, возглавлял научную часть космической программы, то есть стоял очень высоко и был необыкновенно влиятельным человеком. Так вот, на семинаре делал доклад Михаил Романович Шура-Бура — заведующий отделом системного программирования Института прикладной математики АН (занимался решением расчетных задач, связанных с программами атомной и термоядерной энергетики. — Прим. ред.). Он говорил о том, что в США начинают развиваться гигантские вычислительные машины, которые постепенно входят в повседневную жизнь и уже начинают применяться в бизнесе, в частных компаниях, в магазинах. То есть речь идет о первых шагах компьютерной техники. В докладе звучала мысль, что этим стоит серьезно заниматься, то есть нужно выделять людей для работы, вкладывать средства и т. д. Келдыш, как правило, комментировал выступления, и вот после доклада он тихим голосом, как привык говорить всегда, сказал: «А может, лучше вкладывать деньги не в вычислительные машины, а в сельское хозяйство?» Это было воспринято как сигнал к действию, и с того времени мы стали катастрофически отставать в области вычислительной техники, потому что не было принято решение продвигать компьютеры.
— Многие историки говорят о том, что Келдыш в 1966 году принял драматичное решение о копировании в СССР серии IBM-360, которая к этому времени уже сильно устарела. Под это было перестроено производство, и таким образом мы действительно безнадежно отстали.
— Нормальной вычислительной техники, которая могла бы конкурировать по скорости с зарубежной, в институтах всегда не хватало. Одна из самых мощных по тем временам ЭВМ — БЭСМ существовала в единственном экземпляре (создана в 1952 году, установлена в НИИ точной механики и вычислительной техники, на ней, в частности, рассчитывали траекторию ракеты, доставившей вымпел СCCР на Луну. — Прим. ред.). Поэтому сначала мы пользовались ламповой машиной «Стрела» (их существовало всего семь образцов на страну. — Прим. ред.), не хватало элементарных электрических счетных машинок «Мерседес», которые шумели так же, как пишущие, и поставлялись в СССР из Германии. Поэтому сложно представить, но многие расчеты, в том числе для военных, совершенно закрытых и секретных нужд, делались на счетах. По крайней мере, проверяли расчеты именно так. В нынешнем мире, с его огромной индустрией софта, с огромным количеством удобных программ и приложений, это почти невозможно себе представить.
— А идеи Кронрода так и остались идеями?
— Александр Семенович был грубо уволен после того, как он подписал знаменитое «письмо 99-ти» в поддержку математика Александра Сергеевича Есенина-Вольпина (ученый, правозащитник, боровшийся за соблюдение в СССР конституционных норм. — Прим. ред.), которого поместили в психиатрическую больницу. Кронрод, как человек очень увлекающийся, стал заниматься другими вещами, например борьбой с раком. У него были своеобразные идеи, что онкологическим больным нужна терапия бактериями, и они стали с женой производить и раздавать молоко с каким-то кефирным грибком, так что к нему в Москве стояли очереди. Он сидел у постели умирающих больных, надеясь их воскресить, придумывал новые методы и проверял их на себе столь активно, что сам чуть не помер от этого.
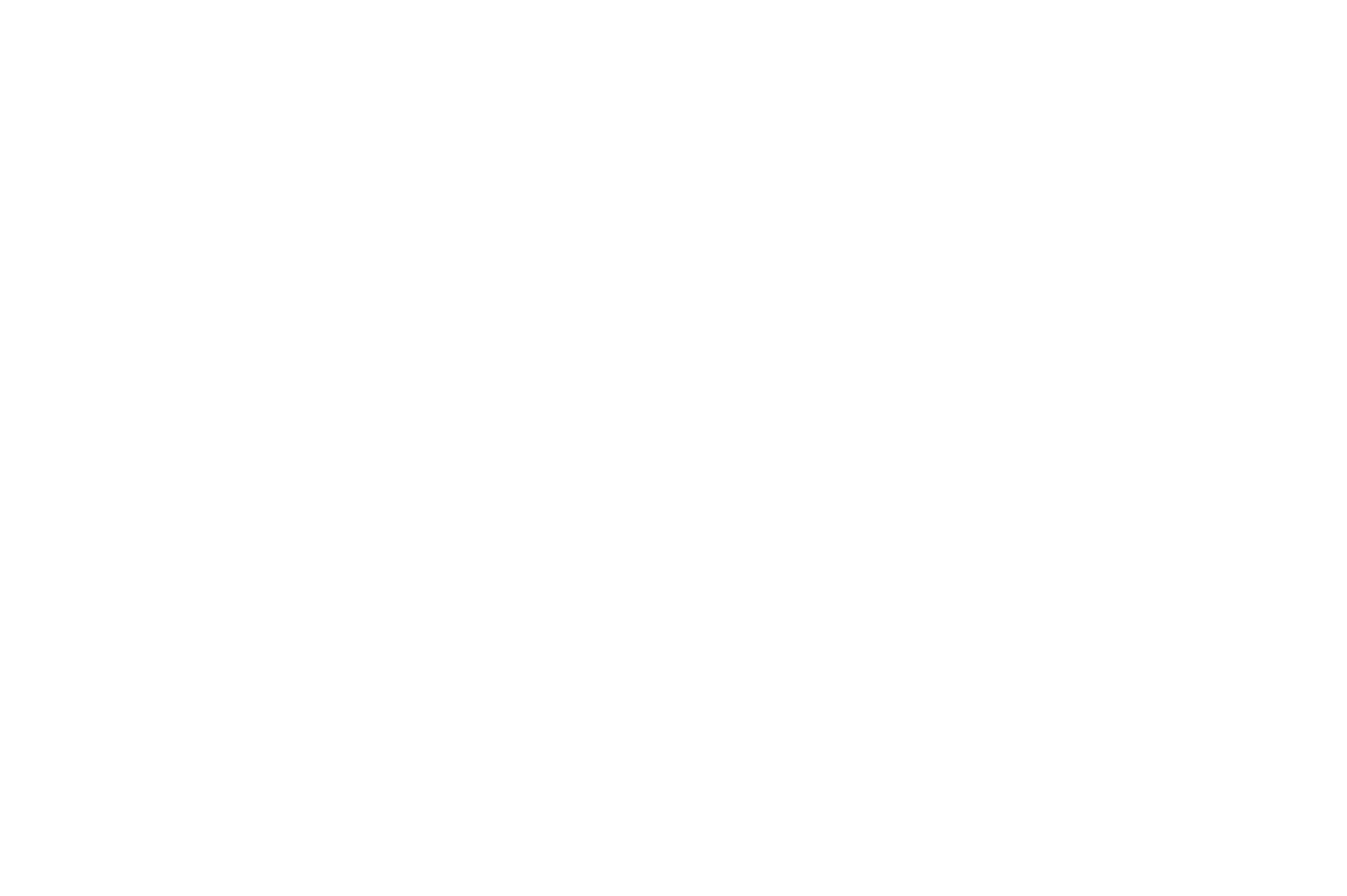
— Чем вы стали заниматься после окончания мехмата?
— После аспирантуры я работала в Институте прикладной математики (он тогда назывался Отделением Математического института АН), в отделе Константина Ивановича Бабенко. Мы занимались расчетом гидро- и газодинамических задач, что мне было интересно, нравилось. Потом я перешла в ИППИ (не по научной причине) и переключилась на задачи, связанные с проблемой передачи сообщений. Мое направление называлось «случайный множественный доступ»: когда много пользователей хотят воспользоваться каналом связи, нужно как-то организовать для них очередь. Там оказались новые и интересные задачи. Потом появились другие задачи об очередях.
— Эта работа касалась каких-то задач оборонного назначения?
— Нет, этой тематикой занималось много людей. Было предложено несколько алгоритмов, и надо было разобраться, какие из них действительно хороши. На самом деле те подходы, которые сейчас употребляются в Интернете, в большой степени основаны на разработках, которые делались в 60—70-е годы.
— Вычислительная техника в СССР развивалась практически своим, самобытным путем. Насколько вообще возможно было говорить о каком-то обмене опытом с мировым математическим сообществом?
— Практически нет, и поэтому для нас настоящим событием становились любые встречи с иностранными коллегами. Например, в 1963 году была замечательная конференция в Новосибирске по дифференциальным уравнениям, там было порядка 35 американцев и примерно 100 человек наших. На каждом шагу стояли так называемые «наблюдатели», но даже несмотря на это было ощущение, что СССР наконец-то открылся. У меня хватало нахальства делать вид, что я говорю по-английски, и я впервые познакомилась с иностранными учеными.
Другим (гораздо более важным) событием тех лет стал Международный конгресс математиков — самый престижный математический конгресс в мире, который в 1966 году прошел в Москве. Церемония открытия состоялась в Большом Кремлевском дворце, а последующие заседания проходили в 40 аудиториях здания МГУ.
— Спустя более чем полвека Россия опять подала заявку на проведение Международного конгресса математиков в 2022 году в Санкт-Петербурге.
— Да, но теперь другое время, оно несравнимо более открытое, чем в 60-е, это даже нельзя сравнивать! Тогда это было грандиозно: в столицу приехала действительно масса замечательных математиков. О размахе конгресса можно судить по числу участников — более 5 тысяч! И из них из Советского Союза была почти половина. Далее по числу участников шли США — американцы, немцы, англичане, французы. В рамках конгресса объявлялись имена лауреатов престижных премий за достижения в математике. Но у нас самое сильное впечатление на этом конгрессе было от общения. К тому времени я уже кого-то знала, они знакомили с другими математиками. Помню, как после конференции многие ученые гуляли по городу и купались в Москве-реке.
После этого у меня появились американские друзья, мы стали переписываться, и это было главной причиной, почему я ушла с работы в закрытом тогда Институте прикладной математики, — такие вещи невозможно было совмещать. Интересно, что один мой американский друг с тех пор начал присылать мне журнал Newsweek, который регулярно воровали на почте. В итоге до меня доходили отдельные экземпляры во время всяких каникул и отпускных периодов, когда, по всей вероятности, ворующая единица бывала в отпуске.
— У вас было ощущение, что американское математическое сообщество принципиально иное, чем у нас, или математики узнают друг друга помимо каких-то там национальных, идеологических границ?
— Во всяком случае, со всеми, с кем я общалась, таких границ не было. Простите за снобизм, но это все-таки была настоящая элита интеллектуального мира.
— То есть математика давала некую интеллектуальную свободу, воспитывала более независимых людей?
— Вовсе нет, среди математиков столько же тупых и ограниченных людей, сколько и среди других. Столько же умных и дураков, сколько среди остальных. Математические способности не связаны с прочими интеллектуальными способностями. Это совершенно разные вещи.
— После аспирантуры я работала в Институте прикладной математики (он тогда назывался Отделением Математического института АН), в отделе Константина Ивановича Бабенко. Мы занимались расчетом гидро- и газодинамических задач, что мне было интересно, нравилось. Потом я перешла в ИППИ (не по научной причине) и переключилась на задачи, связанные с проблемой передачи сообщений. Мое направление называлось «случайный множественный доступ»: когда много пользователей хотят воспользоваться каналом связи, нужно как-то организовать для них очередь. Там оказались новые и интересные задачи. Потом появились другие задачи об очередях.
— Эта работа касалась каких-то задач оборонного назначения?
— Нет, этой тематикой занималось много людей. Было предложено несколько алгоритмов, и надо было разобраться, какие из них действительно хороши. На самом деле те подходы, которые сейчас употребляются в Интернете, в большой степени основаны на разработках, которые делались в 60—70-е годы.
— Вычислительная техника в СССР развивалась практически своим, самобытным путем. Насколько вообще возможно было говорить о каком-то обмене опытом с мировым математическим сообществом?
— Практически нет, и поэтому для нас настоящим событием становились любые встречи с иностранными коллегами. Например, в 1963 году была замечательная конференция в Новосибирске по дифференциальным уравнениям, там было порядка 35 американцев и примерно 100 человек наших. На каждом шагу стояли так называемые «наблюдатели», но даже несмотря на это было ощущение, что СССР наконец-то открылся. У меня хватало нахальства делать вид, что я говорю по-английски, и я впервые познакомилась с иностранными учеными.
Другим (гораздо более важным) событием тех лет стал Международный конгресс математиков — самый престижный математический конгресс в мире, который в 1966 году прошел в Москве. Церемония открытия состоялась в Большом Кремлевском дворце, а последующие заседания проходили в 40 аудиториях здания МГУ.
— Спустя более чем полвека Россия опять подала заявку на проведение Международного конгресса математиков в 2022 году в Санкт-Петербурге.
— Да, но теперь другое время, оно несравнимо более открытое, чем в 60-е, это даже нельзя сравнивать! Тогда это было грандиозно: в столицу приехала действительно масса замечательных математиков. О размахе конгресса можно судить по числу участников — более 5 тысяч! И из них из Советского Союза была почти половина. Далее по числу участников шли США — американцы, немцы, англичане, французы. В рамках конгресса объявлялись имена лауреатов престижных премий за достижения в математике. Но у нас самое сильное впечатление на этом конгрессе было от общения. К тому времени я уже кого-то знала, они знакомили с другими математиками. Помню, как после конференции многие ученые гуляли по городу и купались в Москве-реке.
После этого у меня появились американские друзья, мы стали переписываться, и это было главной причиной, почему я ушла с работы в закрытом тогда Институте прикладной математики, — такие вещи невозможно было совмещать. Интересно, что один мой американский друг с тех пор начал присылать мне журнал Newsweek, который регулярно воровали на почте. В итоге до меня доходили отдельные экземпляры во время всяких каникул и отпускных периодов, когда, по всей вероятности, ворующая единица бывала в отпуске.
— У вас было ощущение, что американское математическое сообщество принципиально иное, чем у нас, или математики узнают друг друга помимо каких-то там национальных, идеологических границ?
— Во всяком случае, со всеми, с кем я общалась, таких границ не было. Простите за снобизм, но это все-таки была настоящая элита интеллектуального мира.
— То есть математика давала некую интеллектуальную свободу, воспитывала более независимых людей?
— Вовсе нет, среди математиков столько же тупых и ограниченных людей, сколько и среди других. Столько же умных и дураков, сколько среди остальных. Математические способности не связаны с прочими интеллектуальными способностями. Это совершенно разные вещи.
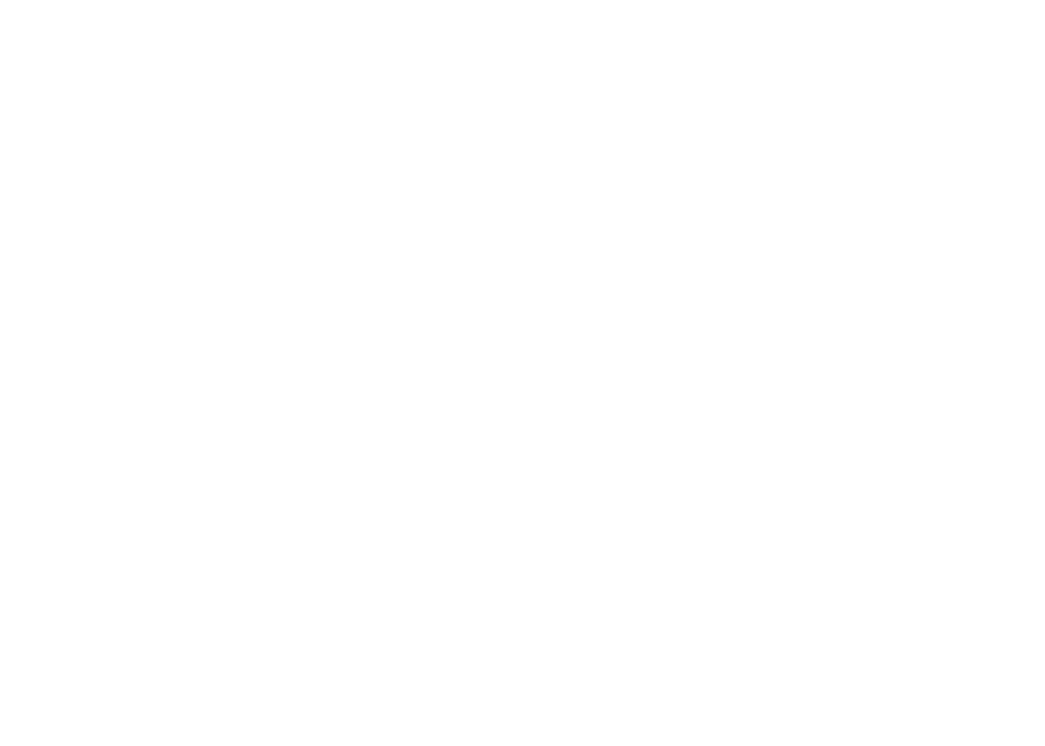
— Почему вы не уехали из страны?
— С одной стороны, простите за высокие слова, всегда считала, что надо жить в своей стране и по возможности приносить ей пользу. С другой, не было повода, не было человека, за которым бы я туда поехала. Когда же такая возможность появилась и мы стали ездить, то я поняла, что мне намного интереснее жить здесь, я болею за то, что происходит здесь.
— Мы гуляем от дома-музея Максима Горького к Патриаршим прудам. Это не совсем математические места, но они имеют прямую связь с историей вашей семьи.
— Дело в том, что мой дед до революции купил себе целое подворье на Патриарших прудах. После войны я еще видела этот дом, потом его снесли и на его месте построили другой, казавшийся нам очень высоким, — «генеральский дом со львами». Оказалось, что одна из моих теток жила во флигеле этого же дома, теперь уже в коммунальной квартире. На Патриарших мы часто гуляли студентами, так как я жила в центре, в квартире другой тетки на Остоженке, — она продала свой дом с садом в Ташкенте и переехала сюда после войны. Тогда в Москве было всего два или три кооперативных дома, где можно было купить жилье. Этот был один из них — в 1937-м очень многих жителей отсюда арестовали.
— А родственные связи с семьей Горького давали вам какие-то преимущества по жизни? Надежда Алексеевна Пешкова (урожденная Введенская, про прозвищу Тимоша) — жена сына Максима Горького — младшая сестра вашего отца.
— Никаких преимуществ это не давало. Горький видел меня, когда мне было три года, и я этого, конечно, абсолютно не помню. В Ташкенте во время войны была огромная эвакуация, к нам из Ленинграда приехала мамина сестра, из Москвы моя тетка — жена папиного брата с тремя детьми. У другой моей тетки Веры Алексеевны был большой дом, у них как раз жила семья Надежды Алексеевны Пешковой вместе с детьми Дарьей и Марфой. Конечно, с ними мы общались, но с самим Максимом Горьким никаких, естественно, связей не было. Родители, наверное, считали его интересным человеком и интересным писателем, но никакого культа Горького в семье не было.
— Никита Дмитриевна, откуда у вас такое имя интересное?
— Папа придумал. Он думал, что родится мальчик, а поскольку он умел выкидывать фортели, он назвал меня так. Это очень мешает на самом деле, так как зря привлекает внимание...
— С одной стороны, простите за высокие слова, всегда считала, что надо жить в своей стране и по возможности приносить ей пользу. С другой, не было повода, не было человека, за которым бы я туда поехала. Когда же такая возможность появилась и мы стали ездить, то я поняла, что мне намного интереснее жить здесь, я болею за то, что происходит здесь.
— Мы гуляем от дома-музея Максима Горького к Патриаршим прудам. Это не совсем математические места, но они имеют прямую связь с историей вашей семьи.
— Дело в том, что мой дед до революции купил себе целое подворье на Патриарших прудах. После войны я еще видела этот дом, потом его снесли и на его месте построили другой, казавшийся нам очень высоким, — «генеральский дом со львами». Оказалось, что одна из моих теток жила во флигеле этого же дома, теперь уже в коммунальной квартире. На Патриарших мы часто гуляли студентами, так как я жила в центре, в квартире другой тетки на Остоженке, — она продала свой дом с садом в Ташкенте и переехала сюда после войны. Тогда в Москве было всего два или три кооперативных дома, где можно было купить жилье. Этот был один из них — в 1937-м очень многих жителей отсюда арестовали.
— А родственные связи с семьей Горького давали вам какие-то преимущества по жизни? Надежда Алексеевна Пешкова (урожденная Введенская, про прозвищу Тимоша) — жена сына Максима Горького — младшая сестра вашего отца.
— Никаких преимуществ это не давало. Горький видел меня, когда мне было три года, и я этого, конечно, абсолютно не помню. В Ташкенте во время войны была огромная эвакуация, к нам из Ленинграда приехала мамина сестра, из Москвы моя тетка — жена папиного брата с тремя детьми. У другой моей тетки Веры Алексеевны был большой дом, у них как раз жила семья Надежды Алексеевны Пешковой вместе с детьми Дарьей и Марфой. Конечно, с ними мы общались, но с самим Максимом Горьким никаких, естественно, связей не было. Родители, наверное, считали его интересным человеком и интересным писателем, но никакого культа Горького в семье не было.
— Никита Дмитриевна, откуда у вас такое имя интересное?
— Папа придумал. Он думал, что родится мальчик, а поскольку он умел выкидывать фортели, он назвал меня так. Это очень мешает на самом деле, так как зря привлекает внимание...
Интервью опубликовано в журнале «Огонек», № 40 от 10 октября 2016 года.