РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Леонид Мирный
Идея незавершения
Идея незавершения
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Леонид Мирный
Идея незавершения
Идея незавершения
- Разговоро самой главной молекуле: о дуализме физики и биологии в ДНК, о ее свертывании и роли мутаций в развитии рака. А также о теории в биологии, о внутреннем антагонизме коллег к неожиданным идеям и о том, что общего у Пикассо, Родена, Леонардо и научной статьи
- ГеройЛеонид Мирный, профессор Массачусетского технологического института (США)
- СобеседникМарина Аствацатурян, научный журналист
- Беседовалив августе 2021 г.
— Леонид, расскажите о вашем научном пути. Он очень яркий — из Москвы в Институт Вейцмана в Израиле, а потом Гарвард и, наконец, MIT.
— Я окончил Московский инженерно-физический институт, поехал в Израиль учиться в Институт Вейцмана, делать магистерскую работу по химии. Все мои перемещения были движимы наукой и учебой. Я рано женился, еще в Москве, и с тех пор мы с женой везде вместе путешествовали, переезжали из страны в страну. Сначала мы переехали в Израиль, где оба учились. Потом меня приняли в Гарвард, в аспирантуру на PhD по биофизике. И мы как раз колебались, думали остаться дольше в Израиле, но в итоге поехали учиться оба — моя жена училась в Гарварде на психолога. Потом осели в Бостоне и там уже много-много лет живем, а перемещение по Бостону из Гарварда в MIT — это дело нехитрое, переход. После того как я защитил диссертацию PhD, я остался еще в Гарварде на 3 года как Junior Fellow — это независимый постдок в Harvard Society of Fellows.
Эта организация была создана в Гарварде в 30-е годы XX века, чтобы поддерживать ученых в период Великой депрессии, и с тех пор она стала таким маленьким элитным клубом, куда принимают восемь человек в год в разных областях. Среди их обязанностей — 3 года вместе ужинать раз в неделю в формальной обстановке и два раза обедать, и всё. А дальше предоставляется полная свобода интеллектуального поиска. Интересно это место тем, что там собираются люди самых разных родов деятельности: композиторы, историки, антропологи, а ученых обычно всего один-два — биолога или физика. Так что это такой разносторонний инкубатор с очень богатой питательной средой. И это позволило мне сдвинуться интеллектуально с тех задач, которыми я занимался в аспирантуре, на те задачи, которые стали меня интересовать позже. После этой позиции я искал работу и получил работу в нескольких местах — в Бостоне и не только. Я выбрал MIT и с тех пор там обитаю.
— То есть переход из физики в биологию — это был осознанный выбор, а не стихийный?
— Вы знаете, у меня не было перехода в биологию, я просто с самого начала, без преувеличения со школы, хотел заниматься биофизикой — уже поступая в МИФИ в Москве. На кафедре радиационной биофизики у меня были два замечательных научных руководителя: Сергей Андреев и Давид Михайлович Спитковский, ныне покойный. Я сразу хотел заниматься биологией, причем именно биологией и физикой, и компьютерным моделированием. Этот интерес возник частично после прочтения замечательной книги «Самая главная молекула» Максима Франк-Каменецкого. Кроме того, в тот момент стали активно появляться компьютеры, у нас в Киевском районе строили какой-то компьютерный центр — вот так выросла идея моделирования и изучения математических моделей. Так что в МИФИ я целенаправленно занимался не просто биофизикой, а именно хроматином — тем, чем я занимаюсь сейчас: складыванием ДНК.
Потому я ушел немного в другую часть биологической физики. 15–20 лет назад произошел другой большой сдвиг, когда геномика стала серьезной наукой, появились новые технологии и новые данные. И я сдвинулся ближе к геномным наукам.
— Ваша лаборатория изучает ДНК, давайте начнем с нее?
— Да, именно. ДНК не только самая главная, но и самая длинная молекула — два метра, которые упакованы в клеточном ядре в пять микрон, а диаметр самой ДНК всего около двух нанометров. Представить себе это трудно, но попытаемся: если бы ядро было размером с теннисный мячик, то длина ДНК была бы примерно 20 километров. Можно себе представить, как это трудно — 20 километров нитки запихать в теннисный мячик. Но если нитка очень тонкая, то, наверное, возможно — вопрос в том, как при этом ДНК продолжает функционировать.
С одной стороны, ДНК — это генетический материал, с другой — это физические молекулы. Это во многом подчеркивал Шрёдингер в своей книге «Что такое жизнь?»: что носитель генетической информации должен быть молекулой. Потом стало понятно, что это ДНК. Но, с другой стороны, эту информацию клетка должна читать. И вот вопрос скорее именно в том, как совмещаются эти две функции или как совмещаются эти две ипостаси: это и физический объект, как книга, и текст в этой книге. И доступ, организация чтения и упаковка — это тот вопрос, которым мы занимаемся.
Во многом мы движимы новыми данными, которые стали появляться в конце 2000-х годов. Тогда возник способ смотреть на ДНК совершенно иначе, не так, как смотрели раньше. Классический способ — это, естественно, микроскопия. То есть можно посмотреть в микроскоп на ДНК внутри клетки, и будет видна такая масса: отдельные «макаронины» ДНК не будут видны, а будет видна такая каша. Потом стало понятно, что можно отмечать какие-то места на ДНК и смотреть, где же они находятся в ядре, это происходило в 90-е. И стало видно, что ДНК уложена в ядре совсем не равномерно.
Но по-настоящему потрясающим был тот момент, когда возникла новая технология, которая использовала аппарат геномики, то есть возможности читать ДНК, чтобы понять, как она уложена. Эта технология не говорит, как уложена ДНК, но она говорит, какой кусочек ДНК рядом с каким находится или, вернее, сколь часто они бывают вместе. То есть я не знаю, грубо говоря, кто где сидит в ядре, но я знаю, кто с кем разговаривает часто («разговаривает» — в данном случае имеется в виду находится очень близко). И когда эти данные стали появляться, естественно, встал вопрос о том, как вообще думать об этом объеме данных. Представьте, как это выглядит, — это карта того, кто с кем соседи в геноме.
— Я окончил Московский инженерно-физический институт, поехал в Израиль учиться в Институт Вейцмана, делать магистерскую работу по химии. Все мои перемещения были движимы наукой и учебой. Я рано женился, еще в Москве, и с тех пор мы с женой везде вместе путешествовали, переезжали из страны в страну. Сначала мы переехали в Израиль, где оба учились. Потом меня приняли в Гарвард, в аспирантуру на PhD по биофизике. И мы как раз колебались, думали остаться дольше в Израиле, но в итоге поехали учиться оба — моя жена училась в Гарварде на психолога. Потом осели в Бостоне и там уже много-много лет живем, а перемещение по Бостону из Гарварда в MIT — это дело нехитрое, переход. После того как я защитил диссертацию PhD, я остался еще в Гарварде на 3 года как Junior Fellow — это независимый постдок в Harvard Society of Fellows.
Эта организация была создана в Гарварде в 30-е годы XX века, чтобы поддерживать ученых в период Великой депрессии, и с тех пор она стала таким маленьким элитным клубом, куда принимают восемь человек в год в разных областях. Среди их обязанностей — 3 года вместе ужинать раз в неделю в формальной обстановке и два раза обедать, и всё. А дальше предоставляется полная свобода интеллектуального поиска. Интересно это место тем, что там собираются люди самых разных родов деятельности: композиторы, историки, антропологи, а ученых обычно всего один-два — биолога или физика. Так что это такой разносторонний инкубатор с очень богатой питательной средой. И это позволило мне сдвинуться интеллектуально с тех задач, которыми я занимался в аспирантуре, на те задачи, которые стали меня интересовать позже. После этой позиции я искал работу и получил работу в нескольких местах — в Бостоне и не только. Я выбрал MIT и с тех пор там обитаю.
— То есть переход из физики в биологию — это был осознанный выбор, а не стихийный?
— Вы знаете, у меня не было перехода в биологию, я просто с самого начала, без преувеличения со школы, хотел заниматься биофизикой — уже поступая в МИФИ в Москве. На кафедре радиационной биофизики у меня были два замечательных научных руководителя: Сергей Андреев и Давид Михайлович Спитковский, ныне покойный. Я сразу хотел заниматься биологией, причем именно биологией и физикой, и компьютерным моделированием. Этот интерес возник частично после прочтения замечательной книги «Самая главная молекула» Максима Франк-Каменецкого. Кроме того, в тот момент стали активно появляться компьютеры, у нас в Киевском районе строили какой-то компьютерный центр — вот так выросла идея моделирования и изучения математических моделей. Так что в МИФИ я целенаправленно занимался не просто биофизикой, а именно хроматином — тем, чем я занимаюсь сейчас: складыванием ДНК.
Потому я ушел немного в другую часть биологической физики. 15–20 лет назад произошел другой большой сдвиг, когда геномика стала серьезной наукой, появились новые технологии и новые данные. И я сдвинулся ближе к геномным наукам.
— Ваша лаборатория изучает ДНК, давайте начнем с нее?
— Да, именно. ДНК не только самая главная, но и самая длинная молекула — два метра, которые упакованы в клеточном ядре в пять микрон, а диаметр самой ДНК всего около двух нанометров. Представить себе это трудно, но попытаемся: если бы ядро было размером с теннисный мячик, то длина ДНК была бы примерно 20 километров. Можно себе представить, как это трудно — 20 километров нитки запихать в теннисный мячик. Но если нитка очень тонкая, то, наверное, возможно — вопрос в том, как при этом ДНК продолжает функционировать.
С одной стороны, ДНК — это генетический материал, с другой — это физические молекулы. Это во многом подчеркивал Шрёдингер в своей книге «Что такое жизнь?»: что носитель генетической информации должен быть молекулой. Потом стало понятно, что это ДНК. Но, с другой стороны, эту информацию клетка должна читать. И вот вопрос скорее именно в том, как совмещаются эти две функции или как совмещаются эти две ипостаси: это и физический объект, как книга, и текст в этой книге. И доступ, организация чтения и упаковка — это тот вопрос, которым мы занимаемся.
Во многом мы движимы новыми данными, которые стали появляться в конце 2000-х годов. Тогда возник способ смотреть на ДНК совершенно иначе, не так, как смотрели раньше. Классический способ — это, естественно, микроскопия. То есть можно посмотреть в микроскоп на ДНК внутри клетки, и будет видна такая масса: отдельные «макаронины» ДНК не будут видны, а будет видна такая каша. Потом стало понятно, что можно отмечать какие-то места на ДНК и смотреть, где же они находятся в ядре, это происходило в 90-е. И стало видно, что ДНК уложена в ядре совсем не равномерно.
Но по-настоящему потрясающим был тот момент, когда возникла новая технология, которая использовала аппарат геномики, то есть возможности читать ДНК, чтобы понять, как она уложена. Эта технология не говорит, как уложена ДНК, но она говорит, какой кусочек ДНК рядом с каким находится или, вернее, сколь часто они бывают вместе. То есть я не знаю, грубо говоря, кто где сидит в ядре, но я знаю, кто с кем разговаривает часто («разговаривает» — в данном случае имеется в виду находится очень близко). И когда эти данные стали появляться, естественно, встал вопрос о том, как вообще думать об этом объеме данных. Представьте, как это выглядит, — это карта того, кто с кем соседи в геноме.
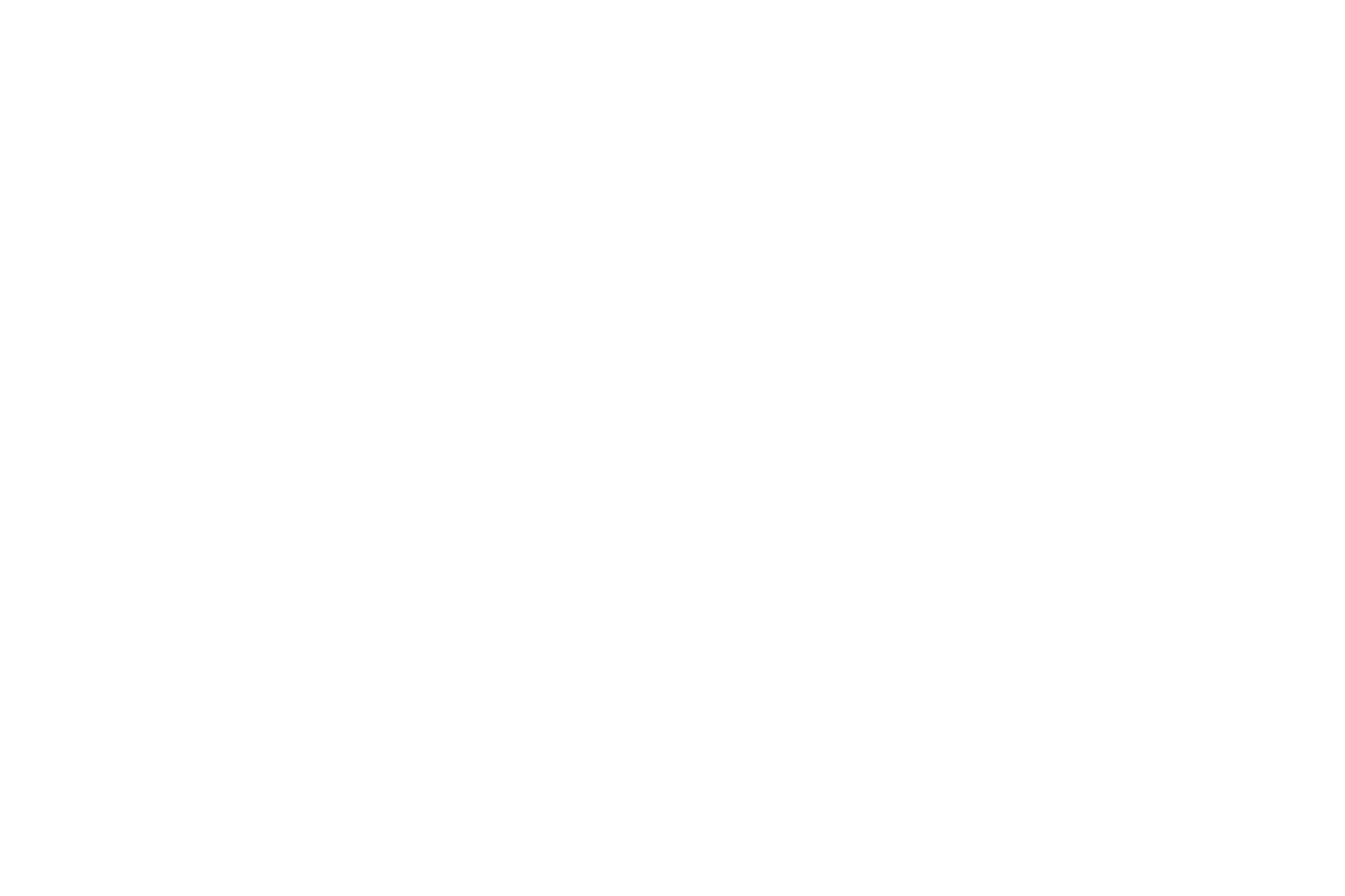
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— И здесь на помощь приходит как раз ваш оригинальный метод?
— Этот метод придумал не я, а мой коллега Йоб Деккер (Job Dekker), с которым мы много работаем вместе, с первой же статьи. Как устроен современный биологический метод? Делаются сложные эксперименты, результатом которых является чтение большого количества молекул ДНК. Чтобы превратить просто список молекул ДНК в какие-то карты и информацию, требуются вычислительные подходы. Здесь и начинается работа моей лаборатории. То есть всё, что происходит в пробирках, а потом эти жидкости вливаются в машину, которая читает ДНК, делается в экспериментальной лаборатории. А потом эта машина создает файлы с текстами ДНК, и это уже наша работа, она вычислительная и теоретическая. Первая задача — естественно, просто обработать эти данные и превратить их в карты того, кто сидит рядом с кем. Например, данные в фейсбуке можно представить себе как карту того, кто с кем часто общается (а не просто дружит). То, что мы видим, — это кто с кем в друзьях, а нам нужно сделать карту того, кто кого комментирует, — это отличная аналогия.
Мы видим, кто с кем в друзьях, и подозреваем, что, если они в друзьях как физические объекты, то есть они рядом, они не могут общаться на очень большом расстоянии, — и дальше мы это превращаем в карты. Эти карты по объему можно смотреть в программе, которую тоже мы разработали и которая похожа на Google Maps.
Но когда мы это разработали, мы поняли, что эти данные правда размером с Google Maps, то есть одна такая карта из одного эксперимента создает Google Map всего мира с разрешением в 4 метра. А если нам надо сравнивать разные типы клеток, то у нас есть 10 таких карт из одной, 10 из другой — и это как будто карта Google Earth всего на разрешении в несколько метров, то есть там огромное количество информации. И там есть свои материки, есть страны, есть города и видны дома. И дальше встает вопрос: окей, а что мы можем сказать с точки зрения биологии и что мы можем сказать с точки зрения физики, как это всё уложено, какие процессы это укладывают?
Вот здесь нам и нужны наши компьютеры, они реально позволяют нам задавать содержательные вопросы. А вдруг это уложено просто случайным образом, например, как бы тогда выглядели эти карты? Мы делаем компьютерную модель того, как бы выглядела ДНК, если бы она уложена была в это ядро случайно или по каким-то правилам, генерируем ту карту, которую мы бы ожидали увидеть, и дальше сравниваем ее с реальным экспериментом. То есть это такой в некотором смысле подход проб и ошибок. Мы пробуем разные модели и смотрим, какая из них работает.
— Просто на уровне подходит — не подходит?
— Да. С другой стороны, можно об этом думать, как о некотором подходе Шерлока Холмса. Мы не можем сказать, что произошло, но мы можем исключить очень многое из того, что не могло случиться. И, исходя из этого, подбираем возможные варианты и сверяем их с экспериментом. То, что мы узнали, действительно оказалось удивительным. Анализ этих карт и наши компьютерные модели показали, что того, как уложена ДНК в клетке, невозможно достичь, если нет специального мотора, который эту ДНК специальным очень образом укладывает. Это была гипотеза, которую мы высказали в 2015 году, — что есть очень специальный класс моторов, которые делают то, что мы называем Loop Extrusion или формирование петли, рост петли.
— Образование петли — ключевая вещь во всём этом процессе?
— Идея петли в этой области всегда была, многие видели петли ДНК — даже в 70-е годы. Дело не в самих петлях, а в том, что есть мотор — и это абсолютно ключевая идея, — который использует энергию и создает эти петли. Эти моторы в каком-то смысле похожи на те моторы, которые работают в других местах клеток, которые сжимают наши мышцы, позволяют нам двигаться, позволяют клеткам ползать и т. д. Вся жизнь внутри клетки и всего организма на самом деле абсолютно обеспечена моторами. Этот класс моторов хорошо известен, они осуществляют механические функции.
То, что есть моторы, которые складывают ДНК, явилось огромным удивлением для всех в нашей области. Это предсказание действительно было основано на теоретических соображениях. Идеи про эти моторы возникали в разные моменты в 80-е годы, в 90-е — мы сумели найти такие статьи. Примерно раз в десятилетие возникала одна статья, которая говорила: «Уж нет ли таких моторов, которые делают такие петли?» Но это были гипотезы, а мы разработали теорию. Разница между гипотезой и теорией огромная: гипотеза говорит, как оно может работать, а теория говорит, что оно именно так на самом деле работает, и подтверждает это вычислениями.
— С этой работой была связана детективная история еще, расскажете?
— Была некоторая детективная история, действительно. Эту работу про моторы мы не скрывали. Я начал рассказывать о ней до того, как мы опубликовали статью, потому что считал, что это чрезвычайно интересно и важно для нашей области. И действительно, доклады эти были восприняты с большим энтузиазмом. Потом мы повесили нашу статью на bioRxiv. Это такая форма публикации, довольно распространенная в физике и в математике, когда люди просто вешают свою статью — до журнального рецензирования, как препринт. А в биологии в 2015 году такая форма представления работы была нова. И так получилось, что некоторые коллеги, которые слышали мои доклады и которые уже видели нашу публикацию на архиве, имели смелость, будем говорить вежливо, взять эту идею, эту модель и вставить в свою уже готовую публикацию, тем самым сделав вид, что это они изобрели. Независимым образом совершенно одновременно две группы, которые были на моём докладе, опубликовали разными способами статьи, утверждая, что это они придумали. Многие в нашей области всё поняли. Никаких механизмов борьбы с таким научным пиратством реально нет — просто в нашей области науки знают, кто что сделал.
— Этот метод придумал не я, а мой коллега Йоб Деккер (Job Dekker), с которым мы много работаем вместе, с первой же статьи. Как устроен современный биологический метод? Делаются сложные эксперименты, результатом которых является чтение большого количества молекул ДНК. Чтобы превратить просто список молекул ДНК в какие-то карты и информацию, требуются вычислительные подходы. Здесь и начинается работа моей лаборатории. То есть всё, что происходит в пробирках, а потом эти жидкости вливаются в машину, которая читает ДНК, делается в экспериментальной лаборатории. А потом эта машина создает файлы с текстами ДНК, и это уже наша работа, она вычислительная и теоретическая. Первая задача — естественно, просто обработать эти данные и превратить их в карты того, кто сидит рядом с кем. Например, данные в фейсбуке можно представить себе как карту того, кто с кем часто общается (а не просто дружит). То, что мы видим, — это кто с кем в друзьях, а нам нужно сделать карту того, кто кого комментирует, — это отличная аналогия.
Мы видим, кто с кем в друзьях, и подозреваем, что, если они в друзьях как физические объекты, то есть они рядом, они не могут общаться на очень большом расстоянии, — и дальше мы это превращаем в карты. Эти карты по объему можно смотреть в программе, которую тоже мы разработали и которая похожа на Google Maps.
Но когда мы это разработали, мы поняли, что эти данные правда размером с Google Maps, то есть одна такая карта из одного эксперимента создает Google Map всего мира с разрешением в 4 метра. А если нам надо сравнивать разные типы клеток, то у нас есть 10 таких карт из одной, 10 из другой — и это как будто карта Google Earth всего на разрешении в несколько метров, то есть там огромное количество информации. И там есть свои материки, есть страны, есть города и видны дома. И дальше встает вопрос: окей, а что мы можем сказать с точки зрения биологии и что мы можем сказать с точки зрения физики, как это всё уложено, какие процессы это укладывают?
Вот здесь нам и нужны наши компьютеры, они реально позволяют нам задавать содержательные вопросы. А вдруг это уложено просто случайным образом, например, как бы тогда выглядели эти карты? Мы делаем компьютерную модель того, как бы выглядела ДНК, если бы она уложена была в это ядро случайно или по каким-то правилам, генерируем ту карту, которую мы бы ожидали увидеть, и дальше сравниваем ее с реальным экспериментом. То есть это такой в некотором смысле подход проб и ошибок. Мы пробуем разные модели и смотрим, какая из них работает.
— Просто на уровне подходит — не подходит?
— Да. С другой стороны, можно об этом думать, как о некотором подходе Шерлока Холмса. Мы не можем сказать, что произошло, но мы можем исключить очень многое из того, что не могло случиться. И, исходя из этого, подбираем возможные варианты и сверяем их с экспериментом. То, что мы узнали, действительно оказалось удивительным. Анализ этих карт и наши компьютерные модели показали, что того, как уложена ДНК в клетке, невозможно достичь, если нет специального мотора, который эту ДНК специальным очень образом укладывает. Это была гипотеза, которую мы высказали в 2015 году, — что есть очень специальный класс моторов, которые делают то, что мы называем Loop Extrusion или формирование петли, рост петли.
— Образование петли — ключевая вещь во всём этом процессе?
— Идея петли в этой области всегда была, многие видели петли ДНК — даже в 70-е годы. Дело не в самих петлях, а в том, что есть мотор — и это абсолютно ключевая идея, — который использует энергию и создает эти петли. Эти моторы в каком-то смысле похожи на те моторы, которые работают в других местах клеток, которые сжимают наши мышцы, позволяют нам двигаться, позволяют клеткам ползать и т. д. Вся жизнь внутри клетки и всего организма на самом деле абсолютно обеспечена моторами. Этот класс моторов хорошо известен, они осуществляют механические функции.
То, что есть моторы, которые складывают ДНК, явилось огромным удивлением для всех в нашей области. Это предсказание действительно было основано на теоретических соображениях. Идеи про эти моторы возникали в разные моменты в 80-е годы, в 90-е — мы сумели найти такие статьи. Примерно раз в десятилетие возникала одна статья, которая говорила: «Уж нет ли таких моторов, которые делают такие петли?» Но это были гипотезы, а мы разработали теорию. Разница между гипотезой и теорией огромная: гипотеза говорит, как оно может работать, а теория говорит, что оно именно так на самом деле работает, и подтверждает это вычислениями.
— С этой работой была связана детективная история еще, расскажете?
— Была некоторая детективная история, действительно. Эту работу про моторы мы не скрывали. Я начал рассказывать о ней до того, как мы опубликовали статью, потому что считал, что это чрезвычайно интересно и важно для нашей области. И действительно, доклады эти были восприняты с большим энтузиазмом. Потом мы повесили нашу статью на bioRxiv. Это такая форма публикации, довольно распространенная в физике и в математике, когда люди просто вешают свою статью — до журнального рецензирования, как препринт. А в биологии в 2015 году такая форма представления работы была нова. И так получилось, что некоторые коллеги, которые слышали мои доклады и которые уже видели нашу публикацию на архиве, имели смелость, будем говорить вежливо, взять эту идею, эту модель и вставить в свою уже готовую публикацию, тем самым сделав вид, что это они изобрели. Независимым образом совершенно одновременно две группы, которые были на моём докладе, опубликовали разными способами статьи, утверждая, что это они придумали. Многие в нашей области всё поняли. Никаких механизмов борьбы с таким научным пиратством реально нет — просто в нашей области науки знают, кто что сделал.
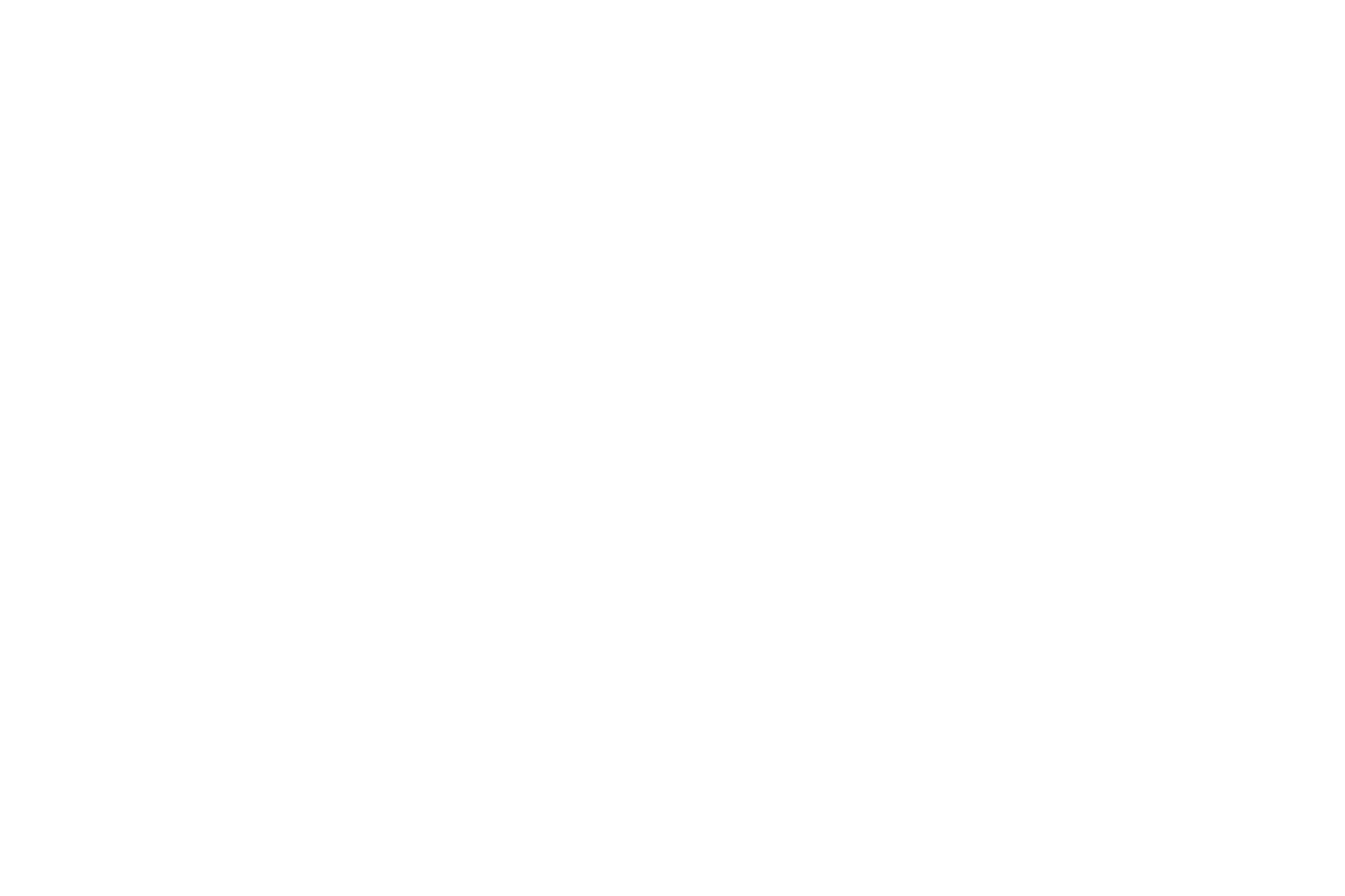
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Значит, хорошая теория?
— Да, это точно! Плохую теорию бы не украли!
— Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих моторах.
— Их было бы проще показать. Если у меня в руках кабель — это ДНК, то обе мои руки — это один мотор, и они могут сложить кабель в тугую петлю. Любой молекулярный мотор — это фермент, он потребляет энергию и катализирует некоторую реакцию. Бывают ферменты, которые не потребляют энергию, а просто катализируют реакции, а молекулярный мотор — потребляет. Моторы другого класса сокращают наши мышцы, позволяют сердцу биться и т. д.
Гипотеза состояла в том, что есть, во-первых, такие моторы, а во-вторых, есть стоп-сигналы, которые не позволяют этому мотору пройти через какое-то место на ДНК. Мы полагаем, что за счет того, что есть такие моторы, в ДНК возникает некоторый поток движения, трафик. И трафик ДНК — это петли. Почему это интересно? Потому что, во-первых, эти моторы позволяют создавать много-много таких петель, и в результате этого очень длинный кабель может оказаться сложенным в очень плотно упакованную систему из петель. Это то, что происходит в клетке в момент, когда ей нужно делиться. В этот момент нужно сделать так, чтоб два метра ДНК превратились в четыре метра ДНК и из них два метра упаковались в одно ядро, а другие два — в другое. Для этого их надо как-то очень плотно упаковать. И когда мы говорим слово «хромосома», большинство людей представляют себе такие плотно сжатые колбаски. Они возникают только в момент деления клетки. А процесс их возникновения — мы это показали в 2015 году — реализуется этими моторами.
А во-вторых, процесс формирования петель позволяет участкам ДНК вдали друг от друга вдоль нити оказаться рядом и провзаимодействовать. Например, участок ДНК, управляющий геном Х, окажется рядом с этим геном в основании петли и тем самым запустит работу этого гена. То есть работа моторов позволяет участкам ДНК, которые управляют генами, это управление осуществить. Таким образом, у моторов есть две функции: первая — упаковывать ДНК для деления и вторая — делать так, что гены управляются участками ДНК, удаленными от них на сотни тысяч и миллионы букв вдоль генома. Разбираясь с этим, мы использовали подход Шерлока Холмса. Мы не знаем, как это на самом деле происходит, как теоретики. Мы можем сказать, что если работают такие моторы — это объяснит то, что мы видим (хромосомы будут длинные, плотные и т. д.), а если действуют другие силы, то хромосомы такими не станут.
— Да, это точно! Плохую теорию бы не украли!
— Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих моторах.
— Их было бы проще показать. Если у меня в руках кабель — это ДНК, то обе мои руки — это один мотор, и они могут сложить кабель в тугую петлю. Любой молекулярный мотор — это фермент, он потребляет энергию и катализирует некоторую реакцию. Бывают ферменты, которые не потребляют энергию, а просто катализируют реакции, а молекулярный мотор — потребляет. Моторы другого класса сокращают наши мышцы, позволяют сердцу биться и т. д.
Гипотеза состояла в том, что есть, во-первых, такие моторы, а во-вторых, есть стоп-сигналы, которые не позволяют этому мотору пройти через какое-то место на ДНК. Мы полагаем, что за счет того, что есть такие моторы, в ДНК возникает некоторый поток движения, трафик. И трафик ДНК — это петли. Почему это интересно? Потому что, во-первых, эти моторы позволяют создавать много-много таких петель, и в результате этого очень длинный кабель может оказаться сложенным в очень плотно упакованную систему из петель. Это то, что происходит в клетке в момент, когда ей нужно делиться. В этот момент нужно сделать так, чтоб два метра ДНК превратились в четыре метра ДНК и из них два метра упаковались в одно ядро, а другие два — в другое. Для этого их надо как-то очень плотно упаковать. И когда мы говорим слово «хромосома», большинство людей представляют себе такие плотно сжатые колбаски. Они возникают только в момент деления клетки. А процесс их возникновения — мы это показали в 2015 году — реализуется этими моторами.
А во-вторых, процесс формирования петель позволяет участкам ДНК вдали друг от друга вдоль нити оказаться рядом и провзаимодействовать. Например, участок ДНК, управляющий геном Х, окажется рядом с этим геном в основании петли и тем самым запустит работу этого гена. То есть работа моторов позволяет участкам ДНК, которые управляют генами, это управление осуществить. Таким образом, у моторов есть две функции: первая — упаковывать ДНК для деления и вторая — делать так, что гены управляются участками ДНК, удаленными от них на сотни тысяч и миллионы букв вдоль генома. Разбираясь с этим, мы использовали подход Шерлока Холмса. Мы не знаем, как это на самом деле происходит, как теоретики. Мы можем сказать, что если работают такие моторы — это объяснит то, что мы видим (хромосомы будут длинные, плотные и т. д.), а если действуют другие силы, то хромосомы такими не станут.
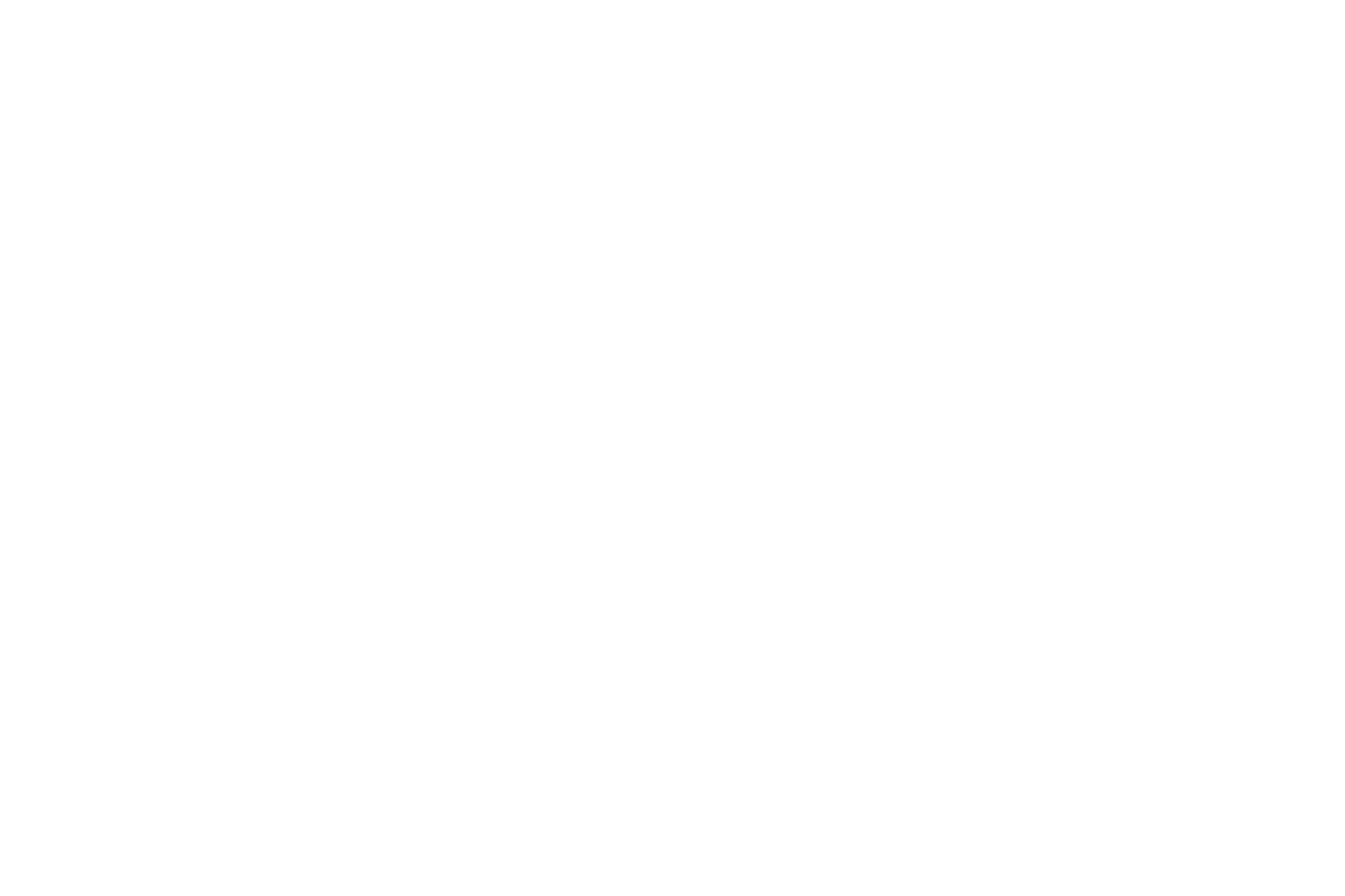
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— А есть ли альтернативные гипотезы?
— Конечно, есть. Кроме того, когда мы сказали, что некоторый класс белков, которые сидят на ДНК, — на самом деле моторы, над нами смеялись в буквальном смысле. Я делал доклад, и просто из аудитории кричали: «Нет, это ерунда. Такое невозможно, мы 20 лет изучаем эти молекулы. Они не моторы». Мои коллеги, которые были на этом докладе, до сих пор помнят этот момент, такое вообще редко в науке бывает. Я говорю: «Как вы знаете, что они не моторы?» Они говорят: «Они не потребляют энергию». Я говорю: «Может быть, они могут потреблять энергию». — «Нет, они не потребляют». Я говорю: «Знаете, вы изучаете, на мой взгляд, автомобиль, стоящий на парковке. Автомобиль, стоящий на парковке, не потребляет энергию и никуда не едет. Но это не значит, что он не может потреблять энергию, не может поехать». Это действительно аргумент, который я привел тогда. — «Мы не знаем этого».
Очень-очень сильное было сопротивление, особенно среди людей, изучающих конкретно эти белки, потому что, действительно, их изучали давно и думали, что они просто такие колечки, как на шторке, — держат два куска ДНК рядом. Мы так думаем, что иногда они и правда просто колечки. Как любой автомобиль, он может быть складом багажа на парковке, а может быть машиной, которая едет. При этом молекулярные биологи, которые изучают ДНК, с большим энтузиазмом приняли нашу идею. Она объясняет сразу очень много всего, а это, как часто бывает, признак удачной теории — это не та, которая объяснит один феномен, а та, которая объяснит сразу много.
Кстати, узнал я об этой идее насчет оценки теории, разговаривая как раз в Harvard Society of Fellows с одним из своих коллег-историков, который сейчас работает в Университете Орегона. Я как раз его спрашивал: «А что такое хорошая историческая теория?» Он говорит: «Хорошая историческая теория — это такая теория, которая объяснит сразу много всего, что произошло в какой-то исторический момент, а также сделает предсказание, что есть какой-то документ, который мы можем найти, и в этом документе говорится то и это». Этот человек занимался историей немецких газет начала XX века. В деревнях печатали местные газеты, которыми люди обменивались, они в каком-то смысле были похожи на Интернет будущего. И он развивал идею, что это похоже в каком-то смысле на социальные сети, которые возникли через 100 лет.
Наша теория оказалась теорией, у которой есть, во-первых, предсказательная сила, потому что есть такие моторы, в которые нужно правильно залить бензин — и они поедут (в данном случае — залить молекулы АТФ). А второе — она объясняла очень много феноменов клеточной биологии: конденсацию хромосом, процессы формирования определенных доменов внутри генома.
— Конечно, есть. Кроме того, когда мы сказали, что некоторый класс белков, которые сидят на ДНК, — на самом деле моторы, над нами смеялись в буквальном смысле. Я делал доклад, и просто из аудитории кричали: «Нет, это ерунда. Такое невозможно, мы 20 лет изучаем эти молекулы. Они не моторы». Мои коллеги, которые были на этом докладе, до сих пор помнят этот момент, такое вообще редко в науке бывает. Я говорю: «Как вы знаете, что они не моторы?» Они говорят: «Они не потребляют энергию». Я говорю: «Может быть, они могут потреблять энергию». — «Нет, они не потребляют». Я говорю: «Знаете, вы изучаете, на мой взгляд, автомобиль, стоящий на парковке. Автомобиль, стоящий на парковке, не потребляет энергию и никуда не едет. Но это не значит, что он не может потреблять энергию, не может поехать». Это действительно аргумент, который я привел тогда. — «Мы не знаем этого».
Очень-очень сильное было сопротивление, особенно среди людей, изучающих конкретно эти белки, потому что, действительно, их изучали давно и думали, что они просто такие колечки, как на шторке, — держат два куска ДНК рядом. Мы так думаем, что иногда они и правда просто колечки. Как любой автомобиль, он может быть складом багажа на парковке, а может быть машиной, которая едет. При этом молекулярные биологи, которые изучают ДНК, с большим энтузиазмом приняли нашу идею. Она объясняет сразу очень много всего, а это, как часто бывает, признак удачной теории — это не та, которая объяснит один феномен, а та, которая объяснит сразу много.
Кстати, узнал я об этой идее насчет оценки теории, разговаривая как раз в Harvard Society of Fellows с одним из своих коллег-историков, который сейчас работает в Университете Орегона. Я как раз его спрашивал: «А что такое хорошая историческая теория?» Он говорит: «Хорошая историческая теория — это такая теория, которая объяснит сразу много всего, что произошло в какой-то исторический момент, а также сделает предсказание, что есть какой-то документ, который мы можем найти, и в этом документе говорится то и это». Этот человек занимался историей немецких газет начала XX века. В деревнях печатали местные газеты, которыми люди обменивались, они в каком-то смысле были похожи на Интернет будущего. И он развивал идею, что это похоже в каком-то смысле на социальные сети, которые возникли через 100 лет.
Наша теория оказалась теорией, у которой есть, во-первых, предсказательная сила, потому что есть такие моторы, в которые нужно правильно залить бензин — и они поедут (в данном случае — залить молекулы АТФ). А второе — она объясняла очень много феноменов клеточной биологии: конденсацию хромосом, процессы формирования определенных доменов внутри генома.
— А что с экспериментальным подтверждением?
— В 2015 году молекулярные биологи восприняли нашу теорию с большим энтузиазмом, сразу стало понятно, что эксперимент надо сделать. А как? Надо, во-первых, попытаться эти моторы сломать или сделать так, чтобы клетка их не производила, и посмотреть, что будет. Если мы правы, то на этих картах пропадут или изменятся некоторые паттерны. Во-вторых, есть сигналы остановки моторов, как я уже говорил. То есть это не просто трафик безумный, как по пустыне, а это очень урегулированный трафик, со светофорами, сигналами «стоп» и т. д. И надо было выкинуть этот класс молекул, которые осуществляют стоп-сигналы, и посмотреть, как изменятся карты.
Эти два эксперимента были сделаны, и в 2017 году серия статей — в некоторых мы участвовали, в некоторых нет — показала, что, действительно, если эти моторы убрать, то происходит ровно то, что мы предсказывали. В 2017 году было, помоему, пять разных статей из пяти разных групп, которые одновременно бросились это делать. Все подтвердили теорию.
Но это не было концом, потому что есть много альтернативных теорий, которые можно как-то гнуть так, что будет казаться, что они тоже воспроизводят эти эксперименты. Но главная альтернативная теория состояла в следующем. Она говорила: «Нет таких моторов. Просто нет их. Это всё как-то иначе работает. Потому что мы никогда такого не видели». Главный аргумент: «Мы никогда не видели, чтобы молекула садилась на ДНК и формировала, выращивала петлю, которая так растет».
И я ходил в 2015 и 2016 году по экспериментаторам, которые изучают не клетку, а отдельные молекулы (single-molecule biophysics), которые просто берут отдельную молекулу и смотрят, как одна отдельная молекула действует на другую. Это фантастическая совершенно область, на мой взгляд.
Я раньше сотрудничал с людьми в этой области, но тогда никого не смог уговорить. Все говорили: «Это очень интересно, но это очень сложно». Так продолжалось до тех пор, пока независимо от меня коллега, биологический физик из Технического университета в Делфте Кеес Деккер, однофамилец моего коллеги в Массачусетсе, не сделал такой эксперимент. Он взял молекулу, которую мы предсказали как мотор, взял кусочек ДНК, приклеил ДНК к стеклу и стал смотреть в микроскоп. И оказалось, что действительно эта молекула села на ДНК! Он дал ей источник энергии, и она стала постепенно выращивать петлю.
Он написал мне e-mail: «Леонид, у нас страшно интересный результат. Давайте поговорим». Мы поговорили по телефону. Так получилось, что я ехал на другую конференцию в Европу, — но я, конечно, сначала приехал в Делфт. Мы стали смотреть с ним в этот микроскоп — мне, хоть и теоретику, было интересно увидеть, как сама установка устроена. Это действительно был захватывающий момент. Я помню, я летел оттуда в Берлин на крыльях. И я весь полёт думал, как это интересно получается. Действительно, как роман: предсказание, потом эксперименты, огромный поток скепсиса и непринятия этого, и потом вдруг какой-то другой физик говорит: «Мы можем это сделать» — и действительно делает! С тех пор (это начало 2018 года) и до пандемии (до конца 2019 года) выходит серия статей, в которых делают похожие эксперименты и показывают: другие молекулы этого класса тоже это делают. Была ключевая молекула, про которую были самые большие сомнения. И она, видимо, самая главная в работе ДНК не в момент клеточного деления, а во все остальные фазы жизни клетки. Эта молекула называется когезин. Она осталась как последний оплот сопротивления, и люди говорили: «Ну конечно, то молекулы, которые сжимают хромосому… Там надо сжать. Там всё понятно. Наверное, так оно работает. И вообще, мы всегда знали, что так оно работает. Но когезин — нет. Это невозможно, потому что там не сжатие, там гораздо более тонкий процесс трафика на ДНК».
И вот в сентябре 2019 года была конференция в Австрии. И вдруг объявили, что после перерыва на кофе будет доклад-сюрприз. Организаторы сказали: будет доклад-сюрприз. И все стали говорить: «Неужели нам покажут, что когезин — тоже мотор?» И все шептались. И все пришли в аудиторию, и я там тоже сидел сбоку смотрел. И действительно, доклад из лаборатории нашего коллеги из Вены. Выступал даже не он сам, а его постдок. Они сделали тот же эксперимент, что и Кеес Деккер ранее, но использовали когезин и показали, что когезин — тоже мотор и мотор такого же класса. И в зале прошло такое «у-ух». Не аплодисменты, а именно звуковая реакция.
— Гул?!
— Да, гул в небольшом зале, человек на 150. И это действительно был тот момент, когда всё стало понятно. Вопрос, существуют ли эти моторы, закрыт. Моторы эти есть во всех формах жизни. Они есть в бактериях, они есть в археях, они есть во всех эукариотах. И в нас, конечно
— Какие физические тайны биологических молекул вы считаете важным раскрыть в обозримом будущем?
— Вы, на самом деле, задали два вопроса. Один — это, собственно, какие тайны, а второй — что для этого нужно. Знаете, предсказать тайны довольно трудно. А вот что для этого нужно — это, пожалуй, интересный вопрос. Потому что действительно существует очень много огромных транснациональных консорциумов, они сфокусированы на сборе данных. И это, несомненно, очень ценно, потому что эти данные могут оказаться полезными. Но мой стиль работы другой. Как когда-то мне сказал мой коллега (мне очень понравилось это выражение, я за него зацепился): «Моя лаборатория — это интеллектуальный бутик». То, что мы делаем, мы делаем с большой любовью. Каждый продукт, каждая статья. Штучно, со вкусом, с пониманием, очень тщательно пишется каждая статья, буквально каждое предложение, каждое слово пишется вместе, коллективом. А кроме того, это бутик в том смысле, что очень важную роль играет креатив, креативность отдельных людей. У меня в лаборатории есть огромные мотки шерсти, которыми мы играем, — мы так представляем себе эту самую свернутую в теннисный мяч ДНК. Мы рисуем. Мои студенты там вообще ездят на велосипедах, прибили какие-то велосипедные шины к стене. В другом месте лаборатории прибиты какие-то старые детали от компьютеров. Например, они взяли банку из-под соленых огурцов, напихали туда старые микросхемы памяти и написали: «Память законсервированная» (Memory preserved). И так далее. Эта атмосфера работы коллектива, атмосфера творчества в первую очередь, на мой взгляд, абсолютно принципиальна для раскрытия тайн.
Консорциумы и искусственный интеллект очень важны при решении очень многих задач. Но зачастую ни то, ни другое не может сделать прорывов в понимании. Потому что здесь первым, ключевым является догадка, а ее, по-моему, нельзя таким образом получить. При этом данные, которые они производят, чрезвычайно важны. И их анализ, и machine learning — всё ценно. Но всё равно прорыв, на мой взгляд, происходит в тот момент, когда происходит догадка. И как раз наша такая playful атмосфера в лаборатории, когда мы играем с этими молекулами, — это, на мой взгляд, очень важно для догадки.
— В 2015 году молекулярные биологи восприняли нашу теорию с большим энтузиазмом, сразу стало понятно, что эксперимент надо сделать. А как? Надо, во-первых, попытаться эти моторы сломать или сделать так, чтобы клетка их не производила, и посмотреть, что будет. Если мы правы, то на этих картах пропадут или изменятся некоторые паттерны. Во-вторых, есть сигналы остановки моторов, как я уже говорил. То есть это не просто трафик безумный, как по пустыне, а это очень урегулированный трафик, со светофорами, сигналами «стоп» и т. д. И надо было выкинуть этот класс молекул, которые осуществляют стоп-сигналы, и посмотреть, как изменятся карты.
Эти два эксперимента были сделаны, и в 2017 году серия статей — в некоторых мы участвовали, в некоторых нет — показала, что, действительно, если эти моторы убрать, то происходит ровно то, что мы предсказывали. В 2017 году было, помоему, пять разных статей из пяти разных групп, которые одновременно бросились это делать. Все подтвердили теорию.
Но это не было концом, потому что есть много альтернативных теорий, которые можно как-то гнуть так, что будет казаться, что они тоже воспроизводят эти эксперименты. Но главная альтернативная теория состояла в следующем. Она говорила: «Нет таких моторов. Просто нет их. Это всё как-то иначе работает. Потому что мы никогда такого не видели». Главный аргумент: «Мы никогда не видели, чтобы молекула садилась на ДНК и формировала, выращивала петлю, которая так растет».
И я ходил в 2015 и 2016 году по экспериментаторам, которые изучают не клетку, а отдельные молекулы (single-molecule biophysics), которые просто берут отдельную молекулу и смотрят, как одна отдельная молекула действует на другую. Это фантастическая совершенно область, на мой взгляд.
Я раньше сотрудничал с людьми в этой области, но тогда никого не смог уговорить. Все говорили: «Это очень интересно, но это очень сложно». Так продолжалось до тех пор, пока независимо от меня коллега, биологический физик из Технического университета в Делфте Кеес Деккер, однофамилец моего коллеги в Массачусетсе, не сделал такой эксперимент. Он взял молекулу, которую мы предсказали как мотор, взял кусочек ДНК, приклеил ДНК к стеклу и стал смотреть в микроскоп. И оказалось, что действительно эта молекула села на ДНК! Он дал ей источник энергии, и она стала постепенно выращивать петлю.
Он написал мне e-mail: «Леонид, у нас страшно интересный результат. Давайте поговорим». Мы поговорили по телефону. Так получилось, что я ехал на другую конференцию в Европу, — но я, конечно, сначала приехал в Делфт. Мы стали смотреть с ним в этот микроскоп — мне, хоть и теоретику, было интересно увидеть, как сама установка устроена. Это действительно был захватывающий момент. Я помню, я летел оттуда в Берлин на крыльях. И я весь полёт думал, как это интересно получается. Действительно, как роман: предсказание, потом эксперименты, огромный поток скепсиса и непринятия этого, и потом вдруг какой-то другой физик говорит: «Мы можем это сделать» — и действительно делает! С тех пор (это начало 2018 года) и до пандемии (до конца 2019 года) выходит серия статей, в которых делают похожие эксперименты и показывают: другие молекулы этого класса тоже это делают. Была ключевая молекула, про которую были самые большие сомнения. И она, видимо, самая главная в работе ДНК не в момент клеточного деления, а во все остальные фазы жизни клетки. Эта молекула называется когезин. Она осталась как последний оплот сопротивления, и люди говорили: «Ну конечно, то молекулы, которые сжимают хромосому… Там надо сжать. Там всё понятно. Наверное, так оно работает. И вообще, мы всегда знали, что так оно работает. Но когезин — нет. Это невозможно, потому что там не сжатие, там гораздо более тонкий процесс трафика на ДНК».
И вот в сентябре 2019 года была конференция в Австрии. И вдруг объявили, что после перерыва на кофе будет доклад-сюрприз. Организаторы сказали: будет доклад-сюрприз. И все стали говорить: «Неужели нам покажут, что когезин — тоже мотор?» И все шептались. И все пришли в аудиторию, и я там тоже сидел сбоку смотрел. И действительно, доклад из лаборатории нашего коллеги из Вены. Выступал даже не он сам, а его постдок. Они сделали тот же эксперимент, что и Кеес Деккер ранее, но использовали когезин и показали, что когезин — тоже мотор и мотор такого же класса. И в зале прошло такое «у-ух». Не аплодисменты, а именно звуковая реакция.
— Гул?!
— Да, гул в небольшом зале, человек на 150. И это действительно был тот момент, когда всё стало понятно. Вопрос, существуют ли эти моторы, закрыт. Моторы эти есть во всех формах жизни. Они есть в бактериях, они есть в археях, они есть во всех эукариотах. И в нас, конечно
— Какие физические тайны биологических молекул вы считаете важным раскрыть в обозримом будущем?
— Вы, на самом деле, задали два вопроса. Один — это, собственно, какие тайны, а второй — что для этого нужно. Знаете, предсказать тайны довольно трудно. А вот что для этого нужно — это, пожалуй, интересный вопрос. Потому что действительно существует очень много огромных транснациональных консорциумов, они сфокусированы на сборе данных. И это, несомненно, очень ценно, потому что эти данные могут оказаться полезными. Но мой стиль работы другой. Как когда-то мне сказал мой коллега (мне очень понравилось это выражение, я за него зацепился): «Моя лаборатория — это интеллектуальный бутик». То, что мы делаем, мы делаем с большой любовью. Каждый продукт, каждая статья. Штучно, со вкусом, с пониманием, очень тщательно пишется каждая статья, буквально каждое предложение, каждое слово пишется вместе, коллективом. А кроме того, это бутик в том смысле, что очень важную роль играет креатив, креативность отдельных людей. У меня в лаборатории есть огромные мотки шерсти, которыми мы играем, — мы так представляем себе эту самую свернутую в теннисный мяч ДНК. Мы рисуем. Мои студенты там вообще ездят на велосипедах, прибили какие-то велосипедные шины к стене. В другом месте лаборатории прибиты какие-то старые детали от компьютеров. Например, они взяли банку из-под соленых огурцов, напихали туда старые микросхемы памяти и написали: «Память законсервированная» (Memory preserved). И так далее. Эта атмосфера работы коллектива, атмосфера творчества в первую очередь, на мой взгляд, абсолютно принципиальна для раскрытия тайн.
Консорциумы и искусственный интеллект очень важны при решении очень многих задач. Но зачастую ни то, ни другое не может сделать прорывов в понимании. Потому что здесь первым, ключевым является догадка, а ее, по-моему, нельзя таким образом получить. При этом данные, которые они производят, чрезвычайно важны. И их анализ, и machine learning — всё ценно. Но всё равно прорыв, на мой взгляд, происходит в тот момент, когда происходит догадка. И как раз наша такая playful атмосфера в лаборатории, когда мы играем с этими молекулами, — это, на мой взгляд, очень важно для догадки.
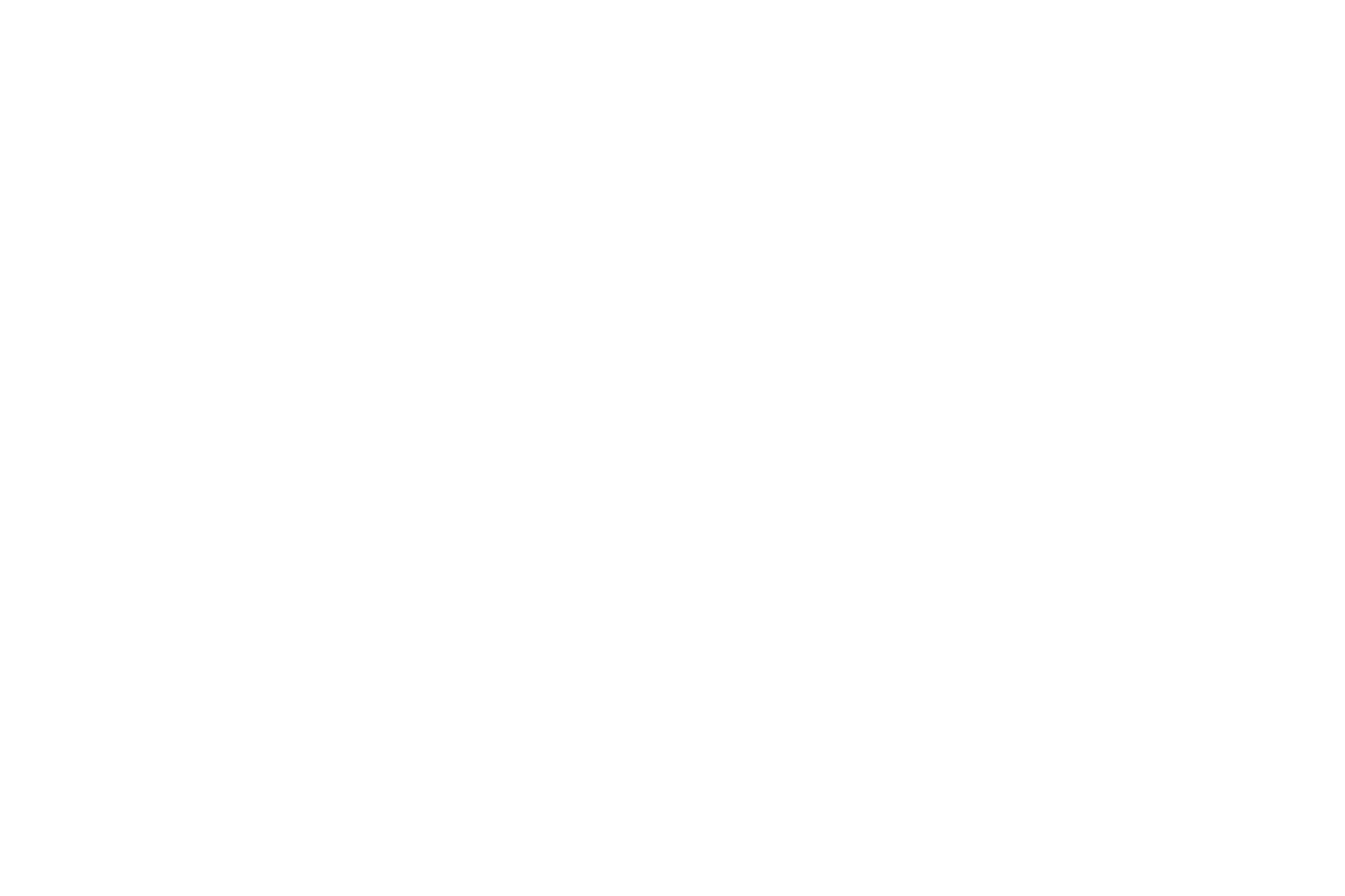
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— В составе специального подразделения Массачусетского технологического института вы занимаетесь исследованием механизмов канцерогенеза, и вы автор необычной идеи о мутациях особого типа. Расскажите о них.
— Да, вообще интересно, как я стал этим заниматься. В какой-то момент Национальный институт рака, один из Национальных институтов здоровья США, решил, что надо привлечь физиков к работе над раком. И я, так сказать, поддался на этот соблазн — решил, что это интересно и что надо подучиться в первую очередь. Стал брать курсы просто по раковой биологии в МIТ. Просто сел студентом и взял курс — очень полезный, семестровый. И потом стал об этом думать — ведь возникает очень много данных из геномики о том, какие конкретные мутации возникают в раках конкретных пациентов.
Давайте сделаем шаг назад. Рак — это эволюционный процесс, это очень важно понимать: это эволюция, происходящая внутри организма. Отдельные клетки мутируют, и если эта мутация позволяет клетке быстрее размножаться, то есть стать раковой в первую очередь, то эта мутация закрепляется в эволюции. К сожалению, в этом главная проблема борьбы с раком. Что бы мы ни делали, рак находит какой-то способ это обойти и учится очень быстро делиться и, главное, менять свою генетическую информацию. Происходит это путем случайных мутаций. Случайных не означает, что они везде с равной вероятностью, но случайных мутаций и отбора. То есть это такой дарвиновский процесс. И я стал думать: ну хорошо, а как происходит этот процесс? Клетка знает, где нужно, чтобы возникла мутация? Конечно, нет.
Дарвиновская эволюция: мутации возникают везде, и часть их полезны, а часть их вредны. А как же рак справляется с этими вредными мутациями? Может быть, в раке нет вредных мутаций? Это было бы загадочно. Мы стали изучать этот вопрос, и выяснилось, что любой рак на самом деле, видимо, развивается так же, как любая эволюционирующая популяция. В ней очень редко возникают полезные мутации и очень много случайных и вредных (здесь я имею в виду полезные и вредные — для клеток рака, для пациента всё как раз наоборот). Полезные для рака делают его более агрессивным. Но вредные тоже накапливаются и могут его подавлять. И наша точка зрения в том, что рак — это в каком-то смысле баланс между вредными и полезными мутациями. Отсюда возникает идея, что, может быть, способ борьбы с раком — это увеличить количество мутаций?
Потому что любая мутация скорее вредная, чем полезная. Возможно, это делают химиотерапия и радиационное лечение. Они увеличивают количество мутаций, а мутации обычно вредны, и поэтому они работают. Это и есть passenger mutations и driver mutations. Драйвер — это та мутация, которая позволяет раку быстрее расти. А пассажирами назвали остальные мутации, потому что думали, что они нейтральные, никто их не анализировал.
— Но это не так?
— Фокус был другой. Обычно работы в области раковой геномики говорят: мы собрали данные с тысяч пациентов и обнаружили, что в этом типе рака ключевыми являются вот эти пять мутаций. А в каждом пациенте примерно 500 мутаций. Получается, 495 они просто выкинули в корзину, потому что они разные у разных пациентов. А мы пошли в эти корзины выкинутых данных, и выяснилось, что эти мутации совсем даже не просто никому не нужные пассажиры, а что они были вредны для рака. Просто раку удавалось, несмотря на вредные мутации, развиваться. Вопрос в том, как вооружить этих пассажиров так, чтобы они, так сказать, стали более активными. Или как загрузить рак большим количеством пассажиров так, чтобы он не мог дальше развиваться. В этом ключевая идея. Проверяли мы ее экспериментально с моим коллегой из Бостонского университета Михаилом Шерманом. Он был большой скептик, ведь если выращивать рак и добавлять мутации, классическая онкологическая теория говорит: «Ну да, рак будет расти быстрее», а мы говорим: «Нет, он будет расти медленнее, потому что случайные мутации будут мешать». И, будучи скептиком, мой коллега и друг профессор Шерман стал выращивать мышей с более высоким уровнем мутаций. И, выяснилось, что раки у них вообще не растут. У них вырастает рак и остается крошечным. Он не может развиваться. Так что всё подтверждается: «пассажиры» — совсем даже не пассажиры.
— Это какая-то специальная линия мышей?
— Да, это делалось специальным образом, чтобы проверить эту теорию. Теперь нам надо дальше двигаться и думать, как это можно вообще превратить в клинику. Одна из идей, которая возникла в нашей области независимо, — что «пассажирские» мутации, возможно, делают рак более видимым для иммунной системы. И, таким образом, когда мы активируем иммунную систему одним из классов иммуннотерапии, которая сейчас используется, то, возможно, раки с большим количеством мутаций будут лучше отвечать на иммунотерапию. Гипотеза, которая согласуется с нашей идеей — что «пассажиры» вредны тем, что они активируют иммунную систему. Эта гипотеза сейчас очень распространена — что чем больше «пассажиров», тем лучше рак ответит на иммунотерапию. Мы стали смотреть на эти данные и, к моему огромному удивлению, выяснили, что это не так. Иммунная система столь мудра, что видит рак всего после пары мутаций, а все остальные «пассажиры» никакой роли уже не играют. К этому моменту рак уже должен научиться полностью подавлять иммунную систему. Это тоже была такая шумная работа, которую мы еще публикуем. Когда мы положили ее на BioRxiv, возник шторм в твиттере. Многие онкологи нас поддерживали и говорили: «Мы знаем, что иммунотерапия работает для всех пациентов». В этом состояло наше главное практическое утверждение: не надо отбирать пациентов, у которых много мутаций, чтобы давать иммунотерапию. Иммунотерапия будет работать. Если она работает для этого класса раков, то иммунотерапию надо давать всем, вне зависимости от количества мутаций. Мы надеемся двигаться дальше в эту сторону, чтобы убедить людей развивать и шире применять иммунотерапию, а также понять, собственно, как это всё устроено.
— Да, вообще интересно, как я стал этим заниматься. В какой-то момент Национальный институт рака, один из Национальных институтов здоровья США, решил, что надо привлечь физиков к работе над раком. И я, так сказать, поддался на этот соблазн — решил, что это интересно и что надо подучиться в первую очередь. Стал брать курсы просто по раковой биологии в МIТ. Просто сел студентом и взял курс — очень полезный, семестровый. И потом стал об этом думать — ведь возникает очень много данных из геномики о том, какие конкретные мутации возникают в раках конкретных пациентов.
Давайте сделаем шаг назад. Рак — это эволюционный процесс, это очень важно понимать: это эволюция, происходящая внутри организма. Отдельные клетки мутируют, и если эта мутация позволяет клетке быстрее размножаться, то есть стать раковой в первую очередь, то эта мутация закрепляется в эволюции. К сожалению, в этом главная проблема борьбы с раком. Что бы мы ни делали, рак находит какой-то способ это обойти и учится очень быстро делиться и, главное, менять свою генетическую информацию. Происходит это путем случайных мутаций. Случайных не означает, что они везде с равной вероятностью, но случайных мутаций и отбора. То есть это такой дарвиновский процесс. И я стал думать: ну хорошо, а как происходит этот процесс? Клетка знает, где нужно, чтобы возникла мутация? Конечно, нет.
Дарвиновская эволюция: мутации возникают везде, и часть их полезны, а часть их вредны. А как же рак справляется с этими вредными мутациями? Может быть, в раке нет вредных мутаций? Это было бы загадочно. Мы стали изучать этот вопрос, и выяснилось, что любой рак на самом деле, видимо, развивается так же, как любая эволюционирующая популяция. В ней очень редко возникают полезные мутации и очень много случайных и вредных (здесь я имею в виду полезные и вредные — для клеток рака, для пациента всё как раз наоборот). Полезные для рака делают его более агрессивным. Но вредные тоже накапливаются и могут его подавлять. И наша точка зрения в том, что рак — это в каком-то смысле баланс между вредными и полезными мутациями. Отсюда возникает идея, что, может быть, способ борьбы с раком — это увеличить количество мутаций?
Потому что любая мутация скорее вредная, чем полезная. Возможно, это делают химиотерапия и радиационное лечение. Они увеличивают количество мутаций, а мутации обычно вредны, и поэтому они работают. Это и есть passenger mutations и driver mutations. Драйвер — это та мутация, которая позволяет раку быстрее расти. А пассажирами назвали остальные мутации, потому что думали, что они нейтральные, никто их не анализировал.
— Но это не так?
— Фокус был другой. Обычно работы в области раковой геномики говорят: мы собрали данные с тысяч пациентов и обнаружили, что в этом типе рака ключевыми являются вот эти пять мутаций. А в каждом пациенте примерно 500 мутаций. Получается, 495 они просто выкинули в корзину, потому что они разные у разных пациентов. А мы пошли в эти корзины выкинутых данных, и выяснилось, что эти мутации совсем даже не просто никому не нужные пассажиры, а что они были вредны для рака. Просто раку удавалось, несмотря на вредные мутации, развиваться. Вопрос в том, как вооружить этих пассажиров так, чтобы они, так сказать, стали более активными. Или как загрузить рак большим количеством пассажиров так, чтобы он не мог дальше развиваться. В этом ключевая идея. Проверяли мы ее экспериментально с моим коллегой из Бостонского университета Михаилом Шерманом. Он был большой скептик, ведь если выращивать рак и добавлять мутации, классическая онкологическая теория говорит: «Ну да, рак будет расти быстрее», а мы говорим: «Нет, он будет расти медленнее, потому что случайные мутации будут мешать». И, будучи скептиком, мой коллега и друг профессор Шерман стал выращивать мышей с более высоким уровнем мутаций. И, выяснилось, что раки у них вообще не растут. У них вырастает рак и остается крошечным. Он не может развиваться. Так что всё подтверждается: «пассажиры» — совсем даже не пассажиры.
— Это какая-то специальная линия мышей?
— Да, это делалось специальным образом, чтобы проверить эту теорию. Теперь нам надо дальше двигаться и думать, как это можно вообще превратить в клинику. Одна из идей, которая возникла в нашей области независимо, — что «пассажирские» мутации, возможно, делают рак более видимым для иммунной системы. И, таким образом, когда мы активируем иммунную систему одним из классов иммуннотерапии, которая сейчас используется, то, возможно, раки с большим количеством мутаций будут лучше отвечать на иммунотерапию. Гипотеза, которая согласуется с нашей идеей — что «пассажиры» вредны тем, что они активируют иммунную систему. Эта гипотеза сейчас очень распространена — что чем больше «пассажиров», тем лучше рак ответит на иммунотерапию. Мы стали смотреть на эти данные и, к моему огромному удивлению, выяснили, что это не так. Иммунная система столь мудра, что видит рак всего после пары мутаций, а все остальные «пассажиры» никакой роли уже не играют. К этому моменту рак уже должен научиться полностью подавлять иммунную систему. Это тоже была такая шумная работа, которую мы еще публикуем. Когда мы положили ее на BioRxiv, возник шторм в твиттере. Многие онкологи нас поддерживали и говорили: «Мы знаем, что иммунотерапия работает для всех пациентов». В этом состояло наше главное практическое утверждение: не надо отбирать пациентов, у которых много мутаций, чтобы давать иммунотерапию. Иммунотерапия будет работать. Если она работает для этого класса раков, то иммунотерапию надо давать всем, вне зависимости от количества мутаций. Мы надеемся двигаться дальше в эту сторону, чтобы убедить людей развивать и шире применять иммунотерапию, а также понять, собственно, как это всё устроено.
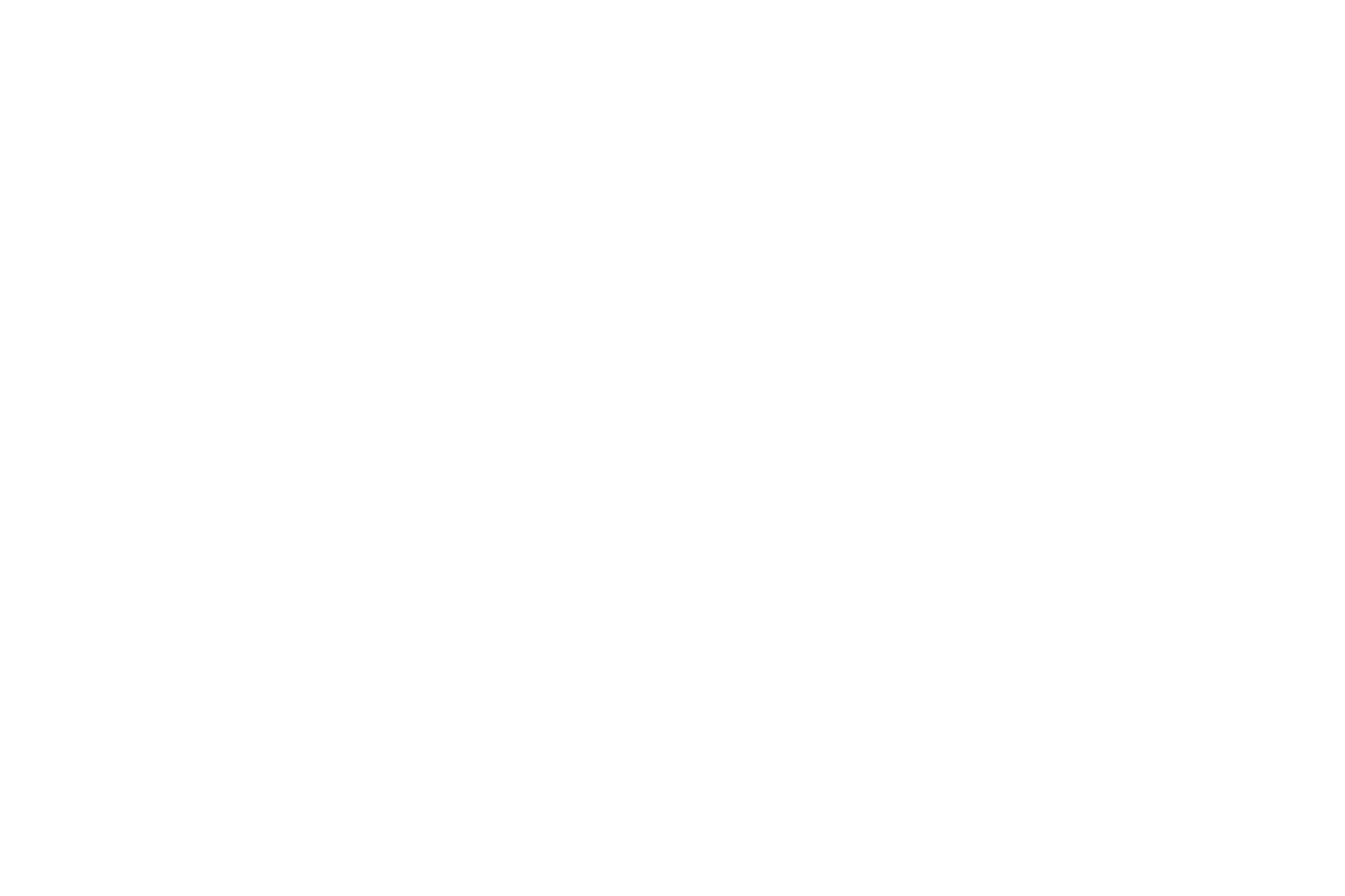
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Судя по этим историям, у вас много коллабораций. Как устроена работа с экспериментаторами: это общее дело или каждый всё-таки возделывает свою грядку с той или иной степенью дружелюбия к соседу?
— Хороший вопрос. Я всегда много занимался теоретическими работами. Трудно было найти коллаборацию с экспериментаторами, но они всегда находились, так или иначе. Сейчас в силу того, что моя группа действительно оказалась в центре этой области, связанной с хромосомами и физической организацией генома, к нам очень большой запрос на коллаборации, который мы целиком не можем удовлетворить. Я надеюсь, что мои выпускники, которые открывают свои лаборатории в разных странах мира, постепенно помогут мне. Очень много новых коллабораций с людьми из разных областей, где наши идеи могут оказаться ключевыми. Интересные коллаборации с иммунологами, с биологами развития, с эмбриологами. Потому что функция этих моторов, которые укладывают ДНК, в каком-то смысле не только упаковать ДНК. Пожалуй, их главная функция состоит в другом. Видите ли, в ДНК очень малый процент длины — это гены, примерно 2 %. Про 98 % мы раньше не знали, что это. Потом с большим энтузиазмом стали изучать это, и выяснилось, что еще доля процента — это куски генома, то есть текст ДНК, который управляет генами и говорит, каким генам когда включаться. Но что оказалось удивительным — то, что в геномах высших организмов эти управляющие участки находятся на огромном расстоянии. То есть у вас есть глава в толстой геномной книге, которая говорит, как печь блины. А инструкция, когда печь блины, находится в абсолютно другой части — возможно, даже в другом месте этого же тома, этой же хромосомы. Но чтобы одна могла повлиять на другую (это стало известно в 80-е годы), они должны коснуться друг друга. Вопрос: а как же они коснутся друг друга? Так вот, функция тех моторов, о которых мы говорим, видимо, состоит в том, что они позволяют в каком-то смысле сканировать геном. Один участок генома «ищет», с кем бы ему поговорить. Поэтому верна аналогия с тем, что как геном уложен — это друзья на фейсбуке, а с кем мы говорим, кто комментирует — это действительно совершенно другой процесс. То есть кто наши друзья — это совершенно не то же самое, что те, с кем мы активно общаемся. И вот это общение в геноме… То есть мы сейчас говорим, что наша система моторов и стопов — это фактически коммуникационная система, позволяющая геномным районам общаться на огромных расстояниях. Они могут находиться на расстояниях в сантиметры ДНК. При этом они будут оказываться рядом, на расстоянии нанометров, за счет работы этих моторов. И, возможно, как сейчас становится понятно, это абсолютно ключевой процесс для развития и для работы иммунной системы. Не зря эти моторы есть во всех клетках и во всех формах жизни. Видимо, коммуникация между геномными элементами полностью зависит от их работы. Поэтому это сейчас самое интересное, а успех этой работы зависит от коммуникации между разными исследователями, да. Поэтому я сейчас во Франции — потому что у меня возникают некие новые интересы, новый круг общения и с физиками, и с биологами, изучающими эти процессы.
— Мы с вами говорим всё это время о физике на службе у биологии, и у меня два вопроса в связи с этим. Можно ли говорить в связи с таким приложением физики к биологии об изменении парадигмы представлений молекулярной биологии? И дали ли эти исследования на биологических объектах что-нибудь собственно физике?
— Замечательный вопрос — оба! Первый — я надеюсь, что да, это сдвиг парадигмы того, как вообще работает геном. Изначально все думали, что геном — одномерный объект, там просто текст. Потом стало понятно, что как уложен геном — это важно. А сейчас становится понятно, что это не просто пассивный текст — это текст, по которому бегают, так сказать, читатели этого текста, соединяют разные куски, составляют их вместе и позволяют правильно работать генам. То есть активный (в физическом смысле мотор) энергопотребляющий процесс руководит укладкой генома и работой генома. Это абсолютно новая идея, когда я шел в эту область, я так не думал. До этого я занимался складыванием белков и думал, что геном — это просто очень длинная молекула и складывается, наверное, по тем же физическим принципам. А оказалось, что нет, — она складывается по другим принципам, и главными являются энергопотребление и работа мотора. Физике это, несомненно, дало абсолютно новые задачи. Часть моей группы с точки зрения физики является полимерными физиками, ибо мы изучаем укладку очень длинных молекул. Я этим интересовался и занимался, еще будучи в Москве, прочитав книжку Александра Юрьевича Гросберга и Алексея Ремовича Хохлова «Статистическая физика макромолекул», и сейчас периодически общаюсь с Александром Юрьевичем. С точки зрения физики эта область породила очень много новых вопросов. То, как уложена ДНК в клетке, глобально, видимо, соответствует некоторым гипотезам, которые высказывались в полимерной физике в 80-е годы. Только через 30 лет эти новые данные показали, что, возможно, это правильно. Возникли новые классы вопросов, которых мы не знаем. Например, самый простой вопрос: вот у вас есть очень длинная молекула, а в ней сидит даже не мотор, а просто колечко, но колечко это может ползать. Насколько это изменит вообще свойства этого полимера? Где будет находиться скользящий объект? Это всё новые вопросы в физике, и мы их решаем сейчас.
— Хороший вопрос. Я всегда много занимался теоретическими работами. Трудно было найти коллаборацию с экспериментаторами, но они всегда находились, так или иначе. Сейчас в силу того, что моя группа действительно оказалась в центре этой области, связанной с хромосомами и физической организацией генома, к нам очень большой запрос на коллаборации, который мы целиком не можем удовлетворить. Я надеюсь, что мои выпускники, которые открывают свои лаборатории в разных странах мира, постепенно помогут мне. Очень много новых коллабораций с людьми из разных областей, где наши идеи могут оказаться ключевыми. Интересные коллаборации с иммунологами, с биологами развития, с эмбриологами. Потому что функция этих моторов, которые укладывают ДНК, в каком-то смысле не только упаковать ДНК. Пожалуй, их главная функция состоит в другом. Видите ли, в ДНК очень малый процент длины — это гены, примерно 2 %. Про 98 % мы раньше не знали, что это. Потом с большим энтузиазмом стали изучать это, и выяснилось, что еще доля процента — это куски генома, то есть текст ДНК, который управляет генами и говорит, каким генам когда включаться. Но что оказалось удивительным — то, что в геномах высших организмов эти управляющие участки находятся на огромном расстоянии. То есть у вас есть глава в толстой геномной книге, которая говорит, как печь блины. А инструкция, когда печь блины, находится в абсолютно другой части — возможно, даже в другом месте этого же тома, этой же хромосомы. Но чтобы одна могла повлиять на другую (это стало известно в 80-е годы), они должны коснуться друг друга. Вопрос: а как же они коснутся друг друга? Так вот, функция тех моторов, о которых мы говорим, видимо, состоит в том, что они позволяют в каком-то смысле сканировать геном. Один участок генома «ищет», с кем бы ему поговорить. Поэтому верна аналогия с тем, что как геном уложен — это друзья на фейсбуке, а с кем мы говорим, кто комментирует — это действительно совершенно другой процесс. То есть кто наши друзья — это совершенно не то же самое, что те, с кем мы активно общаемся. И вот это общение в геноме… То есть мы сейчас говорим, что наша система моторов и стопов — это фактически коммуникационная система, позволяющая геномным районам общаться на огромных расстояниях. Они могут находиться на расстояниях в сантиметры ДНК. При этом они будут оказываться рядом, на расстоянии нанометров, за счет работы этих моторов. И, возможно, как сейчас становится понятно, это абсолютно ключевой процесс для развития и для работы иммунной системы. Не зря эти моторы есть во всех клетках и во всех формах жизни. Видимо, коммуникация между геномными элементами полностью зависит от их работы. Поэтому это сейчас самое интересное, а успех этой работы зависит от коммуникации между разными исследователями, да. Поэтому я сейчас во Франции — потому что у меня возникают некие новые интересы, новый круг общения и с физиками, и с биологами, изучающими эти процессы.
— Мы с вами говорим всё это время о физике на службе у биологии, и у меня два вопроса в связи с этим. Можно ли говорить в связи с таким приложением физики к биологии об изменении парадигмы представлений молекулярной биологии? И дали ли эти исследования на биологических объектах что-нибудь собственно физике?
— Замечательный вопрос — оба! Первый — я надеюсь, что да, это сдвиг парадигмы того, как вообще работает геном. Изначально все думали, что геном — одномерный объект, там просто текст. Потом стало понятно, что как уложен геном — это важно. А сейчас становится понятно, что это не просто пассивный текст — это текст, по которому бегают, так сказать, читатели этого текста, соединяют разные куски, составляют их вместе и позволяют правильно работать генам. То есть активный (в физическом смысле мотор) энергопотребляющий процесс руководит укладкой генома и работой генома. Это абсолютно новая идея, когда я шел в эту область, я так не думал. До этого я занимался складыванием белков и думал, что геном — это просто очень длинная молекула и складывается, наверное, по тем же физическим принципам. А оказалось, что нет, — она складывается по другим принципам, и главными являются энергопотребление и работа мотора. Физике это, несомненно, дало абсолютно новые задачи. Часть моей группы с точки зрения физики является полимерными физиками, ибо мы изучаем укладку очень длинных молекул. Я этим интересовался и занимался, еще будучи в Москве, прочитав книжку Александра Юрьевича Гросберга и Алексея Ремовича Хохлова «Статистическая физика макромолекул», и сейчас периодически общаюсь с Александром Юрьевичем. С точки зрения физики эта область породила очень много новых вопросов. То, как уложена ДНК в клетке, глобально, видимо, соответствует некоторым гипотезам, которые высказывались в полимерной физике в 80-е годы. Только через 30 лет эти новые данные показали, что, возможно, это правильно. Возникли новые классы вопросов, которых мы не знаем. Например, самый простой вопрос: вот у вас есть очень длинная молекула, а в ней сидит даже не мотор, а просто колечко, но колечко это может ползать. Насколько это изменит вообще свойства этого полимера? Где будет находиться скользящий объект? Это всё новые вопросы в физике, и мы их решаем сейчас.
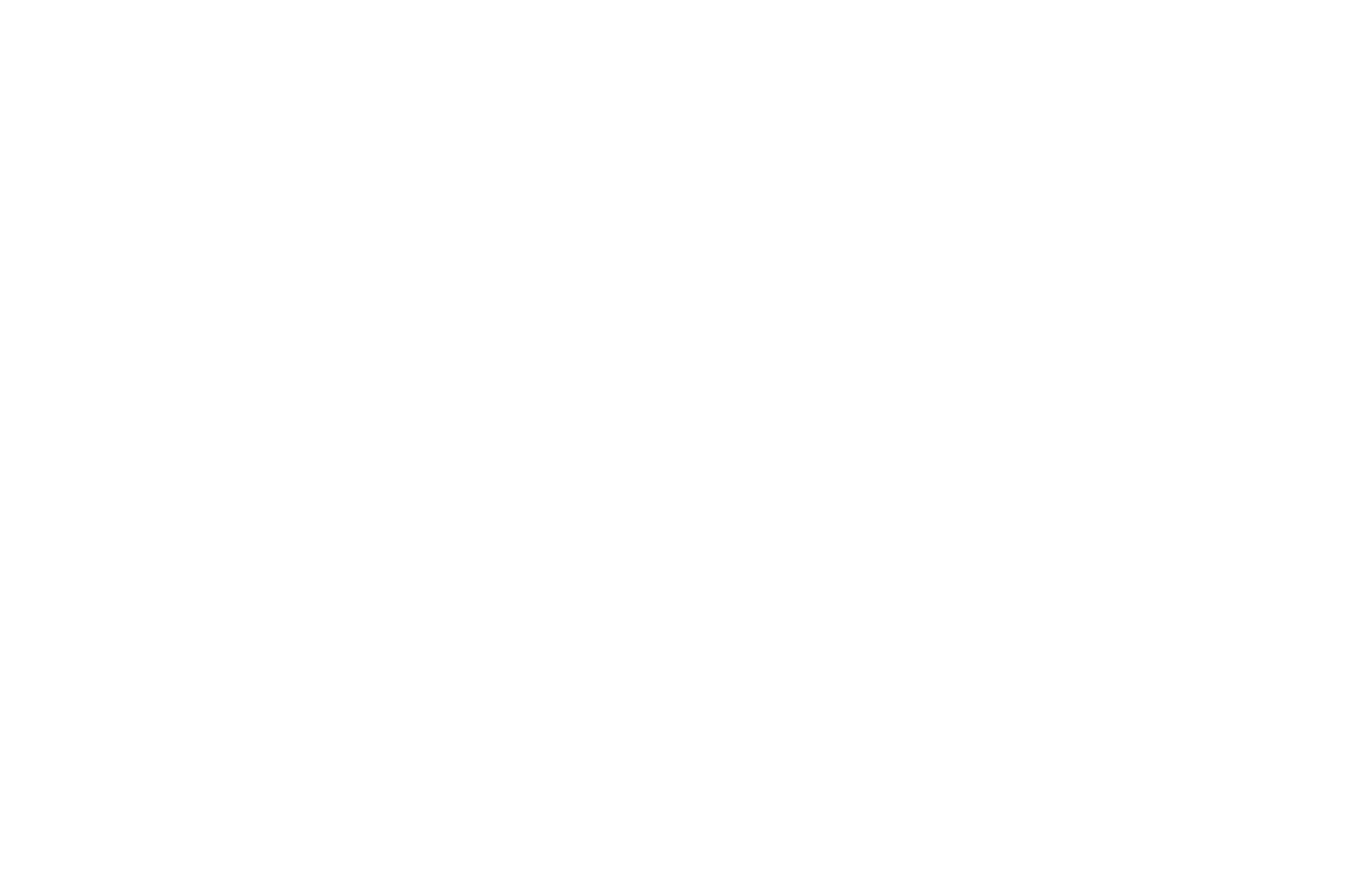
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Я смотрела на YouTube ваше замечательное выступление под названием «Как важно быть несерьезным». Для чего важно? Расскажите о своих хобби.
— Во-первых, просто хочется делать что-то еще. Энергия есть. Опять же, учась в школе в Москве, ходя в Клуб юных искусствоведов (при ГМИИ им. А.С. Пушкина), я там организовывал вечера, ставили спектакли. И эта тяга к театру во многом осталась, превратившись в хобби. Действительно, в Гарварде мы создали команду КВН Гарварда, потом создали американскую лигу КВН с друзьями. Потом ездили с гастролями по Америке и по миру. И в Юрмалу ездили ребята, параллельно занимаясь наукой — каждый своей. Да, это удовольствие, огромное удовольствие, но и, несомненно, способ переключаться. Но, кроме того, мне всегда казалось, что искусство в разных его проявлениях — даже такое совсем любительское искусство, как мое рисование или КВН, — не только очень приятно, но и действительно полезно. Потому что голова начинает работать иначе. О чём-то иначе задумываешься, что-то иначе видишь. Любя рисование, я вижу, например, большую параллель между рисованием и научной деятельностью, в частности написанием статей. С одной стороны, когда рисуешь, есть очень сильная тенденция начинать вырисовывать много мелких деталей. От этого рисунок обычно становится очень скучным и плоским. А многие детали не удается нарисовать, потому что я просто не умею их рисовать, — получается еще и плохо. То же самое происходит, когда мы пишем научную статью, — пишем, и тут выясняется, что некоторые вещи мы просто не знаем.
И мы начинаем придумывать, как это может работать, но можем и не придумать. И в каком-то смысле надо позволить себе в этой статье сказать: «Окей, мы не знаем, как это. Мы думаем, что это примерно так». Это похоже на большой грубый мазок в противовес прорисовке деталей. Нарисовать какого-то цвета линию — эта линия обозначает дом, и наш глаз это видит. А если мы начнем прорисовывать все окошки в этом доме, то получится скучно и неинтересно. А второй фактор — мы создаем некоторый саспенс для читателя. Мы не всегда всё с самого начала рассказываем — так же и в рисунке важна незаконченность, чтобы осталось пространство для мыслей читателя или зрителя. Я только что был на замечательной выставке в Париже между музеем Родена и музеем Пикассо.
Такая двойная выставка, редкое явление — Пикассо и Роден. Роден был на поколение старше Пикассо, и они никогда не виделись. Но выставка пытается донести идею о том, что в каком-то смысле они открывали похожие вещи. И одна из вещей, которую они открыли (опять же, в этой выставке идет даже некоторая отсылка к Микеланджело), — это умышленное незавершение, infinito. Она была у обоих, и они это делали очень умышленно. Они не завершали какие-то вещи, оставляли где-то грубый камень (у Родена) или где-то незаконченный рисунок (у Пикассо). Например, пару дней назад где-то в Помпиду я увидел совершенно замечательную картину Пикассо «Арлекин». У Арлекина только часть платья прорисована цветом, а часть только штриховым рисунком — и это было очень умышленное незавершение. И я вижу, что такое умышленное незавершение мы часто должны делать в науке, потому что мы чего-то не знаем.
А где-то знаем, но, может быть, хотим оставить читателю это додумать, оставляем подвешенный вопрос. Я еще был на выставке Леонардо в Лувре перед самой пандемией, остановился на один день между перелетами в Париже, чтобы успеть на нее сходить. И я тоже заметил это. Не знаю, правда, умышленно ли Леонардо оставлял какие-то картины незавершенными — «Святой Иероним», например, сильно незавершенная картина — или нет. Но вот эта идея незавершения, мне кажется, очень важная в науке и искусстве. Надо понимать, что мы чего-то не знаем или не можем вторгнуться в некоторую область, и оставлять это так. Не пытаться заполнять это неправильными догадками.
— Я хочу вспомнить еще об одном вашем выступлении, где вы рассказывали о летних детских школах, которые вы организовываете для себя, для друзей. Вы там преподаете, как вы сказали, «несложную науку геномику». Вы действительно считаете ее несложной?
— Ну, по сравнению с физикой — конечно. И это не снобизм в стиле «Девять дней одного года», просто объективно физика — сложная наука, действительно, и очень большая. А геномика — более сфокусированная наука, и, кроме того, она другого характера. В ней просто много незнания чего-то. Но в данном случае я преподаю несложную науку геномику не потому, что она несложная. Я просто пытаюсь ее преподавать детям самого разного возраста в играх и упражнениях. У меня есть курс, который я веду в MIT для студентов первого года, и очень похожие задачки я решаю со старшеклассниками в наших лагерях. Это как бы упражнения, которые позволяют понять, какими задачами занимается геномика. Например, сборка геномов из коротких участков. Есть очень длинная ДНК, она нарезана на кусочки, и их надо собрать. Это сложный алгоритмический процесс. Я могу рассказывать алгоритм, могу объяснить, как это делается. Но это просто мой рассказ, и педагогически это совсем не так интересно. Вместо этого я беру длинные напечатанные строчки букв A, Т, G и С, режу их ножницами, вываливаю на стол и говорю: «Ну-ка, соберите мне». И они понимают, что повторы бессмысленны, неудобны, а длинные куски очень полезны. А если бы я им насыпал еще копий, они бы это сделали быстрее. И вот это осознание собственного опыта, на мой взгляд, — очень важный педагогический момент. Они не придумают алгоритм, по которому это делается, но они поймут, в чём состоит проблема. Мне кажется, осознать проблему важнее, чем придумать ее решение.
— Во-первых, просто хочется делать что-то еще. Энергия есть. Опять же, учась в школе в Москве, ходя в Клуб юных искусствоведов (при ГМИИ им. А.С. Пушкина), я там организовывал вечера, ставили спектакли. И эта тяга к театру во многом осталась, превратившись в хобби. Действительно, в Гарварде мы создали команду КВН Гарварда, потом создали американскую лигу КВН с друзьями. Потом ездили с гастролями по Америке и по миру. И в Юрмалу ездили ребята, параллельно занимаясь наукой — каждый своей. Да, это удовольствие, огромное удовольствие, но и, несомненно, способ переключаться. Но, кроме того, мне всегда казалось, что искусство в разных его проявлениях — даже такое совсем любительское искусство, как мое рисование или КВН, — не только очень приятно, но и действительно полезно. Потому что голова начинает работать иначе. О чём-то иначе задумываешься, что-то иначе видишь. Любя рисование, я вижу, например, большую параллель между рисованием и научной деятельностью, в частности написанием статей. С одной стороны, когда рисуешь, есть очень сильная тенденция начинать вырисовывать много мелких деталей. От этого рисунок обычно становится очень скучным и плоским. А многие детали не удается нарисовать, потому что я просто не умею их рисовать, — получается еще и плохо. То же самое происходит, когда мы пишем научную статью, — пишем, и тут выясняется, что некоторые вещи мы просто не знаем.
И мы начинаем придумывать, как это может работать, но можем и не придумать. И в каком-то смысле надо позволить себе в этой статье сказать: «Окей, мы не знаем, как это. Мы думаем, что это примерно так». Это похоже на большой грубый мазок в противовес прорисовке деталей. Нарисовать какого-то цвета линию — эта линия обозначает дом, и наш глаз это видит. А если мы начнем прорисовывать все окошки в этом доме, то получится скучно и неинтересно. А второй фактор — мы создаем некоторый саспенс для читателя. Мы не всегда всё с самого начала рассказываем — так же и в рисунке важна незаконченность, чтобы осталось пространство для мыслей читателя или зрителя. Я только что был на замечательной выставке в Париже между музеем Родена и музеем Пикассо.
Такая двойная выставка, редкое явление — Пикассо и Роден. Роден был на поколение старше Пикассо, и они никогда не виделись. Но выставка пытается донести идею о том, что в каком-то смысле они открывали похожие вещи. И одна из вещей, которую они открыли (опять же, в этой выставке идет даже некоторая отсылка к Микеланджело), — это умышленное незавершение, infinito. Она была у обоих, и они это делали очень умышленно. Они не завершали какие-то вещи, оставляли где-то грубый камень (у Родена) или где-то незаконченный рисунок (у Пикассо). Например, пару дней назад где-то в Помпиду я увидел совершенно замечательную картину Пикассо «Арлекин». У Арлекина только часть платья прорисована цветом, а часть только штриховым рисунком — и это было очень умышленное незавершение. И я вижу, что такое умышленное незавершение мы часто должны делать в науке, потому что мы чего-то не знаем.
А где-то знаем, но, может быть, хотим оставить читателю это додумать, оставляем подвешенный вопрос. Я еще был на выставке Леонардо в Лувре перед самой пандемией, остановился на один день между перелетами в Париже, чтобы успеть на нее сходить. И я тоже заметил это. Не знаю, правда, умышленно ли Леонардо оставлял какие-то картины незавершенными — «Святой Иероним», например, сильно незавершенная картина — или нет. Но вот эта идея незавершения, мне кажется, очень важная в науке и искусстве. Надо понимать, что мы чего-то не знаем или не можем вторгнуться в некоторую область, и оставлять это так. Не пытаться заполнять это неправильными догадками.
— Я хочу вспомнить еще об одном вашем выступлении, где вы рассказывали о летних детских школах, которые вы организовываете для себя, для друзей. Вы там преподаете, как вы сказали, «несложную науку геномику». Вы действительно считаете ее несложной?
— Ну, по сравнению с физикой — конечно. И это не снобизм в стиле «Девять дней одного года», просто объективно физика — сложная наука, действительно, и очень большая. А геномика — более сфокусированная наука, и, кроме того, она другого характера. В ней просто много незнания чего-то. Но в данном случае я преподаю несложную науку геномику не потому, что она несложная. Я просто пытаюсь ее преподавать детям самого разного возраста в играх и упражнениях. У меня есть курс, который я веду в MIT для студентов первого года, и очень похожие задачки я решаю со старшеклассниками в наших лагерях. Это как бы упражнения, которые позволяют понять, какими задачами занимается геномика. Например, сборка геномов из коротких участков. Есть очень длинная ДНК, она нарезана на кусочки, и их надо собрать. Это сложный алгоритмический процесс. Я могу рассказывать алгоритм, могу объяснить, как это делается. Но это просто мой рассказ, и педагогически это совсем не так интересно. Вместо этого я беру длинные напечатанные строчки букв A, Т, G и С, режу их ножницами, вываливаю на стол и говорю: «Ну-ка, соберите мне». И они понимают, что повторы бессмысленны, неудобны, а длинные куски очень полезны. А если бы я им насыпал еще копий, они бы это сделали быстрее. И вот это осознание собственного опыта, на мой взгляд, — очень важный педагогический момент. Они не придумают алгоритм, по которому это делается, но они поймут, в чём состоит проблема. Мне кажется, осознать проблему важнее, чем придумать ее решение.
Интервью звучало в эфире «Эха Москвы» 15.12.2021 и 22.12.2021
