РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Владимир Онипченко
Не погибнуть под обломками рухнувшей биосферы
Не погибнуть под обломками рухнувшей биосферы
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Владимир Онипченко
Не погибнуть под обломками рухнувшей биосферы
Не погибнуть под обломками рухнувшей биосферы
- Storyоб окружающей среде и самом романтичном месте для ее изучения — горах. Что растения нам могут рассказать об истории человечества, как местная культура влияет на методику ботанических экспедиций и почему горы всей Земли — братья (то есть сёстры)
- Story told byВладимир Онипченко, заведующий кафедрой экологии и географии растений биологического факультета МГУ
- Story asked byКристина Уласович, научный журналист
- Story recordedв декабре 2022 г.
— Ваши полевые работы проходят в горах, в Альпике. Безумно красивые места. Это вдохновляет вас?
— Безусловно. Так повелось еще со студенческих лет, первый диплом я делал в лесах под Валдаем. Целью было найти объекты, которые будет удобно и интересно изучать. То есть это должны были быть естественные объекты или, по крайней мере, антропогенно не сильно нарушенные. Кроме того, я предпочитаю изучать те аспекты, которые других исследователей не интересуют, чтобы не сталкиваться. Это не так сложно: объектов у нас очень много, а людей, их изучающих, не так много. В те времена можно было изучать и тундры, и пустыни, и горы. Но мы остановились на горах, потому что их меньше всего исследовали.
И когда мы начали на Кавказе работать, оказалось, что действительно… Если ботаники там работали, то как? Они поднимались на полдня, собирали гербарий и спускались, вот и всё. Описывали состав растений, но всё, что касается структуры сообщества, разнообразия, механизмов, динамики, было абсолютно неизвестно. Не говоря уже о минорных компонентах сообществ: какие-нибудь клещи, водоросли, лишайники тоже были практически не исследованы в целом для Кавказа. Поэтому всё, что мы ни делали, было в значительной степени новое — где-то регионально новое, где-то принципиально новое, так что для науки удалось сделать несколько очень интересных открытий.
И потом, любовь к горам! Я альпинизмом занимался. Второй [разряд] так и не сделал, но…
— Я, кстати, тоже альпинистка!
— У меня всего пять смен было, и три последние разрядные были, что тоже позволило в разных горах побывать. Это всё очень интересно. В советское время профсоюзные путевки москвичам не давали в Среднюю Азию, в основном давали на Кавказ. И чтобы попасть в Среднюю Азию, я просил своего приятеля, он мне доставал путевку из Ашхабада. Один раз я представлял туркменской спортивный клуб. В общем, это тоже было довольно забавно, замечательные поездки.
— Безусловно. Так повелось еще со студенческих лет, первый диплом я делал в лесах под Валдаем. Целью было найти объекты, которые будет удобно и интересно изучать. То есть это должны были быть естественные объекты или, по крайней мере, антропогенно не сильно нарушенные. Кроме того, я предпочитаю изучать те аспекты, которые других исследователей не интересуют, чтобы не сталкиваться. Это не так сложно: объектов у нас очень много, а людей, их изучающих, не так много. В те времена можно было изучать и тундры, и пустыни, и горы. Но мы остановились на горах, потому что их меньше всего исследовали.
И когда мы начали на Кавказе работать, оказалось, что действительно… Если ботаники там работали, то как? Они поднимались на полдня, собирали гербарий и спускались, вот и всё. Описывали состав растений, но всё, что касается структуры сообщества, разнообразия, механизмов, динамики, было абсолютно неизвестно. Не говоря уже о минорных компонентах сообществ: какие-нибудь клещи, водоросли, лишайники тоже были практически не исследованы в целом для Кавказа. Поэтому всё, что мы ни делали, было в значительной степени новое — где-то регионально новое, где-то принципиально новое, так что для науки удалось сделать несколько очень интересных открытий.
И потом, любовь к горам! Я альпинизмом занимался. Второй [разряд] так и не сделал, но…
— Я, кстати, тоже альпинистка!
— У меня всего пять смен было, и три последние разрядные были, что тоже позволило в разных горах побывать. Это всё очень интересно. В советское время профсоюзные путевки москвичам не давали в Среднюю Азию, в основном давали на Кавказ. И чтобы попасть в Среднюю Азию, я просил своего приятеля, он мне доставал путевку из Ашхабада. Один раз я представлял туркменской спортивный клуб. В общем, это тоже было довольно забавно, замечательные поездки.
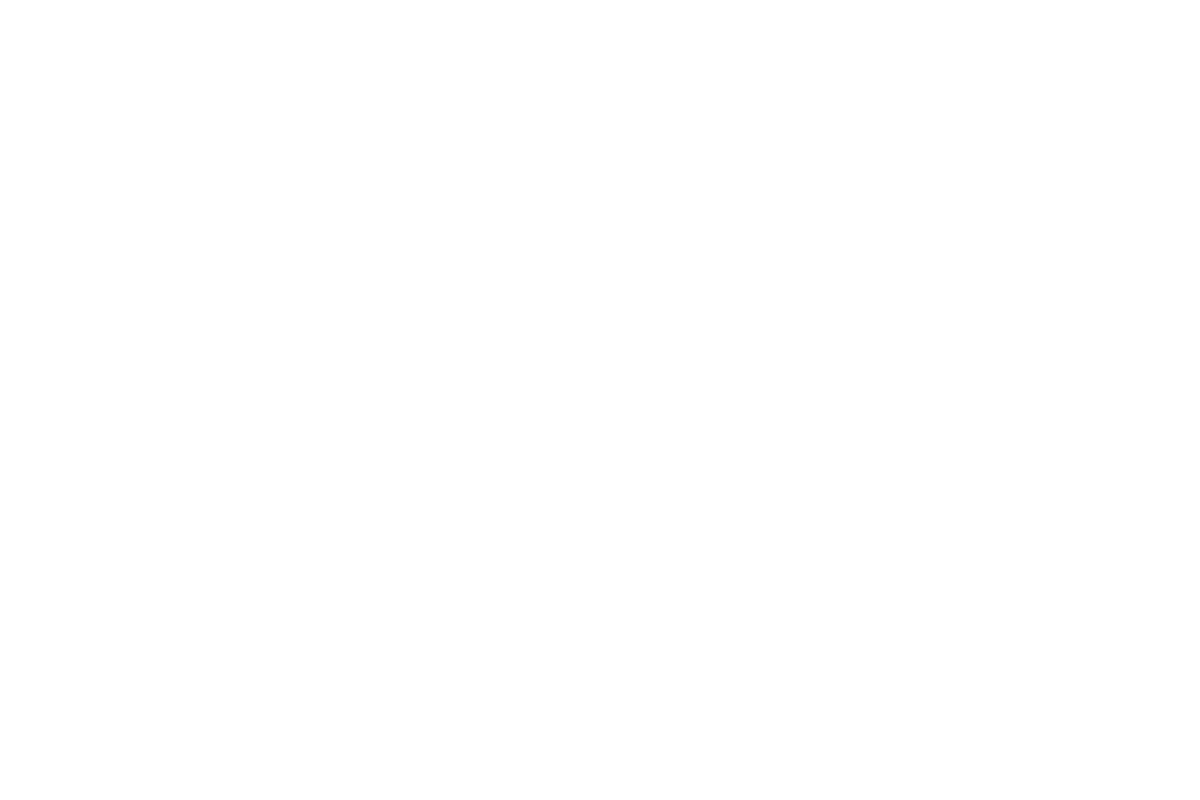
Фотограф: Стас Любаускас /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Коль скоро мы с вами заговорили об этой теме, на какой высоте вы обычно работаете?
— Работаем на высоте 2800 метров. Это центр альпийского пояса на Кавказе: не самый верх, не самый низ, где Субальпика. Разумеется, для разных гор будет разная высота.
Мне нравится жить в природе. Я считаю, чтобы понять, как устроены природные комплексы, надо с ними жить. Не на час приходить, а смотреть, как они [ведут себя] в разных условиях, при разной погоде, в разные сезоны и т. д.
Есть несколько типов таких полевых экологических исследований. Они свойственны разным культурам, разным странам, разным нациям. Условно их можно разделить на три группы. Первая — это такой более классический, европейский или английский вариант. Выдвигается объект, ставится задача, намечается конкретный день. Обычно к этому объекту относительно недалеко подходит дорога из хорошего места. Например, от базы, где есть все удобства. Туда выезжаем на машине, идем на день, делаем наблюдения, потом возвращаемся, ночуем и живем в благоустроенной, комфортабельной [обстановке].
— Такая «комфортная» биология?
— Условно комфортная. Однажды, например, мы проводили исследования в Новой Зеландии с моим другом про фессором Аланом Марком, тоже горным экологом. Наметили всё, и тут — жутчайший шторм! А в Южном полушарии, надо сказать, бывают сильные ветры. Таких ветров, как в Новой Зеландии, в Австралии, в Африке, я ни разу не встречал у нас ни в горах, ни где-то еще.
Я говорю: «Ну, наверное, придется отложить или отменить». А он отвечает: «Как? Нет, мы же наметили!» Берем плащи, специальную бумагу для писания под дождем, специальные карандаши, и мы идем — а там даже стоять нельзя, только ползать! — на площадки, которые наметили. Всё сделали часов за пять-шесть. То есть у них жесткий график, при этом есть оборудование на любую погоду. Но и базы есть со всеми удобствами.
Второй вариант — китайский. Мне мои аспиранты жалуются, что у них полевые работы — это самое дорогое по бюджету. Всякая биохимия, приборы дешевле, чем полевые исследования. А как, почему? Например, надо несколько раз за сезон взять образцы почвы в определенных местах. Исследователь из центра летит в горный аэропорт на самолете, в ближайшем городе берёт гостиницу. На следующее утро он берёт такси, едет к подножию горы, где живут знакомые тибетцы. Арендует за не очень умеренную плату лошадь, проводника, они на 500 метров поднимаются туда, дальше в течение часа берут образцы, и дальше в обратной последовательности: лошадь, такси, гостиница. Конечно, бюджет получается колоссальный.
Ну и третий вариант — работать, как мы. То есть так, чтобы жить максимально близко к объектам. Не работать в плохую погоду, потому что данные получаются искаженные. Вот мы приезжаем в заповедник, берем палатки, максимально близко к объектам ставим лагерь. Там живем несколько дней, недель, месяцев. И, соответственно, как только погода благоприятствует, мы выходим и занимаемся полевой работой. Как только идет дождик, мы сидим в палатках, разбираем там пробы. Так, на мой взгляд, наиболее производительно.
— Наука в маленьком шатре получается.
— Почему маленьком, у нас и большие стоят!
— Вы сказали, что для вас один из критериев — интересность объекта. А как вы определяете, собственно, что в горах интересно?
— Тут несколько моментов.
Во-первых, Кавказ — это единственные территории в нынешней России, которые признаны ЮНЕСКО одним из 20 центров биоразнообразия. То есть там самое высокое разнообразие растений, животных и других организмов. Во-вторых, на любую экосистему всегда действуют две важные группы факторов — биотические и абиотические. В экстремальных ситуациях — полярные пустыни или обычные пустыни, где всё разрежено. Там, ясно, всё определяет среда — абиотический фактор. Растения между собой взаимодействуют очень слабо. Наоборот, в лесах и т. д. больше работает конкуренция и уже какие-то внутренние причины, биотические. А чем интересны альпийские сообщества? Тем, что там и то и другое примерно в равной степени.
Там сомкнутый покров, то есть растения тесно взаимодействуют, и структура [сообщества] определяется взаимодействием между разными компонентами растений. А с другой стороны, абиотика. Конечно, не экстремальная, но всё равно внешние факторы тоже имеют большое значение.
К слову, Альпы на Кавказ похожи. Я помню, как-то мы говорили с ведущим мировым экологом высокогорий и ботаником, профессором Кристианом Кёрнером. Его группа довольно долго в советское время работала на Кавказе с грузинской стороны. А потом, когда распался Союз, они перестали работать. Я его спросил: почему они перестали сотрудничать? Он мне и выдал: «Понимаешь, с точки зрения жизненных форм Кавказ очень близок к Альпам. Конечно, нам намного легче работать в Альпах, чем бороться с грузинской бюрократией при ввозе приборов на таможне и так далее».
— Работаем на высоте 2800 метров. Это центр альпийского пояса на Кавказе: не самый верх, не самый низ, где Субальпика. Разумеется, для разных гор будет разная высота.
Мне нравится жить в природе. Я считаю, чтобы понять, как устроены природные комплексы, надо с ними жить. Не на час приходить, а смотреть, как они [ведут себя] в разных условиях, при разной погоде, в разные сезоны и т. д.
Есть несколько типов таких полевых экологических исследований. Они свойственны разным культурам, разным странам, разным нациям. Условно их можно разделить на три группы. Первая — это такой более классический, европейский или английский вариант. Выдвигается объект, ставится задача, намечается конкретный день. Обычно к этому объекту относительно недалеко подходит дорога из хорошего места. Например, от базы, где есть все удобства. Туда выезжаем на машине, идем на день, делаем наблюдения, потом возвращаемся, ночуем и живем в благоустроенной, комфортабельной [обстановке].
— Такая «комфортная» биология?
— Условно комфортная. Однажды, например, мы проводили исследования в Новой Зеландии с моим другом про фессором Аланом Марком, тоже горным экологом. Наметили всё, и тут — жутчайший шторм! А в Южном полушарии, надо сказать, бывают сильные ветры. Таких ветров, как в Новой Зеландии, в Австралии, в Африке, я ни разу не встречал у нас ни в горах, ни где-то еще.
Я говорю: «Ну, наверное, придется отложить или отменить». А он отвечает: «Как? Нет, мы же наметили!» Берем плащи, специальную бумагу для писания под дождем, специальные карандаши, и мы идем — а там даже стоять нельзя, только ползать! — на площадки, которые наметили. Всё сделали часов за пять-шесть. То есть у них жесткий график, при этом есть оборудование на любую погоду. Но и базы есть со всеми удобствами.
Второй вариант — китайский. Мне мои аспиранты жалуются, что у них полевые работы — это самое дорогое по бюджету. Всякая биохимия, приборы дешевле, чем полевые исследования. А как, почему? Например, надо несколько раз за сезон взять образцы почвы в определенных местах. Исследователь из центра летит в горный аэропорт на самолете, в ближайшем городе берёт гостиницу. На следующее утро он берёт такси, едет к подножию горы, где живут знакомые тибетцы. Арендует за не очень умеренную плату лошадь, проводника, они на 500 метров поднимаются туда, дальше в течение часа берут образцы, и дальше в обратной последовательности: лошадь, такси, гостиница. Конечно, бюджет получается колоссальный.
Ну и третий вариант — работать, как мы. То есть так, чтобы жить максимально близко к объектам. Не работать в плохую погоду, потому что данные получаются искаженные. Вот мы приезжаем в заповедник, берем палатки, максимально близко к объектам ставим лагерь. Там живем несколько дней, недель, месяцев. И, соответственно, как только погода благоприятствует, мы выходим и занимаемся полевой работой. Как только идет дождик, мы сидим в палатках, разбираем там пробы. Так, на мой взгляд, наиболее производительно.
— Наука в маленьком шатре получается.
— Почему маленьком, у нас и большие стоят!
— Вы сказали, что для вас один из критериев — интересность объекта. А как вы определяете, собственно, что в горах интересно?
— Тут несколько моментов.
Во-первых, Кавказ — это единственные территории в нынешней России, которые признаны ЮНЕСКО одним из 20 центров биоразнообразия. То есть там самое высокое разнообразие растений, животных и других организмов. Во-вторых, на любую экосистему всегда действуют две важные группы факторов — биотические и абиотические. В экстремальных ситуациях — полярные пустыни или обычные пустыни, где всё разрежено. Там, ясно, всё определяет среда — абиотический фактор. Растения между собой взаимодействуют очень слабо. Наоборот, в лесах и т. д. больше работает конкуренция и уже какие-то внутренние причины, биотические. А чем интересны альпийские сообщества? Тем, что там и то и другое примерно в равной степени.
Там сомкнутый покров, то есть растения тесно взаимодействуют, и структура [сообщества] определяется взаимодействием между разными компонентами растений. А с другой стороны, абиотика. Конечно, не экстремальная, но всё равно внешние факторы тоже имеют большое значение.
К слову, Альпы на Кавказ похожи. Я помню, как-то мы говорили с ведущим мировым экологом высокогорий и ботаником, профессором Кристианом Кёрнером. Его группа довольно долго в советское время работала на Кавказе с грузинской стороны. А потом, когда распался Союз, они перестали работать. Я его спросил: почему они перестали сотрудничать? Он мне и выдал: «Понимаешь, с точки зрения жизненных форм Кавказ очень близок к Альпам. Конечно, нам намного легче работать в Альпах, чем бороться с грузинской бюрократией при ввозе приборов на таможне и так далее».
— А вообще — большой интерес к нашей Альпике именно со стороны зарубежных коллег?
— Да. Приезжало много ученых из Новой Зеландии, из Италии, из Германии, из Голландии и других стран. Довольно много китайцев бывало в нашем национальном парке, стационар смотрели. Все интерес очень большой всегда проявляли.
И, соответственно, нас тоже приглашали. Например, я был в американском стационаре. Что меня поразило — отношение к пожарам. Для них это абсолютно естественный процесс. Когда мы были в Монтане, то поднимались на гору и увидели дымок. Я спрашиваю: в чём дело? Американцы отвечают, что там пожар и что сегодня по радио передали, что огонь пересек границу национального парка. Это означает, что его тушить не будут, просто идет естественный процесс.
Конечно, пожар пожару рознь. Всё антропогенное, что окружает человека, необходимо охранять. Это совершенно очевидные вещи. Но к природным пожарам надо относиться сознательно и понимать, что многие системы на Земле сформировались именно под их влиянием.
— Хорошо. Вот вы наблюдаете за сообществами растений, что-то про них понимаете. О чём они нам могут рассказать?
— Очень о многом. Например, это огромный исторический материал. То, что мы видим сейчас, является продуктом, формировавшимся последние столетия, а точнее даже тысячелетия. Сами посмотрите: даже у такой травки, как ветреница, средний возраст генеративных особей — то есть тех, кто достиг цветения, — составляет где-то 650 лет. По расчетам, где-то у 10 % популяции возраст — около 1000 лет.
Представьте, торчит такая морковка. Там Тамерлан проходил, война была, а она торчит из земли — и всё тут. Соответственно, по структуре популяции и другим признакам можно узнать, какие были условия в прошлом. Например, мы выяснили, что Кавказ — это место, наиболее хорошо сохранившееся с точки зрения природных высокогорных комплексов. И, как ни печально, основная причина того, что Кавказ по сравнению, к примеру, с Альпами намного менее антропогенно изменен, связана с периодическими военными конфликтами, которые возникали вокруг. Там не было мирного времени 200 лет подряд. Постоянные войны! А значит, плохо развивалось горное животноводство — ведь оно может существовать, только если есть зимние пастбища. Но на равнине любой конфликт прекращает отгонный выпас, потому что это становится опасным для скота. И что происходит? Природа «отдыхает», популяция восстанавливается.
К слову, на Кавказе встречаются и совсем не тронутые человеком места. Например, мы нашли интересное маленькое ущелье, где, по всем историческим данным и по изучению следов, можно говорить о том, что там вообще никогда не было выпаса.
— То есть такой девственный кусочек земли?
— Да, оно маленькое, и там никаких старых следов — ни косьбы, ничего. Это удобный объект для многих общенаучных построений, гипотез.
— Да. Приезжало много ученых из Новой Зеландии, из Италии, из Германии, из Голландии и других стран. Довольно много китайцев бывало в нашем национальном парке, стационар смотрели. Все интерес очень большой всегда проявляли.
И, соответственно, нас тоже приглашали. Например, я был в американском стационаре. Что меня поразило — отношение к пожарам. Для них это абсолютно естественный процесс. Когда мы были в Монтане, то поднимались на гору и увидели дымок. Я спрашиваю: в чём дело? Американцы отвечают, что там пожар и что сегодня по радио передали, что огонь пересек границу национального парка. Это означает, что его тушить не будут, просто идет естественный процесс.
Конечно, пожар пожару рознь. Всё антропогенное, что окружает человека, необходимо охранять. Это совершенно очевидные вещи. Но к природным пожарам надо относиться сознательно и понимать, что многие системы на Земле сформировались именно под их влиянием.
— Хорошо. Вот вы наблюдаете за сообществами растений, что-то про них понимаете. О чём они нам могут рассказать?
— Очень о многом. Например, это огромный исторический материал. То, что мы видим сейчас, является продуктом, формировавшимся последние столетия, а точнее даже тысячелетия. Сами посмотрите: даже у такой травки, как ветреница, средний возраст генеративных особей — то есть тех, кто достиг цветения, — составляет где-то 650 лет. По расчетам, где-то у 10 % популяции возраст — около 1000 лет.
Представьте, торчит такая морковка. Там Тамерлан проходил, война была, а она торчит из земли — и всё тут. Соответственно, по структуре популяции и другим признакам можно узнать, какие были условия в прошлом. Например, мы выяснили, что Кавказ — это место, наиболее хорошо сохранившееся с точки зрения природных высокогорных комплексов. И, как ни печально, основная причина того, что Кавказ по сравнению, к примеру, с Альпами намного менее антропогенно изменен, связана с периодическими военными конфликтами, которые возникали вокруг. Там не было мирного времени 200 лет подряд. Постоянные войны! А значит, плохо развивалось горное животноводство — ведь оно может существовать, только если есть зимние пастбища. Но на равнине любой конфликт прекращает отгонный выпас, потому что это становится опасным для скота. И что происходит? Природа «отдыхает», популяция восстанавливается.
К слову, на Кавказе встречаются и совсем не тронутые человеком места. Например, мы нашли интересное маленькое ущелье, где, по всем историческим данным и по изучению следов, можно говорить о том, что там вообще никогда не было выпаса.
— То есть такой девственный кусочек земли?
— Да, оно маленькое, и там никаких старых следов — ни косьбы, ничего. Это удобный объект для многих общенаучных построений, гипотез.
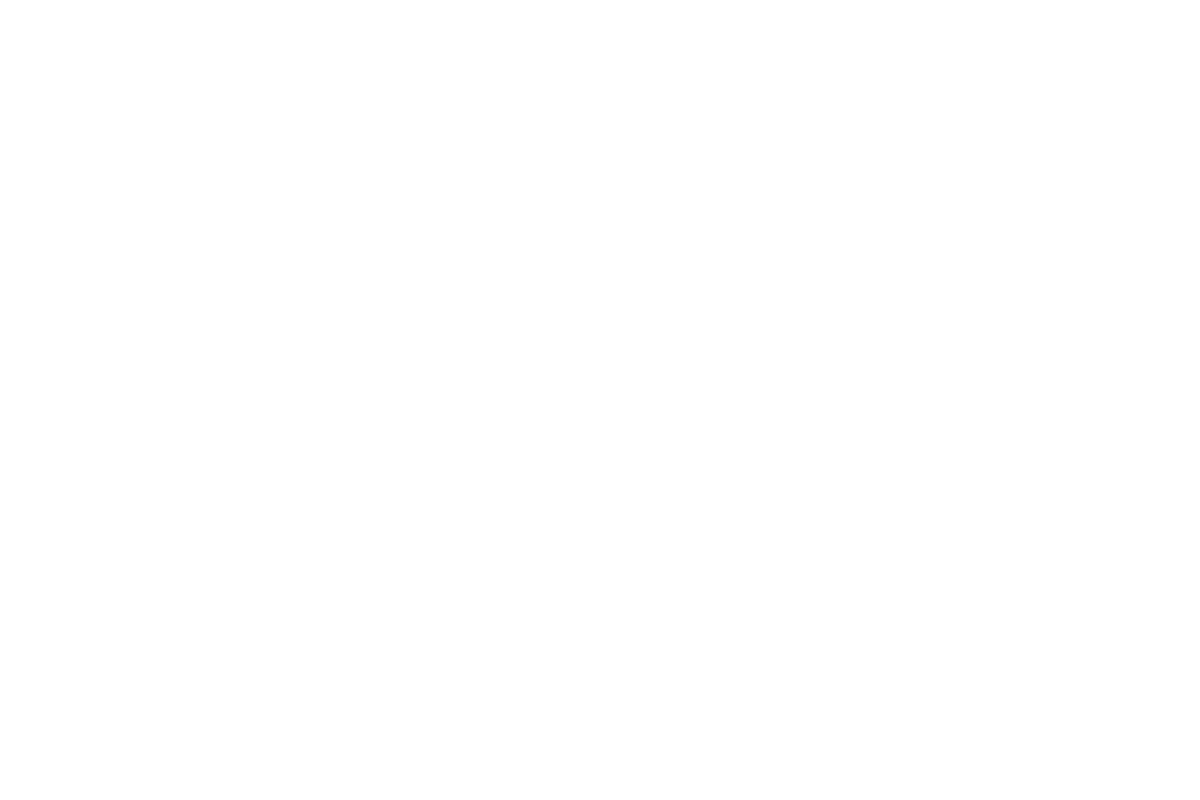
Фотограф: Стас Любаускас /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Что самое интересное вам удалось открыть?
— Вот пример.
Мы выяснили, что корни растения могут расти не только в почве, в воздухе или в воде, но и в снегу. У некоторых видов, естественно, и не всегда, а в особых условиях. Но мы фактически первыми обнаружили такое явление. Причем надземные органы этих растений живут месяц-полтора, а их корни, тоненькие, нитевидные, спрятанные в снегу, — уже 8–10 месяцев. Если толщина снежника более полуметра, то под ним температура всегда постоянная, около нуля. При такой температуре корни трав медленно растут всю зиму. И самое главное, что они из снега поглощают азот, дефицитные минеральные соединения.
Когда мы обнаружили снежные корни, то провели эксперимент с растением хохлаткой коническикорневой (Corydalis conorhyza): внесли в снег азотную метку, и потом оказалось, что только у этого вида она была активна. А для растений рядом этот азот оказался недоступен — хотя снег ведь тает, и вода должна была бы проникать к корням. Но нет. Всё потому, что нижняя часть снежника образует ледяную корку в 3–5 сантиметров. И когда верхний слой начинает таять, вода идет вниз, упирается в эту корку и дальше идет в стороны. Поэтому добраться до азота растения могут, только проникнув выше твердой преграды.
— Неужели корни как-то пробивают ее?
— Нет. Корка формируется медленно, корни появляются в снежнике раньше. Как-то на Рождество мы с моим аспирантом пошли в горы и откопали снег с трехметровой глубины. Затем спустили вниз образец, просеяли его, и оказалось, что там уже были вполне нормальные корни. Стало ясно, что они начинают расти, как только снег устанавливается.
— Вот пример.
Мы выяснили, что корни растения могут расти не только в почве, в воздухе или в воде, но и в снегу. У некоторых видов, естественно, и не всегда, а в особых условиях. Но мы фактически первыми обнаружили такое явление. Причем надземные органы этих растений живут месяц-полтора, а их корни, тоненькие, нитевидные, спрятанные в снегу, — уже 8–10 месяцев. Если толщина снежника более полуметра, то под ним температура всегда постоянная, около нуля. При такой температуре корни трав медленно растут всю зиму. И самое главное, что они из снега поглощают азот, дефицитные минеральные соединения.
Когда мы обнаружили снежные корни, то провели эксперимент с растением хохлаткой коническикорневой (Corydalis conorhyza): внесли в снег азотную метку, и потом оказалось, что только у этого вида она была активна. А для растений рядом этот азот оказался недоступен — хотя снег ведь тает, и вода должна была бы проникать к корням. Но нет. Всё потому, что нижняя часть снежника образует ледяную корку в 3–5 сантиметров. И когда верхний слой начинает таять, вода идет вниз, упирается в эту корку и дальше идет в стороны. Поэтому добраться до азота растения могут, только проникнув выше твердой преграды.
— Неужели корни как-то пробивают ее?
— Нет. Корка формируется медленно, корни появляются в снежнике раньше. Как-то на Рождество мы с моим аспирантом пошли в горы и откопали снег с трехметровой глубины. Затем спустили вниз образец, просеяли его, и оказалось, что там уже были вполне нормальные корни. Стало ясно, что они начинают расти, как только снег устанавливается.
— Удивительно, конечно.
— Да. Еще одно интересное открытие связано с поиском ответа на фундаментальный вопрос: почему на конкретной территории в конкретных условиях живут конкретные виды в конкретном количестве и соотношении? И что будет, если у нас станут другими условия? Скажем, из-за антропогенного воздействия климат изменится или еще что-нибудь случится. В современной экологии есть несколько очень здравых теорий. Одна из них говорит о том, что большую роль в том, сколько видов живет на территории, играет то, что вокруг.
Мы сравнили число видов на 100 квадратных метрах в разных горных системах — в Новой Зеландии, Тибете, Альпах, Кении и на Кавказе. И абсолютно неожиданно оказалось, что только один параметр, а именно размер горной цепи, с вероятностью в 98 % описывает, сколько видов будет в среднем на единице площади присутствовать. Не расположение, не высота над уровнем моря.
— Да. Еще одно интересное открытие связано с поиском ответа на фундаментальный вопрос: почему на конкретной территории в конкретных условиях живут конкретные виды в конкретном количестве и соотношении? И что будет, если у нас станут другими условия? Скажем, из-за антропогенного воздействия климат изменится или еще что-нибудь случится. В современной экологии есть несколько очень здравых теорий. Одна из них говорит о том, что большую роль в том, сколько видов живет на территории, играет то, что вокруг.
Мы сравнили число видов на 100 квадратных метрах в разных горных системах — в Новой Зеландии, Тибете, Альпах, Кении и на Кавказе. И абсолютно неожиданно оказалось, что только один параметр, а именно размер горной цепи, с вероятностью в 98 % описывает, сколько видов будет в среднем на единице площади присутствовать. Не расположение, не высота над уровнем моря.
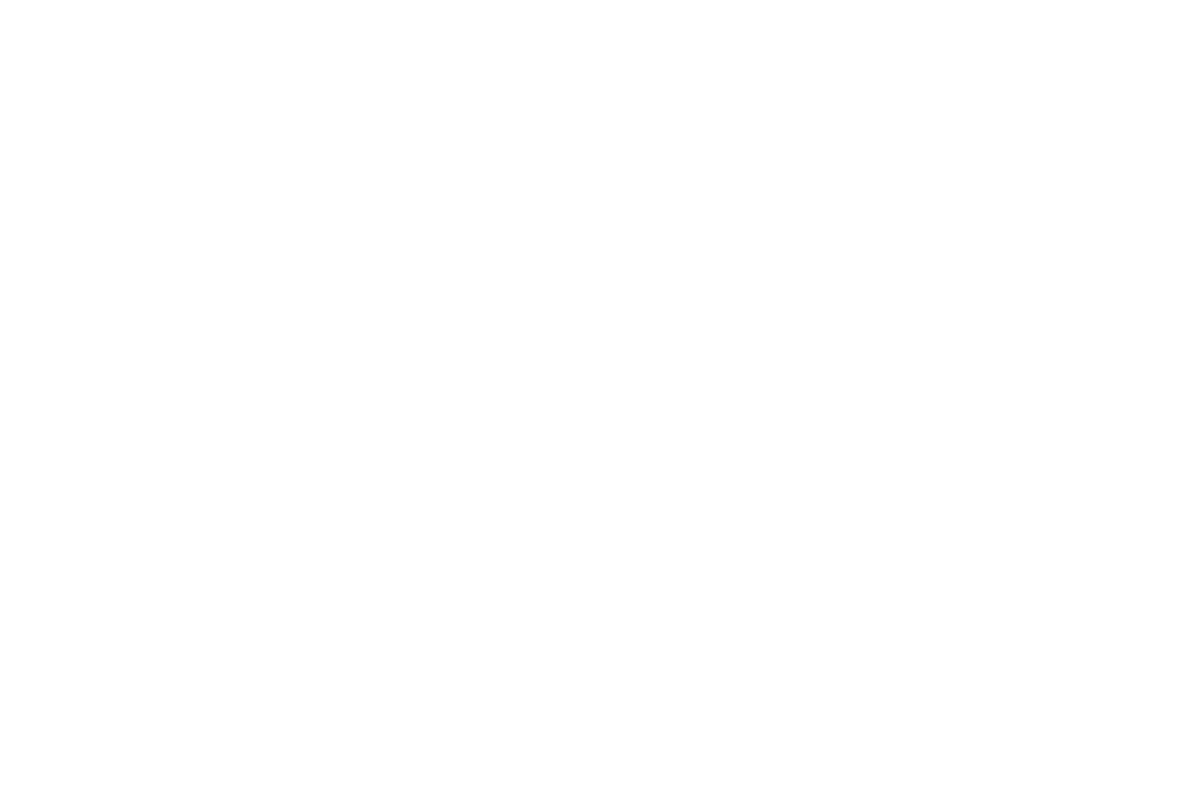
Фотограф: Стас Любаускас /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— То есть, получается, чем больше площадь, тем больше видов?
— Не совсем так. Скорее, больше площадь — больше видов имели возможность эволюционно туда проникнуть и сформироваться. Причем речь не просто о числе видов в целом, это было бы как раз понятно, а именно о биоразнообразии на единице площади — 100 квадратных метрах или 10, не важно. Самой бедной в нашем эксперименте оказалась Африка, потому что гора Кения, которую мы изучали, это фактически вулкан среди тропических лесов и саванн. Самым богатым был Тибет, что естественно, потому что это огромная горная система. Кавказ находился где-то посередине, Новая Зеландия оказалась довольно небогатой.
Потом такую же закономерность мы подтвердили уже на региональном уровне. Там что было интересно? Во всех заповедниках России регулярно проводят лесоустройство. И в 2005 году директор Тебердинского заповедника обратился к нам с просьбой закартировать луга. У нас на тот момент была разработана типология, и буквально за год мы сделали геоботаническую карту. Отдали — и ладно. А позже лесоустроители на ее основе сделали современную карту, с ГИСами, через которую можно легко посчитать площади для выбранных территорий. Я взял восемь типов горно-луговых сообществ и сопоставил наши данные по числу видов в них с площадью, которую занимает заповедник в целом. И там тоже нашлась значимая линейная связь! Не такая подавляющая, но больше половины варьирования объяснить этим можно.
Мы думали, что в болотах мало видов, потому что там условия экстремальные. Да ничего подобного! Они просто площади маленькие занимают. Но тут есть еще одна сторона: чем больше площадь, тем обычно дольше существуют фитоценозы. Они более устойчивы к изменениям климата.
— Не совсем так. Скорее, больше площадь — больше видов имели возможность эволюционно туда проникнуть и сформироваться. Причем речь не просто о числе видов в целом, это было бы как раз понятно, а именно о биоразнообразии на единице площади — 100 квадратных метрах или 10, не важно. Самой бедной в нашем эксперименте оказалась Африка, потому что гора Кения, которую мы изучали, это фактически вулкан среди тропических лесов и саванн. Самым богатым был Тибет, что естественно, потому что это огромная горная система. Кавказ находился где-то посередине, Новая Зеландия оказалась довольно небогатой.
Потом такую же закономерность мы подтвердили уже на региональном уровне. Там что было интересно? Во всех заповедниках России регулярно проводят лесоустройство. И в 2005 году директор Тебердинского заповедника обратился к нам с просьбой закартировать луга. У нас на тот момент была разработана типология, и буквально за год мы сделали геоботаническую карту. Отдали — и ладно. А позже лесоустроители на ее основе сделали современную карту, с ГИСами, через которую можно легко посчитать площади для выбранных территорий. Я взял восемь типов горно-луговых сообществ и сопоставил наши данные по числу видов в них с площадью, которую занимает заповедник в целом. И там тоже нашлась значимая линейная связь! Не такая подавляющая, но больше половины варьирования объяснить этим можно.
Мы думали, что в болотах мало видов, потому что там условия экстремальные. Да ничего подобного! Они просто площади маленькие занимают. Но тут есть еще одна сторона: чем больше площадь, тем обычно дольше существуют фитоценозы. Они более устойчивы к изменениям климата.
— Говоря об изменении климата, вы сами наблюдаете его последствия?
— С точки зрения изменений в горах ситуация интересная, есть любопытные открытия. Мы пытались ответить на вопрос: как предсказать, какие виды будут увеличивать свое присутствие, а какие — нет? И оказалось, что всё очень просто. Мы проводим наблюдения уже более 30 лет и четко видим: чем ниже центр ареала вида, тем сильнее этот вид «участвует» в сообществе. То есть растений, которые находятся ниже и более теплолюбивы, становится больше, а тех, у которых центр ареала выше, — меньше. Выходит, что состав не меняется, виды остаются всё те же, но меняется соотношение между ними в сторону более теплолюбивых. Это было показано во всех сообществах.
— С точки зрения изменений в горах ситуация интересная, есть любопытные открытия. Мы пытались ответить на вопрос: как предсказать, какие виды будут увеличивать свое присутствие, а какие — нет? И оказалось, что всё очень просто. Мы проводим наблюдения уже более 30 лет и четко видим: чем ниже центр ареала вида, тем сильнее этот вид «участвует» в сообществе. То есть растений, которые находятся ниже и более теплолюбивы, становится больше, а тех, у которых центр ареала выше, — меньше. Выходит, что состав не меняется, виды остаются всё те же, но меняется соотношение между ними в сторону более теплолюбивых. Это было показано во всех сообществах.
— А что насчет вымирания видов?
— Про вымирание видов сказать сложно, по сравнению с животными оно очень мало отмечено. Вообще, у меня есть два больших расстройства в жизни. Первое связано с моим кругосветным путешествием. Знаете, я вырос на учебниках географии, в которых красиво показывается, что где-то там есть дальние страны, тропики, дикая природа... Но когда я летел в Новую Зеландию через Америку, то с самолета увидел совершенно другую картинку. Огороды, карьеры (особенно в Индонезии), всё перепахано. Везде, кроме пустынь, прослеживались следы деятельности человека. Это было очень тяжкое впечатление, крушение мифов детства.
А второе разочарование случилось в Лейденском центре Naturalis в Нидерландах. Это хороший музей естественной истории, и при нём есть многоэтажное здание, где находится хранилище всех коллекций. Мой приятель предложил мне провести экскурсию, и я согласился.
У них там что-то вроде нашего зоологического музея: один этаж — по систематике птиц, другой — млекопитающие и т. д. Всё хранится очень аккуратно, по последнему слову науки и техники. И тут мы проходим еще один этаж — а там вперемешку всё! Я, естественно, поинтересовался: «Что вы здесь храните?» И мне сотрудники ответили: «Вы знаете, это особый этаж, куда мы помещаем все вымершие виды, сведения о которых за последние 50 лет отсутствуют». Я спрашиваю: «И много таких регистрируется?» А они говорят: «Позвоночных ежегодно — несколько десятков». Только позвоночных!.. Насекомых труднее отследить, как вы понимаете. То есть человечество уничтожает биоразнообразие, несмотря на все призывы и меры, с совершенно несдержанной скоростью.
Вроде все об этом слышали и знают, но когда ты воочию видишь эти коллекции, эти организмы, тушки и чучела красивые, которых уже нет в природе, конечно, это вызывает шок. Вы знаете, в середине прошлого века кто-то (уже точно не помню, кто именно) сказал одну вещь: «Человечеству не надо бояться ядерной войны. Оно погибнет под обломками рухнувшей биосферы». Я под этим целиком и полностью подписываюсь.
— Больно и правдиво!
— Да, к сожалению, такой обескураживающий вывод. В наше время, когда мы в школе проходили марксизм, значительная часть в литературе и истории была посвящена предшественникам марксизма — социалистам-утопистам. Вот я себя отношу к экологическим утопистам. То есть я считаю, что знаю, как именно надо устроить Землю, чтобы человечество нормально развивалось, чтобы сохранялась природа и баланс был соблюден. Грубо говоря, всё сводится к тому, что половина земного шара должна стать природоохранной территорией. А всё развитие, тоже экологически обоснованное, должно быть сосредоточено на другой половине, причем пропорционально — в разных странах, природных зонах и т. д. Вероятность этого с точки зрения экономического развития нулевая.
— И нет поводов для оптимизма?
— К сожалению, всё идет прогрессирующе. Но позитивный пример подали китайцы. Они колоссальные усилия тратят на восстановление природы, причем очень грамотно.
— Они же сейчас вроде бы считаются лидерами по площади рукотворных лесов?
— Причем не просто лесов — лес лесу рознь. Если везде эвкалипты сажать или американские сосны, то тоже будет лес, но произойдет жуткая катастрофа. Они восстанавливают именно природный ценоз — свои виды на научной основе. В это вкладываются огромные деньги, что очень воодушевляет.
— К слову, о научной основе. Сейчас новые технологии сильно меняют, а порой и вообще трансформируют некоторые области науки, — скажем, ту же самую палеонтологию. А как вашу область это затрагивает?
— На нас влияют два относительно новых методологических аспекта — это изотопный анализ и всё, что связано с молекулярной генетикой, с идентификацией организмов.
Что касается наших подходов, они тоже сейчас изменились. Может быть, они не столь революционны с точки зрения техники, но методологически, конечно, это очень сильный прорыв. Мы пытаемся исследовать два компонента, которые раньше не имели такого значения: филогенетическую структуру сообществ и функциональную. В направлении филогенетики мы рассматриваем сообщество как совокупность видов, которые здесь обитают, и смотрим, насколько они близкородственные по сравнению с окружающей случайной выборкой. Это более простая задача, такое связующее звено между экологией и эволюционным учением. А второе, более широкое и тоже с этим связанное направление, — представление о функциональных признаках и функциональном разнообразии сообществ. Грубо говоря, у видов имеются самые разные признаки, которые, как считается, важны для выживаемости и которые легко измерить. Например, для листа это — толщина, содержание воды, размеры, даже площадь одного грамма. А дальше мы смотрим, как организовано сообщество. Выбранный признак важен или не важен? Насколько по этому признаку виды, которые здесь распространены, отличаются от случайной выборки местной флоры? Они более крупнолистные или менее? И другой важный вопрос: чтобы доминировать в сообществе, этот признак важен или нет? Это большая работа, ведь надо много видов изучить, измерить. Но, слава богу, нас РНФ поддерживает, огромное спасибо Фонду.
— Получается, вы ищете какой-то такой определяющий признак?
— Мы ищем признаки, которые влияют на распространение вида. Насколько они определяющие — это, конечно, сложнее сказать. Но, по крайней мере, мы знаем, что тот или иной вид в сообществе не случаен. Идет отбор. Однако каждый таксон тоже имеет свой предел с точки зрения варьирования признаков. Это играет большую роль, а для высокогорья — особенно. Меня поразило, что, где бы ты ни был — в горах Новой Зеландии, Африки, в Тибете, на Кавказе, — находишь одни и те же семейства растений. Рода по большей части тоже очень сходные или те же — только виды разные. Представьте, в Африке гора возвышается над тропическими лесами, там богатейшее, огромнейшее разнообразие семейств! А поднимаемся вверх — и что видим? Лютики, хохлатки, бодяки, мятлики, осоки! То же самое, что и у нас. То есть условия среды — высокогорья — пропускают очень немногие растения.
— Получается, хорошо быть лютиком? Он у нас Тамерлана пережил! В горы забрался!
— Да. [Смеется.]
— А есть ли у вас научная мечта?
— Объяснить, как устроен мир, на примере изучаемых сообществ.
— Объяснить, как устроен мир, — это очень глобально звучит!
— Хочется понять, как устроена живая природа в разных ее проявлениях и почему именно эти организмы здесь живут в том или ином соотношении. Какие механизмы формируют природные сообщества, как их сохранить, что нужно делать, чтобы они не исчезли. Что позволяет им сосуществовать устойчиво, поддерживаться? И, соответственно, достоверно прогнозировать, что будет при тех или иных изменениях среды. Какие-то кусочки этого мы сделали, но до полной картины нам далеко. Знаете, однажды мой приятель Алексей Кондрашов, известный популяционный генетик, с которым мы начинали работу, сказал: «Ты смотришь на луг. Разрушить его — всё равно что два шага сделать, раскопать можно попросту. А вот познать!.. На это не одно десятилетие нужно». Это мы и пытаемся сделать.
— Это очень лирично! То есть такая жажда познания, выходит?
— Естественно! Цель жизни и цель этой деятельности — познать мир вокруг в конкретном его проявлении.
— Про вымирание видов сказать сложно, по сравнению с животными оно очень мало отмечено. Вообще, у меня есть два больших расстройства в жизни. Первое связано с моим кругосветным путешествием. Знаете, я вырос на учебниках географии, в которых красиво показывается, что где-то там есть дальние страны, тропики, дикая природа... Но когда я летел в Новую Зеландию через Америку, то с самолета увидел совершенно другую картинку. Огороды, карьеры (особенно в Индонезии), всё перепахано. Везде, кроме пустынь, прослеживались следы деятельности человека. Это было очень тяжкое впечатление, крушение мифов детства.
А второе разочарование случилось в Лейденском центре Naturalis в Нидерландах. Это хороший музей естественной истории, и при нём есть многоэтажное здание, где находится хранилище всех коллекций. Мой приятель предложил мне провести экскурсию, и я согласился.
У них там что-то вроде нашего зоологического музея: один этаж — по систематике птиц, другой — млекопитающие и т. д. Всё хранится очень аккуратно, по последнему слову науки и техники. И тут мы проходим еще один этаж — а там вперемешку всё! Я, естественно, поинтересовался: «Что вы здесь храните?» И мне сотрудники ответили: «Вы знаете, это особый этаж, куда мы помещаем все вымершие виды, сведения о которых за последние 50 лет отсутствуют». Я спрашиваю: «И много таких регистрируется?» А они говорят: «Позвоночных ежегодно — несколько десятков». Только позвоночных!.. Насекомых труднее отследить, как вы понимаете. То есть человечество уничтожает биоразнообразие, несмотря на все призывы и меры, с совершенно несдержанной скоростью.
Вроде все об этом слышали и знают, но когда ты воочию видишь эти коллекции, эти организмы, тушки и чучела красивые, которых уже нет в природе, конечно, это вызывает шок. Вы знаете, в середине прошлого века кто-то (уже точно не помню, кто именно) сказал одну вещь: «Человечеству не надо бояться ядерной войны. Оно погибнет под обломками рухнувшей биосферы». Я под этим целиком и полностью подписываюсь.
— Больно и правдиво!
— Да, к сожалению, такой обескураживающий вывод. В наше время, когда мы в школе проходили марксизм, значительная часть в литературе и истории была посвящена предшественникам марксизма — социалистам-утопистам. Вот я себя отношу к экологическим утопистам. То есть я считаю, что знаю, как именно надо устроить Землю, чтобы человечество нормально развивалось, чтобы сохранялась природа и баланс был соблюден. Грубо говоря, всё сводится к тому, что половина земного шара должна стать природоохранной территорией. А всё развитие, тоже экологически обоснованное, должно быть сосредоточено на другой половине, причем пропорционально — в разных странах, природных зонах и т. д. Вероятность этого с точки зрения экономического развития нулевая.
— И нет поводов для оптимизма?
— К сожалению, всё идет прогрессирующе. Но позитивный пример подали китайцы. Они колоссальные усилия тратят на восстановление природы, причем очень грамотно.
— Они же сейчас вроде бы считаются лидерами по площади рукотворных лесов?
— Причем не просто лесов — лес лесу рознь. Если везде эвкалипты сажать или американские сосны, то тоже будет лес, но произойдет жуткая катастрофа. Они восстанавливают именно природный ценоз — свои виды на научной основе. В это вкладываются огромные деньги, что очень воодушевляет.
— К слову, о научной основе. Сейчас новые технологии сильно меняют, а порой и вообще трансформируют некоторые области науки, — скажем, ту же самую палеонтологию. А как вашу область это затрагивает?
— На нас влияют два относительно новых методологических аспекта — это изотопный анализ и всё, что связано с молекулярной генетикой, с идентификацией организмов.
Что касается наших подходов, они тоже сейчас изменились. Может быть, они не столь революционны с точки зрения техники, но методологически, конечно, это очень сильный прорыв. Мы пытаемся исследовать два компонента, которые раньше не имели такого значения: филогенетическую структуру сообществ и функциональную. В направлении филогенетики мы рассматриваем сообщество как совокупность видов, которые здесь обитают, и смотрим, насколько они близкородственные по сравнению с окружающей случайной выборкой. Это более простая задача, такое связующее звено между экологией и эволюционным учением. А второе, более широкое и тоже с этим связанное направление, — представление о функциональных признаках и функциональном разнообразии сообществ. Грубо говоря, у видов имеются самые разные признаки, которые, как считается, важны для выживаемости и которые легко измерить. Например, для листа это — толщина, содержание воды, размеры, даже площадь одного грамма. А дальше мы смотрим, как организовано сообщество. Выбранный признак важен или не важен? Насколько по этому признаку виды, которые здесь распространены, отличаются от случайной выборки местной флоры? Они более крупнолистные или менее? И другой важный вопрос: чтобы доминировать в сообществе, этот признак важен или нет? Это большая работа, ведь надо много видов изучить, измерить. Но, слава богу, нас РНФ поддерживает, огромное спасибо Фонду.
— Получается, вы ищете какой-то такой определяющий признак?
— Мы ищем признаки, которые влияют на распространение вида. Насколько они определяющие — это, конечно, сложнее сказать. Но, по крайней мере, мы знаем, что тот или иной вид в сообществе не случаен. Идет отбор. Однако каждый таксон тоже имеет свой предел с точки зрения варьирования признаков. Это играет большую роль, а для высокогорья — особенно. Меня поразило, что, где бы ты ни был — в горах Новой Зеландии, Африки, в Тибете, на Кавказе, — находишь одни и те же семейства растений. Рода по большей части тоже очень сходные или те же — только виды разные. Представьте, в Африке гора возвышается над тропическими лесами, там богатейшее, огромнейшее разнообразие семейств! А поднимаемся вверх — и что видим? Лютики, хохлатки, бодяки, мятлики, осоки! То же самое, что и у нас. То есть условия среды — высокогорья — пропускают очень немногие растения.
— Получается, хорошо быть лютиком? Он у нас Тамерлана пережил! В горы забрался!
— Да. [Смеется.]
— А есть ли у вас научная мечта?
— Объяснить, как устроен мир, на примере изучаемых сообществ.
— Объяснить, как устроен мир, — это очень глобально звучит!
— Хочется понять, как устроена живая природа в разных ее проявлениях и почему именно эти организмы здесь живут в том или ином соотношении. Какие механизмы формируют природные сообщества, как их сохранить, что нужно делать, чтобы они не исчезли. Что позволяет им сосуществовать устойчиво, поддерживаться? И, соответственно, достоверно прогнозировать, что будет при тех или иных изменениях среды. Какие-то кусочки этого мы сделали, но до полной картины нам далеко. Знаете, однажды мой приятель Алексей Кондрашов, известный популяционный генетик, с которым мы начинали работу, сказал: «Ты смотришь на луг. Разрушить его — всё равно что два шага сделать, раскопать можно попросту. А вот познать!.. На это не одно десятилетие нужно». Это мы и пытаемся сделать.
— Это очень лирично! То есть такая жажда познания, выходит?
— Естественно! Цель жизни и цель этой деятельности — познать мир вокруг в конкретном его проявлении.
Интервью впервые опубликовано на портале Naked Science 21.12.2022
