РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Виктор Петров
Хочу не охранять природу
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Виктор Петров
Хочу не охранять природу
- Разговоро том, зачем охранять природу
и кто на самом деле её охраняет - ГеройВиктор Петров, руководитель программы сохранения лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы
- СобеседникНикита Лавренов, биолог, научный журналист, сотрудник Сколтеха
- Беседовалив июне 2024 г.
— Поймал себя на мысли, что словосочетания «защитник природы» у меня ассоциируется с акционизмом – мол, это про залить томатным супом картины Ван Гога, приковать себя к крейсеру в футболке с громким лозунгом... И ведь, если копнуть в историю, то Greenpeace, одна из крупнейших мировых природоохранных организаций, выросла тоже из акционизма, в прошлом веке такой инструмент вообще замечательно работал. Хочется расставить точки над i: какое место в природоохране занимает акционизм, полезен ли он или он только мешает настоящим природоохранникам — про них хочу поговорить чуть позже — делать свою работу?
— Акционизм — это только одно из проявлений природоохраны: громкое, но далеко не самое масштабное. При этом он хорошо работал 50 лет назад, но продолжает работать и сейчас. Greenpeace абсолютно рационально использует его как инструмент. Да, они понимают, что акции в ряде случаев могут раздражать и даже отталкивать часть думающих людей, с которыми возможен диалог. Но к таким можно вернуться позднее с рациональными аргументами, а пока что акция позволяет привлечь внимание самой широкой общественности, вызвать реакцию даже у тех, кто не задумывается про то, что планету беречь надо. И кого-то может вовлечь в решение этой проблемы. А еще акции часто вызывают реакцию «Они там ерунду делают, а мы вот знаем, как лучше». Цель у акции — привлечь внимание к проблеме, а не к самой акции. И, кажется, поставленных целей акционизм успешно добивается и сегодня. Я этот инструмент хорошо понимаю, но скорее отношусь к тем, кому он не очень близок и даже неприятен.
Однако, излишние эмоции без опоры на факты, действительно, могут принести больше вреда, чем пользы природоохранному движению. Многие приходят в эту деятельность через любовь к природе: кто-то собак в детстве любил, кто-то кошек, кому-то раздирали душу бездомные животные и то, как люди с ними обходятся, — в детстве всё это очень ярко эмоционально окрашено и может стать делом жизни.
Но если человек приходит в природоохранное движение на таких вот эмоциях и не получает затем знания об устройстве экосистем, это становится проблемой. В диалоге с бизнесменами, хозяйственниками и людьми, принимающими решения, такие защитники природы часто начинают взывать к стыду: «Что же вы природу не любите? У нашей великой страны должна быть великая природа, надо ее сохранить». И это не работает. Таким журениям легко возразить: «Природу-то мы любим, но жить же как-то надо». Всё, конец дискуссии.
Впервые я это услышал, будучи студентом первого курса биофака Горьковского университета. Мы тогда пришли к лесопромышленнику обсуждать выделение участка леса под охрану и, возможно, создание заказника. Он сказал: «Ну вот нашли вы двух птичек и трех бабочек. А мне людей кормить».
Совсем другое дело, если строить диалог с опорой на рациональные аргументы. Для этого надо получить специальные знания. Скажу банальную мысль: экология — это вообще-то наука об окружающей среде (хотя этим словом иногда называют и сам экоактивизм). Наука может показывать, почему и зачем это всё нужно, эти две птички и три бабочки. У науки рациональные аргументы есть. А за пределами науки находится активизм разной степени информированности.
— То есть наделать шуму и решить проблему – это все-таки две разные вещи, и профессиональный природоохранник будет, скорее, действовать другими методами (держа в уме возможность наделать шуму, если это пойдет на пользу делу)?
— Позвольте маленькое отступление. У того же Greenpeace был прекрасный лозунг, смысл которого в том, что «я не хочу охранять природу, я хочу жить в мире, где ее охранять не требуется, где она и так сохранена». Вот, понимаете, я, наверное, хотел бы не заниматься специально охраной природы. «Профессиональный природоохранник» звучит столь же диковато, как «профессиональный революционер» в свое время. Сделал революцию тут, куда бы мне теперь поехать делать революцию? Или взад-вперед делать её на одном месте? Точно так же «профессиональный природоохранник».
В мире очень много проблем, в которых есть природоохранная составляющая. Локально таких проблем очень много, но они легко группируются по социальным или экономическим тенденциям. Над тем, чтобы найти решения целой группы проблем, работают научные коллективы. Но как только учёные находят решение, они устраняются из процесса, полагая, что дальше люди сами всё сделают. Но они обычно не делают, и природоохранники — это те люди, кто по каким-то причинам остановиться не может и доводит те решения, что нашли учёные, до внедрения в практику.
— То есть вы внедряете на практике решения, предложенные учеными – даже если они выглядят противоречащими лозунгу «надо людей кормить»?
— В этом и важность научного подхода. Он не давит на жалость, а показывает, что это противоречие — кажущееся, на самом деле, его нет. Грубо говоря, на длинной дистанции не прокормишь людей, не сохранив тех трех бабочек. Нужно говорить не о том, как жалко двух птичек и трёх бабочек, а про то, что ученые называют экологическим равновесием, причем не абстрактно, а с конкретными примерами. Наша история накопила достаточно казусов экологических кризисов, когда снижение биологического разнообразия и площадей ненарушенных территорий приводило к негативным последствиям.
— Акционизм — это только одно из проявлений природоохраны: громкое, но далеко не самое масштабное. При этом он хорошо работал 50 лет назад, но продолжает работать и сейчас. Greenpeace абсолютно рационально использует его как инструмент. Да, они понимают, что акции в ряде случаев могут раздражать и даже отталкивать часть думающих людей, с которыми возможен диалог. Но к таким можно вернуться позднее с рациональными аргументами, а пока что акция позволяет привлечь внимание самой широкой общественности, вызвать реакцию даже у тех, кто не задумывается про то, что планету беречь надо. И кого-то может вовлечь в решение этой проблемы. А еще акции часто вызывают реакцию «Они там ерунду делают, а мы вот знаем, как лучше». Цель у акции — привлечь внимание к проблеме, а не к самой акции. И, кажется, поставленных целей акционизм успешно добивается и сегодня. Я этот инструмент хорошо понимаю, но скорее отношусь к тем, кому он не очень близок и даже неприятен.
Однако, излишние эмоции без опоры на факты, действительно, могут принести больше вреда, чем пользы природоохранному движению. Многие приходят в эту деятельность через любовь к природе: кто-то собак в детстве любил, кто-то кошек, кому-то раздирали душу бездомные животные и то, как люди с ними обходятся, — в детстве всё это очень ярко эмоционально окрашено и может стать делом жизни.
Но если человек приходит в природоохранное движение на таких вот эмоциях и не получает затем знания об устройстве экосистем, это становится проблемой. В диалоге с бизнесменами, хозяйственниками и людьми, принимающими решения, такие защитники природы часто начинают взывать к стыду: «Что же вы природу не любите? У нашей великой страны должна быть великая природа, надо ее сохранить». И это не работает. Таким журениям легко возразить: «Природу-то мы любим, но жить же как-то надо». Всё, конец дискуссии.
Впервые я это услышал, будучи студентом первого курса биофака Горьковского университета. Мы тогда пришли к лесопромышленнику обсуждать выделение участка леса под охрану и, возможно, создание заказника. Он сказал: «Ну вот нашли вы двух птичек и трех бабочек. А мне людей кормить».
Совсем другое дело, если строить диалог с опорой на рациональные аргументы. Для этого надо получить специальные знания. Скажу банальную мысль: экология — это вообще-то наука об окружающей среде (хотя этим словом иногда называют и сам экоактивизм). Наука может показывать, почему и зачем это всё нужно, эти две птички и три бабочки. У науки рациональные аргументы есть. А за пределами науки находится активизм разной степени информированности.
— То есть наделать шуму и решить проблему – это все-таки две разные вещи, и профессиональный природоохранник будет, скорее, действовать другими методами (держа в уме возможность наделать шуму, если это пойдет на пользу делу)?
— Позвольте маленькое отступление. У того же Greenpeace был прекрасный лозунг, смысл которого в том, что «я не хочу охранять природу, я хочу жить в мире, где ее охранять не требуется, где она и так сохранена». Вот, понимаете, я, наверное, хотел бы не заниматься специально охраной природы. «Профессиональный природоохранник» звучит столь же диковато, как «профессиональный революционер» в свое время. Сделал революцию тут, куда бы мне теперь поехать делать революцию? Или взад-вперед делать её на одном месте? Точно так же «профессиональный природоохранник».
В мире очень много проблем, в которых есть природоохранная составляющая. Локально таких проблем очень много, но они легко группируются по социальным или экономическим тенденциям. Над тем, чтобы найти решения целой группы проблем, работают научные коллективы. Но как только учёные находят решение, они устраняются из процесса, полагая, что дальше люди сами всё сделают. Но они обычно не делают, и природоохранники — это те люди, кто по каким-то причинам остановиться не может и доводит те решения, что нашли учёные, до внедрения в практику.
— То есть вы внедряете на практике решения, предложенные учеными – даже если они выглядят противоречащими лозунгу «надо людей кормить»?
— В этом и важность научного подхода. Он не давит на жалость, а показывает, что это противоречие — кажущееся, на самом деле, его нет. Грубо говоря, на длинной дистанции не прокормишь людей, не сохранив тех трех бабочек. Нужно говорить не о том, как жалко двух птичек и трёх бабочек, а про то, что ученые называют экологическим равновесием, причем не абстрактно, а с конкретными примерами. Наша история накопила достаточно казусов экологических кризисов, когда снижение биологического разнообразия и площадей ненарушенных территорий приводило к негативным последствиям.
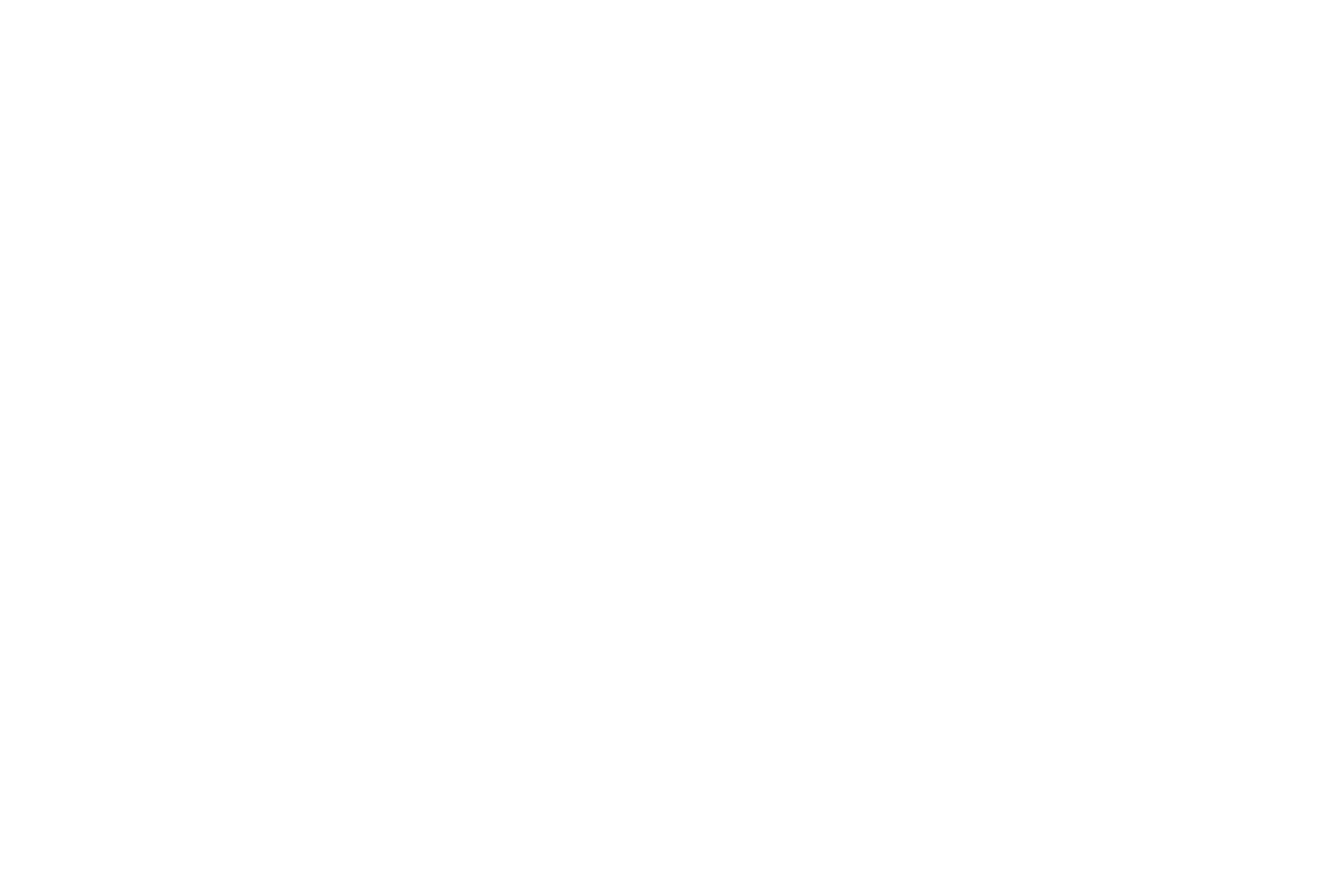
Из личного архива
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
— Например?
— Один из наиболее ярких примеров — Сахельская трагедия. В середине прошлого века страны Сахеля — это регион, тянущийся через Африку от Красного Моря до Атлантического океана по северной границе Сахары — снабжали мясом практически всю Западную Европу. Это вот как если в Советском Союзе девушка отказывала парню, то он ехал БАМ строить, то в Британии в 1930-х отвергнутые молодые люди ехали в Африку заниматься сельским хозяйством. А самое прибыльное хозяйство там — скотоводство.
И вот в 1970-х в Сахеле случился очередной период экстремальной засухи. Такое — всегда испытание для экосистем, а к этому времени экосистемы были сильно преобразованы избыточным выпасом, кустарниковая растительность там была практически сведена… И всё, случилась трагедия. Скот погиб, экспорт мяса остановился — экономические убытки. Потом начался голод, колоссальный рост детской смертности, границы Сахары существенно сдвинулась на север. Регион так и не оправился от последствий этой катастрофы, его некогда высокое хозяйственное значение утрачено, там до сих пор нищета и неблагоприятная обстановка.
Этот пример прогремел на весь мир, но есть и масса других, правда, выявлять их сложнее. Я, например, свою дипломную работу делал по Горьковской области: сравнивал её административные районы по показателям заболеваемости, урожайности сельскохозяйственных культур, продолжительности жизни и соотносил эти параметры с площадями ненарушенных экосистем, исключив из сравнения сам Нижний Новгород и городские агломерации, как Дзержинск, например.
Сначала закономерностей я не заметил. Но потом посмотрел, сколько тратится на здравоохранение и соцобслуживание, то обнаружил любопытный эффект. Чтобы продолжительность жизни в разных районах была на примерно одинаковом уровне, в районе с нарушенными природными территориями приходилось тратить больше денег на здравоохранение. Условно говоря, вырубили 100 гектаров леса — будьте добры в районную больницу плюс одно койко-место. Подчеркну, что статистически достоверный результат мне получить не удалось, но тенденция была отчетливой. Возможно, если провести такую работу на нескольких областях со схожими природными условиями, то получится уже и убедительная статистика.
— Ваши примеры звучат очень рационально. А существуют ли примеры, в которых наглядна вся цепочка причинно-следственных связей от, условно, сведения леса до койко-места в районной больнице?
— В последние пару десятилетий для описания таких эффектов активно внедряют термин «экосистемные услуги», это одно из основных понятий в повестке устойчивого развития. Эти экосистемные услуги пытаются просчитать в экономическом эквиваленте, и примеров наука накопила уже немало.
Как это работает? Например, сведение леса существенно снижает влагоудерживающие свойства почвы. Деревья могут аккумулировать огромные объёмы воды, а когда их вырубают, то все излишки начинают стекать в реки. Соответственно, половодье более высокое, межень более низкая. Чтобы вести хозяйство на таких территориях, приходится как-то компенсировать. Например, мелиорацией. Кроме того, вода выносит из экосистем питательные элементы, и это приходится компенсировать удобрениями. В масштабах больших территорий можно даже просчитать, покрывает ли та прибыль, что дало сведение леса, те расходы, которые пришлось понести для компенсации экологических последствий. Сейчас эта область активно развивается, учёные уже довольно точно могут оценить недополученную прибыль и понесенные затраты из-за нарушения экосистем. Нарушенные экосистемы, конечно, тоже оказывают экосистемные услуги, но делают это они гораздо менее эффективно, чем ненарушенные.
Вот вам и рациональные аргументы, зачем нам природу охранять. И было бы здорово, если бы экологическое образование, просвещение давало бы людям больше таких примеров. И локального уровня, и глобального. Чтобы, как там говорится, «думай глобально, действуй локально».
— А какими инструментами вы решаете проблемы – на локальном уровне? Вы берёте вот то, на чём остановились ученые, и?
— Это сложный вопрос. Обычно всё начинается с самого простого и зачастую незаметного. Вот мы выявили проблему, дальше находим экспертов, кто может о ней говорить, даём возможность им высказаться публично. Это привлекает внимание людей, в том числе тех, кто принимает решения. Это не лоббирование даже; мы исходим из предпосылки, что все люди в общем неплохи и со всеми можно договориться. Все люди хотят, чтобы конфликтов и сложных ситуаций было бы поменьше. Выявили проблему, разработали решение, привлекли внимание нужных людей — и часть проблем решается уже на этом этапе. Решение может быть не одно, их может быть несколько, и дальше в диалоге мы приходим к оптимальному для всех сторон.
Решение, которое я часто предлагаю со своей стороны – это создание особо охраняемой природной территории (ООПТ).
— Давайте остановимся на них подробнее – это важно, чтобы читатели не запутались. Какие они бывают и чем отличаются – заповедник, нацпарк и какие ещё формы охраны природы бывают у нас? Мне кажется, почти каждый слышал эти слова, но мало кто понимает между ними разницу. И как они появляются?
— Начнем с заповедника. Заповедник — самая строго охраняемая территория. Там ничего нельзя, кроме научных исследований и ограниченного посещения, в классическом смысле вообще в сопровождении представителя заповедника. Еще раз: ничего делать нельзя, только исследовать, только наблюдать.
В национальном парке, в отличие от заповедника, есть несколько зон. Всегда должно быть заповедное ядро, где, как и в заповеднике, ничего нельзя делать, а его окружают зоны, которые можно использовать под рекреацию и даже вести хозяйственную деятельность, но с существенными ограничениями. То есть нужно делать так, чтобы сохранился тот природный комплекс, который был на момент создания, — в этом весь смысл.
Природный парк — это то же самое, что национальный парк, но только другого уровня подчинения. Как понятно из названия, нацпарк — это федеральная особо охраняемая природная территория (ООПТ), а природный парк — региональная, их создают и управляют ими субъекты Российской Федерации.
А вот заказники — самые разные по режиму ООПТ. Могут быть строгие заказники фактически с режимом заповедника, — это зависит от того, в опасности какого уровня находится охраняемые в них природные объекты. То есть логика такая: вводятся меры, достаточные для сохранения тех объектов, который заказник призвать сберечь. И есть еще памятник природы. Это очень похоже на заказник, но заказник — это крупный объект, а памятник природы — единичный: гора, озеро или какой-либо ещё объект и территория вокруг него.
Есть у нас еще одна форма особо охраняемых природных территорий – это ботанический сад. У некоторых ботанических садов есть заповедные участки, то есть чем-то это напоминает национальный или природный парк. Правда, таких ботанических садов с собственной заповедной зоной у нас очень мало. Например, у Полярно-альпийского ботанического сада-института, самого северного ботанического сада в России, она есть.
Как вы видите, ООПТ по закону полностью или частично изымаются из хозяйственного использования. Несложно догадаться, что создать их непросто – хозяйствующие субъекты чаще всего вам скажут «так решать проблему мы не хотим, это свяжет нам руки, давайте на всякий случай не будем ничего создавать». Даже если никакого проекта по хозяйственному использованию территории нет, все равно вот так. Или предлагают вместо нужных территорий под охранный статус взять место, в котором ничего никому не угрожает — «возьми, Боже, что нам не гоже». В таких ситуациях приходится привлекать внимание общественности к проблеме, писать массовые письма, активно и публично разъяснять, зачем надо сделать так, а не иначе, и если уж ничего не работает, то акционизм. К нему прибегали уже на достаточно болезненных этапах. В целом, наша работа — это про общение. Вот, например, национальный парк «Хибины». От момента предложения его создания до, собственно, его создания прошёл 101 год. Это самый долго создававшийся национальный парк в мире.
Но если отбросить момент предложения идеи и взять только процесс от начала проектирования, то это около 30 лет. Хибины — это одновременно и горнопромышленный район, и туристический район, и район с высокой природной ценностью, и за долгую историю промышленного освоения — нарушенный район. И приходится тонко искать баланс интересов. С другой стороны, поскольку это популярное направление, то для прироохранников он приобретает отдельную важность. Как будет выглядеть всё движение по охране природы, если оно такой вот объект мы не сумели сохранить. И вот на протяжении 30 лет проект разные стороны пытались отстоять свои интересы, шло бесконечное обсуждение и согласование с управленцами разных профилей и разного уровня, мы находили понимание и поддержку и со стороны горнопромышленников, и со стороны чиновников, мы находили компромиссы, как сделать нацпарк так, чтобы всем было комфортно… Но эти компромиссы не реализовывались.
— Один из наиболее ярких примеров — Сахельская трагедия. В середине прошлого века страны Сахеля — это регион, тянущийся через Африку от Красного Моря до Атлантического океана по северной границе Сахары — снабжали мясом практически всю Западную Европу. Это вот как если в Советском Союзе девушка отказывала парню, то он ехал БАМ строить, то в Британии в 1930-х отвергнутые молодые люди ехали в Африку заниматься сельским хозяйством. А самое прибыльное хозяйство там — скотоводство.
И вот в 1970-х в Сахеле случился очередной период экстремальной засухи. Такое — всегда испытание для экосистем, а к этому времени экосистемы были сильно преобразованы избыточным выпасом, кустарниковая растительность там была практически сведена… И всё, случилась трагедия. Скот погиб, экспорт мяса остановился — экономические убытки. Потом начался голод, колоссальный рост детской смертности, границы Сахары существенно сдвинулась на север. Регион так и не оправился от последствий этой катастрофы, его некогда высокое хозяйственное значение утрачено, там до сих пор нищета и неблагоприятная обстановка.
Этот пример прогремел на весь мир, но есть и масса других, правда, выявлять их сложнее. Я, например, свою дипломную работу делал по Горьковской области: сравнивал её административные районы по показателям заболеваемости, урожайности сельскохозяйственных культур, продолжительности жизни и соотносил эти параметры с площадями ненарушенных экосистем, исключив из сравнения сам Нижний Новгород и городские агломерации, как Дзержинск, например.
Сначала закономерностей я не заметил. Но потом посмотрел, сколько тратится на здравоохранение и соцобслуживание, то обнаружил любопытный эффект. Чтобы продолжительность жизни в разных районах была на примерно одинаковом уровне, в районе с нарушенными природными территориями приходилось тратить больше денег на здравоохранение. Условно говоря, вырубили 100 гектаров леса — будьте добры в районную больницу плюс одно койко-место. Подчеркну, что статистически достоверный результат мне получить не удалось, но тенденция была отчетливой. Возможно, если провести такую работу на нескольких областях со схожими природными условиями, то получится уже и убедительная статистика.
— Ваши примеры звучат очень рационально. А существуют ли примеры, в которых наглядна вся цепочка причинно-следственных связей от, условно, сведения леса до койко-места в районной больнице?
— В последние пару десятилетий для описания таких эффектов активно внедряют термин «экосистемные услуги», это одно из основных понятий в повестке устойчивого развития. Эти экосистемные услуги пытаются просчитать в экономическом эквиваленте, и примеров наука накопила уже немало.
Как это работает? Например, сведение леса существенно снижает влагоудерживающие свойства почвы. Деревья могут аккумулировать огромные объёмы воды, а когда их вырубают, то все излишки начинают стекать в реки. Соответственно, половодье более высокое, межень более низкая. Чтобы вести хозяйство на таких территориях, приходится как-то компенсировать. Например, мелиорацией. Кроме того, вода выносит из экосистем питательные элементы, и это приходится компенсировать удобрениями. В масштабах больших территорий можно даже просчитать, покрывает ли та прибыль, что дало сведение леса, те расходы, которые пришлось понести для компенсации экологических последствий. Сейчас эта область активно развивается, учёные уже довольно точно могут оценить недополученную прибыль и понесенные затраты из-за нарушения экосистем. Нарушенные экосистемы, конечно, тоже оказывают экосистемные услуги, но делают это они гораздо менее эффективно, чем ненарушенные.
Вот вам и рациональные аргументы, зачем нам природу охранять. И было бы здорово, если бы экологическое образование, просвещение давало бы людям больше таких примеров. И локального уровня, и глобального. Чтобы, как там говорится, «думай глобально, действуй локально».
— А какими инструментами вы решаете проблемы – на локальном уровне? Вы берёте вот то, на чём остановились ученые, и?
— Это сложный вопрос. Обычно всё начинается с самого простого и зачастую незаметного. Вот мы выявили проблему, дальше находим экспертов, кто может о ней говорить, даём возможность им высказаться публично. Это привлекает внимание людей, в том числе тех, кто принимает решения. Это не лоббирование даже; мы исходим из предпосылки, что все люди в общем неплохи и со всеми можно договориться. Все люди хотят, чтобы конфликтов и сложных ситуаций было бы поменьше. Выявили проблему, разработали решение, привлекли внимание нужных людей — и часть проблем решается уже на этом этапе. Решение может быть не одно, их может быть несколько, и дальше в диалоге мы приходим к оптимальному для всех сторон.
Решение, которое я часто предлагаю со своей стороны – это создание особо охраняемой природной территории (ООПТ).
— Давайте остановимся на них подробнее – это важно, чтобы читатели не запутались. Какие они бывают и чем отличаются – заповедник, нацпарк и какие ещё формы охраны природы бывают у нас? Мне кажется, почти каждый слышал эти слова, но мало кто понимает между ними разницу. И как они появляются?
— Начнем с заповедника. Заповедник — самая строго охраняемая территория. Там ничего нельзя, кроме научных исследований и ограниченного посещения, в классическом смысле вообще в сопровождении представителя заповедника. Еще раз: ничего делать нельзя, только исследовать, только наблюдать.
В национальном парке, в отличие от заповедника, есть несколько зон. Всегда должно быть заповедное ядро, где, как и в заповеднике, ничего нельзя делать, а его окружают зоны, которые можно использовать под рекреацию и даже вести хозяйственную деятельность, но с существенными ограничениями. То есть нужно делать так, чтобы сохранился тот природный комплекс, который был на момент создания, — в этом весь смысл.
Природный парк — это то же самое, что национальный парк, но только другого уровня подчинения. Как понятно из названия, нацпарк — это федеральная особо охраняемая природная территория (ООПТ), а природный парк — региональная, их создают и управляют ими субъекты Российской Федерации.
А вот заказники — самые разные по режиму ООПТ. Могут быть строгие заказники фактически с режимом заповедника, — это зависит от того, в опасности какого уровня находится охраняемые в них природные объекты. То есть логика такая: вводятся меры, достаточные для сохранения тех объектов, который заказник призвать сберечь. И есть еще памятник природы. Это очень похоже на заказник, но заказник — это крупный объект, а памятник природы — единичный: гора, озеро или какой-либо ещё объект и территория вокруг него.
Есть у нас еще одна форма особо охраняемых природных территорий – это ботанический сад. У некоторых ботанических садов есть заповедные участки, то есть чем-то это напоминает национальный или природный парк. Правда, таких ботанических садов с собственной заповедной зоной у нас очень мало. Например, у Полярно-альпийского ботанического сада-института, самого северного ботанического сада в России, она есть.
Как вы видите, ООПТ по закону полностью или частично изымаются из хозяйственного использования. Несложно догадаться, что создать их непросто – хозяйствующие субъекты чаще всего вам скажут «так решать проблему мы не хотим, это свяжет нам руки, давайте на всякий случай не будем ничего создавать». Даже если никакого проекта по хозяйственному использованию территории нет, все равно вот так. Или предлагают вместо нужных территорий под охранный статус взять место, в котором ничего никому не угрожает — «возьми, Боже, что нам не гоже». В таких ситуациях приходится привлекать внимание общественности к проблеме, писать массовые письма, активно и публично разъяснять, зачем надо сделать так, а не иначе, и если уж ничего не работает, то акционизм. К нему прибегали уже на достаточно болезненных этапах. В целом, наша работа — это про общение. Вот, например, национальный парк «Хибины». От момента предложения его создания до, собственно, его создания прошёл 101 год. Это самый долго создававшийся национальный парк в мире.
Но если отбросить момент предложения идеи и взять только процесс от начала проектирования, то это около 30 лет. Хибины — это одновременно и горнопромышленный район, и туристический район, и район с высокой природной ценностью, и за долгую историю промышленного освоения — нарушенный район. И приходится тонко искать баланс интересов. С другой стороны, поскольку это популярное направление, то для прироохранников он приобретает отдельную важность. Как будет выглядеть всё движение по охране природы, если оно такой вот объект мы не сумели сохранить. И вот на протяжении 30 лет проект разные стороны пытались отстоять свои интересы, шло бесконечное обсуждение и согласование с управленцами разных профилей и разного уровня, мы находили понимание и поддержку и со стороны горнопромышленников, и со стороны чиновников, мы находили компромиссы, как сделать нацпарк так, чтобы всем было комфортно… Но эти компромиссы не реализовывались.
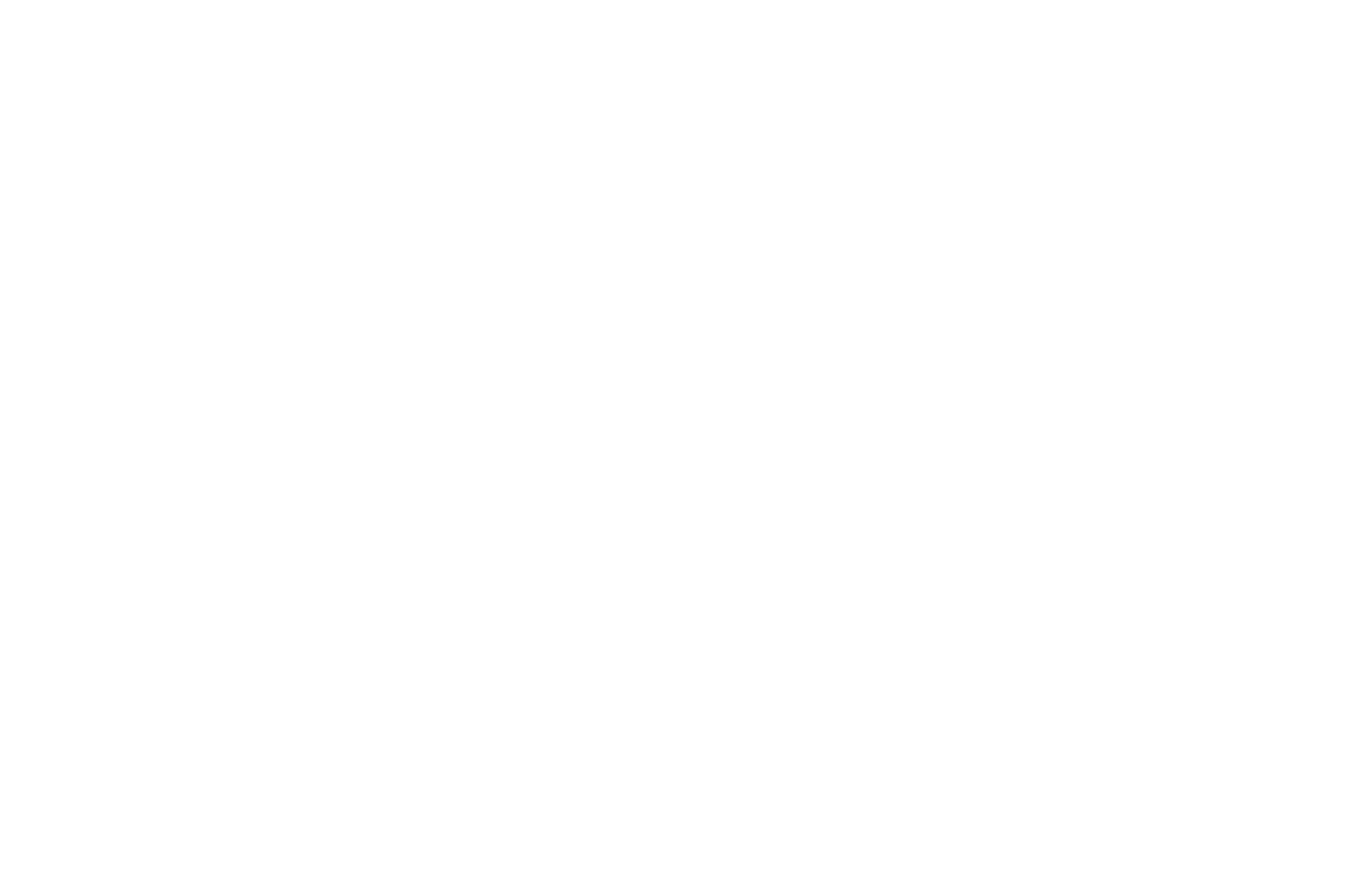
Из личного архива
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
— И что же помогло сдвинуть ситуацию?
— Компромиссы не реализовывались, пока не возник такой хозяйственный проект, который предлагал потесниться всем прежним участникам обсуждения: и горнопромышленникам, и турбизнесу, и охране природы. А там и так уже тесниться некуда было. Вот только тогда мы прибегли к общественным обращениям и применению законодательства. И в 2018 году нацпарк «Хибины», наконец-то, был учрежден. Да, к сожалению, в территориальной охране природы компромисс часто состоит не в том, чтобы совместный выигрыш сторон был наибольшим, а в том, чтобы каждая сторона потеряла как можно меньше, и при этом чтобы мы — природоохранники — потеряли не меньше, чем наши визави.
Позвольте ещё отступление. У нас в 1990-е начали формироваться достаточно хорошие институты рационального сохранения природы. Тот же самый институт экологической экспертизы был очень действенным регулирующим инструментом, пока не был усечён до нынешнего состояния.
Нормы на каждую ситуацию придумать невозможно, и что будет придумано для Московской области вряд ли будет работать на Дальнем Востоке. Поэтому жестких норм в экологическом законодательстве у нас почти нет, и это нормально, их заменял институт экологической экспертизы. Это, по сути, процедура формирования локального экологического законодательства, в процессе которой учёные устанавливают, что в каждом конкретном месте делать можно, а что нельзя. И необходимость этой процедуры и порядок её проведения были прописаны в законодательстве. Но сейчас это почти ушло. Сейчас экологическая экспертиза — это соответствие общим нормативным законодательным требованиям, это больше не поиск научного решения. Зарождались в 1990-х механизмы, но не устоялись.
— Но вы всё же действуете в рамках правового поля?
— Конечно. В законодательстве всё ещё остались инструменты, которыми можно пользоваться, к которым можно апеллировать.
— И получается, если резюмировать, то работа природозащитника — это бесконечные коммуникации? Это донесение научных достижений населению, объяснение, как работают экосистемы и как они связаны с экономикой, это выявление конфликтов с природоохраной составляющей, общение со всеми сторонами конфликта, поиск компромисса… Это коммуникация как с рациональными аргументами, так и игра на эмоциях.
— Да, и тут я хотел бы подчеркнуть два момента. Во-первых, природоохрана — это всегда про обратную связь. Мы действительно стараемся услышать все стороны и донести всем сложность устройства экосистем, в которых тяжелые последствия сегодняшних решений могут наступить лишь спустя десятки лет и лучше не запускать деструктивные процессы. Природа же тоже про обратные связи, порой сильно отложенные во времени. И, во-вторых, в основе нашей деятельности всё же лежит наука, научная экология.
— Компромиссы не реализовывались, пока не возник такой хозяйственный проект, который предлагал потесниться всем прежним участникам обсуждения: и горнопромышленникам, и турбизнесу, и охране природы. А там и так уже тесниться некуда было. Вот только тогда мы прибегли к общественным обращениям и применению законодательства. И в 2018 году нацпарк «Хибины», наконец-то, был учрежден. Да, к сожалению, в территориальной охране природы компромисс часто состоит не в том, чтобы совместный выигрыш сторон был наибольшим, а в том, чтобы каждая сторона потеряла как можно меньше, и при этом чтобы мы — природоохранники — потеряли не меньше, чем наши визави.
Позвольте ещё отступление. У нас в 1990-е начали формироваться достаточно хорошие институты рационального сохранения природы. Тот же самый институт экологической экспертизы был очень действенным регулирующим инструментом, пока не был усечён до нынешнего состояния.
Нормы на каждую ситуацию придумать невозможно, и что будет придумано для Московской области вряд ли будет работать на Дальнем Востоке. Поэтому жестких норм в экологическом законодательстве у нас почти нет, и это нормально, их заменял институт экологической экспертизы. Это, по сути, процедура формирования локального экологического законодательства, в процессе которой учёные устанавливают, что в каждом конкретном месте делать можно, а что нельзя. И необходимость этой процедуры и порядок её проведения были прописаны в законодательстве. Но сейчас это почти ушло. Сейчас экологическая экспертиза — это соответствие общим нормативным законодательным требованиям, это больше не поиск научного решения. Зарождались в 1990-х механизмы, но не устоялись.
— Но вы всё же действуете в рамках правового поля?
— Конечно. В законодательстве всё ещё остались инструменты, которыми можно пользоваться, к которым можно апеллировать.
— И получается, если резюмировать, то работа природозащитника — это бесконечные коммуникации? Это донесение научных достижений населению, объяснение, как работают экосистемы и как они связаны с экономикой, это выявление конфликтов с природоохраной составляющей, общение со всеми сторонами конфликта, поиск компромисса… Это коммуникация как с рациональными аргументами, так и игра на эмоциях.
— Да, и тут я хотел бы подчеркнуть два момента. Во-первых, природоохрана — это всегда про обратную связь. Мы действительно стараемся услышать все стороны и донести всем сложность устройства экосистем, в которых тяжелые последствия сегодняшних решений могут наступить лишь спустя десятки лет и лучше не запускать деструктивные процессы. Природа же тоже про обратные связи, порой сильно отложенные во времени. И, во-вторых, в основе нашей деятельности всё же лежит наука, научная экология.
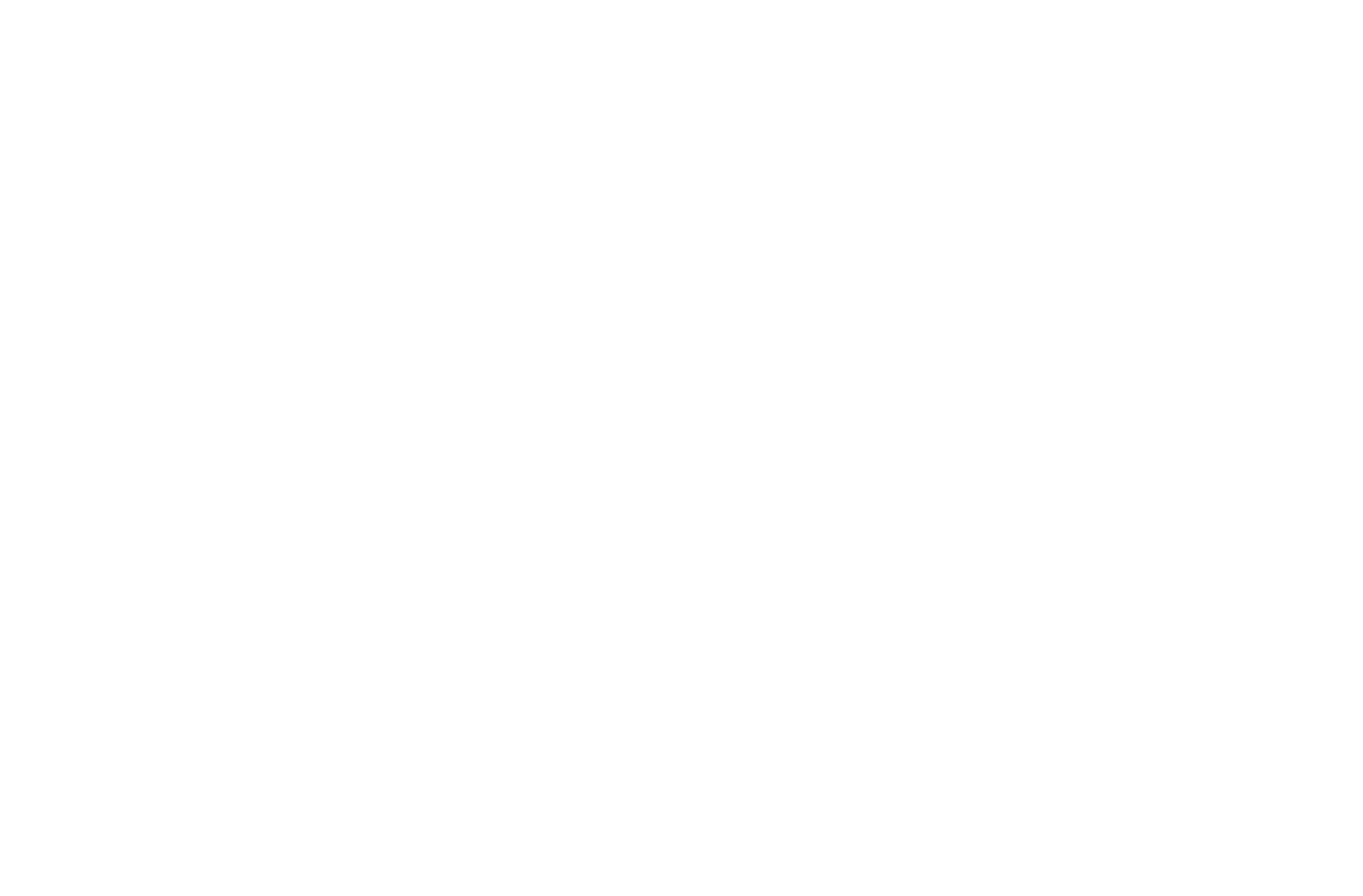
Из личного архива
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
— По данным Росзаповедцентра, в России около 240 особо охраняемых природных территорий федерального уровня и ещё около 12 тысяч — регионального. И в сумме они все занимают около 12% площади всей страны. Неужели этого мало?
— Это вопрос немного ненаучный. Есть вот, например, Куньминско-Монреальская декларация, недавно заключенная, в ней говорится, что надо 30% от общей территории охранять. Но 12% или 30% — это некая средняя цифра, смысла в ней мало. Надо учитывать, какие именно экосистемы на этой территории находятся, какие там условия, какой способ хозяйствования нам надо ограничить...
В Мурманской области ООПТ занимают 13 с небольшим процентов, и этого мало. Почему? Попробую совсем бытовой пример привести. С годами человек может постепенно лысеть, но с какого момента его можно назвать лысым, сколько волосков на его голове должно остаться? Очень зависит от того, какие курчавые или прямые у человека волосы, как они у него выпадают. Похожая история с экосистемами — они очень разные: экологические связи в северной тайге и тем более в тундре рвуться при меньшей степени нарушения, чем в тайге южной.
Или даже хозяйственной деятельности уже может не быть, но это все равно уже нарушенная и фрагментированная экосистема. Там могут даже активно идти процессы восстановления, но при этом на восстанавливающихся участках будут размножаться разные организмы, которые в большом количестве станут тем, кого мы называем вредителями. И про фрагментацию — когда рвутся пространственные связи между ненарушенными природными участками — это может быть даже хуже, чем прямой эффект от некоторых видов хозяйственной деятельности.
Чтобы вся система была устойчивой и связи в ней были устойчивыми, нужна высокая доля ненарушенных территорий. Именно поэтому 30% звучит достаточно рационально, но в Мурманской области площадь ООПТ должна быть больше даже этого значения.
О третях рассуждал ещё наш выдающийся учёный Яблоков в 1970-х годах. Он полагал, что экологический баланс сохранится, если всю сушу разделить на трети: одна треть интенсивно используется человеком, ещё треть используется относительно экстенсивно и примерно треть практически не используется. Это совсем общее рассуждение, но я бы пошёл по такому пути.
— Это вопрос немного ненаучный. Есть вот, например, Куньминско-Монреальская декларация, недавно заключенная, в ней говорится, что надо 30% от общей территории охранять. Но 12% или 30% — это некая средняя цифра, смысла в ней мало. Надо учитывать, какие именно экосистемы на этой территории находятся, какие там условия, какой способ хозяйствования нам надо ограничить...
В Мурманской области ООПТ занимают 13 с небольшим процентов, и этого мало. Почему? Попробую совсем бытовой пример привести. С годами человек может постепенно лысеть, но с какого момента его можно назвать лысым, сколько волосков на его голове должно остаться? Очень зависит от того, какие курчавые или прямые у человека волосы, как они у него выпадают. Похожая история с экосистемами — они очень разные: экологические связи в северной тайге и тем более в тундре рвуться при меньшей степени нарушения, чем в тайге южной.
Или даже хозяйственной деятельности уже может не быть, но это все равно уже нарушенная и фрагментированная экосистема. Там могут даже активно идти процессы восстановления, но при этом на восстанавливающихся участках будут размножаться разные организмы, которые в большом количестве станут тем, кого мы называем вредителями. И про фрагментацию — когда рвутся пространственные связи между ненарушенными природными участками — это может быть даже хуже, чем прямой эффект от некоторых видов хозяйственной деятельности.
Чтобы вся система была устойчивой и связи в ней были устойчивыми, нужна высокая доля ненарушенных территорий. Именно поэтому 30% звучит достаточно рационально, но в Мурманской области площадь ООПТ должна быть больше даже этого значения.
О третях рассуждал ещё наш выдающийся учёный Яблоков в 1970-х годах. Он полагал, что экологический баланс сохранится, если всю сушу разделить на трети: одна треть интенсивно используется человеком, ещё треть используется относительно экстенсивно и примерно треть практически не используется. Это совсем общее рассуждение, но я бы пошёл по такому пути.
— А если взять Мурманскую область сейчас, какие пропорции будут?
— Точно не равные. Интенсивно у нас используется, быть может, и не очень много: есть города, месторождения, чуть-чуть полей… Но в прошлом веке здесь очень активно рубились леса, от рубок и от лесных дорог шли сильнейшие пожары. Тогда мы срубили и запустили пожары гораздо чем на трети использовавшихся лесов, эти территории сейчас восстанавливаются. Вот сколько мы срубили, столько, по-хорошему, должно быть и охраняемых территорий, а их лишь 13%.
— Раз уж зашла речь про последние сто лет, то хотел бы задать вопрос про XX век. У меня сложилось впечатление, что прошлый век — это век глобальных экологических ошибок. Тогда ещё мало было известно толком про то, как экосистемы работают, и вот человечество шишек-то и набило. Сейчас мы их рефлексируем, выносим уроки, хотя и наступаем порой на те же грабли. Насколько мои соображения соответствует действительности?
— Я даже не буду вас поправлять, сам себя частенько на подобных мыслях ловлю. Единственное, хотелось бы немного дополнить. Мы привыкли считать ошибками, например, концентрированные рубки, добычу полезных ископаемых открытым способом или крупные водохранилища… Но можно посмотреть на это через призмы идей Вернадского и современной экологии, понимаете, это не просто ошибки – мы теперь живем в новом измененном мире.
Воздействие на окружающую среду таких масштабов подчеркивает, что энергетическая мощность человека возросла настолько, что он становится геологической силой. Но что это значит с точки зрения природы? Тут мне нравится одна из краеугольных концепций экологии — это идея сукцессии и климакса. Только не в понимании Клементса, а в современном, динамическом понимании климакса.
В охраняемых климаксных экосистемах нарушения тоже будут, только их масштабы очень ограничены. Например, упало дерево — и в кронах просвет стал, и почвенный покров нарушился, запустился процесс восстановления, то есть, сукцессия, но всё это очень локализовано.
А что делает любой крупный проект? Он запускает сукцессию на очень большой площади. Помните, я говорил про неприятные для человека стадии восстановления экосистем? Вот прошла сплошная рубка, потом началось восстановление: сначала берёзовая стадия, потом формируется сосновый лес. И в какой-то момент мы получаем огромный по площади массив одновозрастного соснового леса. А сосняки прекрасно горят. И мы на огромной территории имеем источник пожарной опасности.
И это упрощенное представление. Помимо пожарной опасности, старые одновозрастные леса ещё и отличное место для размножения лесных паразитов. А потом этот лес начнёт стремительно выпадать — даже если просто от старости — резко изменится гидрологический режим, о чем мы, опять же, уже говорили.
— Получается, мы не просто отстраненно рефлексируем, но и пожинаем плоды тех ошибок прошлого.
— Да, проекты разворачивались в прошлом веке, а сукцессии всё ещё продолжаются. Теперь на севере, например, в Мурманской области, объём лесозаготовок упал в десятки раз. Но это всё вовсе не значит, что крупные проекты здесь перестали запускаться. Ещё совсем недавно, лет 15 назад, хотели у нас создать сразу несколько приливных электростанций. Отдельная приливная электростанция — не очень крупный проект. Но вот сразу сеть перезапустит сукцессию на существенной части побережья.
Поэтому рефлексия полезна, но хорошо бы из этой рефлексии сделать надлежащий вывод и умно, тщательно, со всем имеющимся и развивающимся научным инструментарием анализировать те проекты, которые есть, чтобы потом не рефлексировать о прошлом, а извлечь из этого уроки.
— Точно не равные. Интенсивно у нас используется, быть может, и не очень много: есть города, месторождения, чуть-чуть полей… Но в прошлом веке здесь очень активно рубились леса, от рубок и от лесных дорог шли сильнейшие пожары. Тогда мы срубили и запустили пожары гораздо чем на трети использовавшихся лесов, эти территории сейчас восстанавливаются. Вот сколько мы срубили, столько, по-хорошему, должно быть и охраняемых территорий, а их лишь 13%.
— Раз уж зашла речь про последние сто лет, то хотел бы задать вопрос про XX век. У меня сложилось впечатление, что прошлый век — это век глобальных экологических ошибок. Тогда ещё мало было известно толком про то, как экосистемы работают, и вот человечество шишек-то и набило. Сейчас мы их рефлексируем, выносим уроки, хотя и наступаем порой на те же грабли. Насколько мои соображения соответствует действительности?
— Я даже не буду вас поправлять, сам себя частенько на подобных мыслях ловлю. Единственное, хотелось бы немного дополнить. Мы привыкли считать ошибками, например, концентрированные рубки, добычу полезных ископаемых открытым способом или крупные водохранилища… Но можно посмотреть на это через призмы идей Вернадского и современной экологии, понимаете, это не просто ошибки – мы теперь живем в новом измененном мире.
Воздействие на окружающую среду таких масштабов подчеркивает, что энергетическая мощность человека возросла настолько, что он становится геологической силой. Но что это значит с точки зрения природы? Тут мне нравится одна из краеугольных концепций экологии — это идея сукцессии и климакса. Только не в понимании Клементса, а в современном, динамическом понимании климакса.
В охраняемых климаксных экосистемах нарушения тоже будут, только их масштабы очень ограничены. Например, упало дерево — и в кронах просвет стал, и почвенный покров нарушился, запустился процесс восстановления, то есть, сукцессия, но всё это очень локализовано.
А что делает любой крупный проект? Он запускает сукцессию на очень большой площади. Помните, я говорил про неприятные для человека стадии восстановления экосистем? Вот прошла сплошная рубка, потом началось восстановление: сначала берёзовая стадия, потом формируется сосновый лес. И в какой-то момент мы получаем огромный по площади массив одновозрастного соснового леса. А сосняки прекрасно горят. И мы на огромной территории имеем источник пожарной опасности.
И это упрощенное представление. Помимо пожарной опасности, старые одновозрастные леса ещё и отличное место для размножения лесных паразитов. А потом этот лес начнёт стремительно выпадать — даже если просто от старости — резко изменится гидрологический режим, о чем мы, опять же, уже говорили.
— Получается, мы не просто отстраненно рефлексируем, но и пожинаем плоды тех ошибок прошлого.
— Да, проекты разворачивались в прошлом веке, а сукцессии всё ещё продолжаются. Теперь на севере, например, в Мурманской области, объём лесозаготовок упал в десятки раз. Но это всё вовсе не значит, что крупные проекты здесь перестали запускаться. Ещё совсем недавно, лет 15 назад, хотели у нас создать сразу несколько приливных электростанций. Отдельная приливная электростанция — не очень крупный проект. Но вот сразу сеть перезапустит сукцессию на существенной части побережья.
Поэтому рефлексия полезна, но хорошо бы из этой рефлексии сделать надлежащий вывод и умно, тщательно, со всем имеющимся и развивающимся научным инструментарием анализировать те проекты, которые есть, чтобы потом не рефлексировать о прошлом, а извлечь из этого уроки.

Из личного архива
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
— А если сравнить наши 12% с зарубежными практиками, то насколько наше положение хорошо или, наоборот, плачевно?
— Понимаете, когда мы говорим про «зарубежное», то надо держать в голове, что мир очень-очень разный. Где-то лучше, а где-то хуже.
— Понимаете, когда мы говорим про «зарубежное», то надо держать в голове, что мир очень-очень разный. Где-то лучше, а где-то хуже.
— Примерно такой ответ я и ожидал услышать. А что есть однозначно хорошего или однозначно плохого в наших практиках?
— Однозначно можно сказать, что охраняемыми природными территориями должна управлять отдельная служба.
— А у нас же за ООПТ отвечает Минприроды и оно же одновременно распоряжается природными ресурсами. Понимаю, что там охраняют и хозяйствуют разные департаменты, но это выглядит как конфликт левой и правой руки.
— Да, к сожалению, вы правы. То есть, раньше мне казалось, что это совершенно неправильно, почти всю жизнь так считал. Думал, что охраняемыми территориями должна заниматься наука, потому что это очень наукоёмкая задача. Но сейчас у меня начали появляться и аргументы против этой позиции.
— Мол, наука у нас заканчивается на теории, а доводить её до реализации конкретных проектов учёные не в состоянии?
— Да.
Но если говорить конкретно про наш Минприроды, то делегировать эту функцию им всё равно будто бы неправильно. Например, в США или в Канаде охраняемыми природными территориями занимаются отдельные службы, которые выведены из вертикали с теми, кто распоряжается природными ресурсами. У этих служб высокий уровень независимости, и они менее склонны прогибаться под экономические или управленческие интересы отдельных лиц.
— Однозначно можно сказать, что охраняемыми природными территориями должна управлять отдельная служба.
— А у нас же за ООПТ отвечает Минприроды и оно же одновременно распоряжается природными ресурсами. Понимаю, что там охраняют и хозяйствуют разные департаменты, но это выглядит как конфликт левой и правой руки.
— Да, к сожалению, вы правы. То есть, раньше мне казалось, что это совершенно неправильно, почти всю жизнь так считал. Думал, что охраняемыми территориями должна заниматься наука, потому что это очень наукоёмкая задача. Но сейчас у меня начали появляться и аргументы против этой позиции.
— Мол, наука у нас заканчивается на теории, а доводить её до реализации конкретных проектов учёные не в состоянии?
— Да.
Но если говорить конкретно про наш Минприроды, то делегировать эту функцию им всё равно будто бы неправильно. Например, в США или в Канаде охраняемыми природными территориями занимаются отдельные службы, которые выведены из вертикали с теми, кто распоряжается природными ресурсами. У этих служб высокий уровень независимости, и они менее склонны прогибаться под экономические или управленческие интересы отдельных лиц.
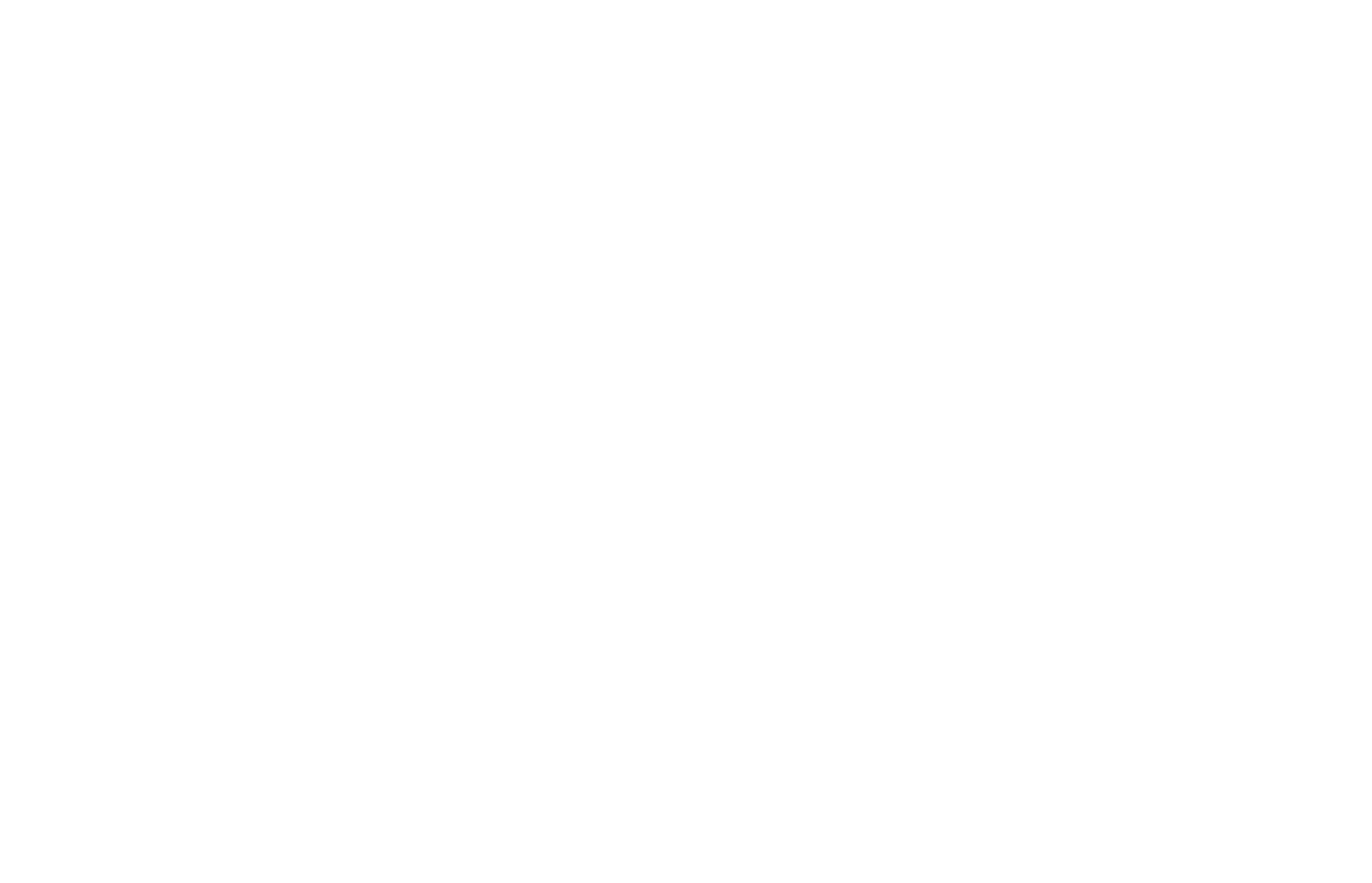
Из личного архива
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
— А если посмотреть не на управленческую, а на научную составляющую у нас?
— У нас есть достаточно сильные примеры. Сама советская концепция экономического значения заповедности, например…
Знаете, еще задолго до книги Реймерса и Штильмарка «Заповедное дело», которая была издана в 1970-е, в СССР в 1930-е профессор Среднеазиатского университета Бродский сформулировал, что заповедники надо охранять не для того, чтобы за кем-то там наблюдать, а что они сохраняют среду, в которой мы живём, и, соответственно, делают возможной ту экономику, которую мы в ней ведём. Тогда эта идея совершенно выпала из контекста, но первенство, получается, опять же у нашей страны.
— Звучит очень прогрессивно для 1930-х.
— Тогда это было что-то совершенно необычное. Собственно, я хотел сказать, что и у нас очень по-разному, и мир очень и очень разный. Если сравнивать управленческие решения, то мы от многих отстаём. Если брать научные решения, то у нас всё неплохо. Если говорить о площади охраняемых территорий, то, наверное, надо сравнивать с другими странами с большой площадью. Потому что если смотреть на небольшие страны, то среди них будут и такие, где несколько десятков процентов заповедано, и при этом у них экономика может быть построена на туризме, в том числе и экологическом туризме, то есть их охраняемые территории кормят.
Подобная модель для большой страны трудно реализуема. Если посмотреть на Китай, то там сейчас масштабнейшие природоохранные меры предпринимают, но какой ущерб был нанесён природе перед этим?.. В Индии дела уже обстоят иначе: там есть и прогрессивные практики, но в целом у нас будто бы получше дела. Поэтому мы будем где-то посерединке.
— Виктор Николаевич, в начале мы с вами говорили про абстрактных природозащитников, а теперь я хотел бы поговорить про вас. Как вы стали заниматься охраной природы?
— Я не исключение, и у меня всё начиналось с эмоций. Ещё в первом классе, помню, на вопрос «кем хочешь стать, когда вырастешь?» я писал, что хочу стать лесником. Но и представление о работе лесника у меня на уровне первого класса, мол, это надо будет ходить по лесу с собакой.
— Отличная была бы работа!
— И, правда! Я и другое, правда, писал, про лесника было одно из. А классе во втором я прочитал про истреблённых человеком животных, особенно тогда впечатлила меня история странствующего голубя. Это было настолько сильное впечатление, что я увлекся биологией, стал читать достаточно много научно-популярной литературы, сначала пришел в кружок цветоводов школьный, а потом в Научное общество учащихся при университете.
Зоологию позвоночных в этом научном обществе вёл тогда Сергей Витальевич Бакка. Он тогда недавно закончил университет и был одним из активистов Дружины охраны природы. Движение Дружин охраны природы в те времена было мощнейшим, охватывало множество вузов. Причем это была самоорганизующаяся общественная деятельность и активно работавшая. В Научном обществе учащихся Сергей Витальевич Бакка рассказывал, зачем надо охранять природу с научной точки зрения. И под его воздействием мои интересы стали смещаться из биологии в область экологии.
Второе, что меня очень увлекало, как и, наверное, всех детей в то время — космос. И мне хотелось как-то соединить увлечение биологией с космосом. Меня увлекали модули жизнеобеспечения космических кораблей, построение локальных замкнутых биосфер... Что-то начал читать по этому поводу, понял, что это вообще очень сложно и практически не очень получается. Вплоть до момента поступления в вуз это был второе направление, в котором я мог, наверное, развиваться. И даже после поступления на биофак подумывал об этом.
— У нас есть достаточно сильные примеры. Сама советская концепция экономического значения заповедности, например…
Знаете, еще задолго до книги Реймерса и Штильмарка «Заповедное дело», которая была издана в 1970-е, в СССР в 1930-е профессор Среднеазиатского университета Бродский сформулировал, что заповедники надо охранять не для того, чтобы за кем-то там наблюдать, а что они сохраняют среду, в которой мы живём, и, соответственно, делают возможной ту экономику, которую мы в ней ведём. Тогда эта идея совершенно выпала из контекста, но первенство, получается, опять же у нашей страны.
— Звучит очень прогрессивно для 1930-х.
— Тогда это было что-то совершенно необычное. Собственно, я хотел сказать, что и у нас очень по-разному, и мир очень и очень разный. Если сравнивать управленческие решения, то мы от многих отстаём. Если брать научные решения, то у нас всё неплохо. Если говорить о площади охраняемых территорий, то, наверное, надо сравнивать с другими странами с большой площадью. Потому что если смотреть на небольшие страны, то среди них будут и такие, где несколько десятков процентов заповедано, и при этом у них экономика может быть построена на туризме, в том числе и экологическом туризме, то есть их охраняемые территории кормят.
Подобная модель для большой страны трудно реализуема. Если посмотреть на Китай, то там сейчас масштабнейшие природоохранные меры предпринимают, но какой ущерб был нанесён природе перед этим?.. В Индии дела уже обстоят иначе: там есть и прогрессивные практики, но в целом у нас будто бы получше дела. Поэтому мы будем где-то посерединке.
— Виктор Николаевич, в начале мы с вами говорили про абстрактных природозащитников, а теперь я хотел бы поговорить про вас. Как вы стали заниматься охраной природы?
— Я не исключение, и у меня всё начиналось с эмоций. Ещё в первом классе, помню, на вопрос «кем хочешь стать, когда вырастешь?» я писал, что хочу стать лесником. Но и представление о работе лесника у меня на уровне первого класса, мол, это надо будет ходить по лесу с собакой.
— Отличная была бы работа!
— И, правда! Я и другое, правда, писал, про лесника было одно из. А классе во втором я прочитал про истреблённых человеком животных, особенно тогда впечатлила меня история странствующего голубя. Это было настолько сильное впечатление, что я увлекся биологией, стал читать достаточно много научно-популярной литературы, сначала пришел в кружок цветоводов школьный, а потом в Научное общество учащихся при университете.
Зоологию позвоночных в этом научном обществе вёл тогда Сергей Витальевич Бакка. Он тогда недавно закончил университет и был одним из активистов Дружины охраны природы. Движение Дружин охраны природы в те времена было мощнейшим, охватывало множество вузов. Причем это была самоорганизующаяся общественная деятельность и активно работавшая. В Научном обществе учащихся Сергей Витальевич Бакка рассказывал, зачем надо охранять природу с научной точки зрения. И под его воздействием мои интересы стали смещаться из биологии в область экологии.
Второе, что меня очень увлекало, как и, наверное, всех детей в то время — космос. И мне хотелось как-то соединить увлечение биологией с космосом. Меня увлекали модули жизнеобеспечения космических кораблей, построение локальных замкнутых биосфер... Что-то начал читать по этому поводу, понял, что это вообще очень сложно и практически не очень получается. Вплоть до момента поступления в вуз это был второе направление, в котором я мог, наверное, развиваться. И даже после поступления на биофак подумывал об этом.

Из личного архива
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
Виктора Петрова /
для "Разговоров за жизнь
— Но помимо биологического образования у вас же есть ещё и юридическое? Довольно необычное сочетание.
— Юридическое увлечение — это семейное. Отец у меня юрист. Можно даже сказать, юрист Божией милостью. Он мне многие вещи объяснял через призму юриспруденции как науки. Зачастую юриспруденцию приравнивают к праву, правовой норме. А он мне, школьнику, объяснял логику построения нормы — это было очень интересно.
И я даже рассматривал вариант поступить на юриста. Но уже тогда понимал, что в таком случае буду заниматься природоохранным правом, или, как сейчас говорят, экологическим. После школы всё-таки перевесил биофак: у меня уже были там друзья и просто нравилась атмосфера биофака. Но потом, да, когда уже стал заниматься охраной природы, тогда понадобилось ещё и юридическое образование.
— Напоследок я бы вас хотел спросить про мечты и стремления. Вы производите впечатление человека очень страстного в своем деле. Какова ваша мечта? В каком мире вы хотели бы жить, какого мира вы добиваетесь?
—Я могу повторить лишь то, с чего мы начали. Я не хочу быть профессиональным природоохранником, я хочу жить в мире, где природу не надо охранять.
Я хочу жить в мире, где людьми движет здоровое любопытство и неравнодушие. В котором реализованное любопытство приводит к научному знанию, а неравнодушное знание воплощается в добрые дела.
— Юридическое увлечение — это семейное. Отец у меня юрист. Можно даже сказать, юрист Божией милостью. Он мне многие вещи объяснял через призму юриспруденции как науки. Зачастую юриспруденцию приравнивают к праву, правовой норме. А он мне, школьнику, объяснял логику построения нормы — это было очень интересно.
И я даже рассматривал вариант поступить на юриста. Но уже тогда понимал, что в таком случае буду заниматься природоохранным правом, или, как сейчас говорят, экологическим. После школы всё-таки перевесил биофак: у меня уже были там друзья и просто нравилась атмосфера биофака. Но потом, да, когда уже стал заниматься охраной природы, тогда понадобилось ещё и юридическое образование.
— Напоследок я бы вас хотел спросить про мечты и стремления. Вы производите впечатление человека очень страстного в своем деле. Какова ваша мечта? В каком мире вы хотели бы жить, какого мира вы добиваетесь?
—Я могу повторить лишь то, с чего мы начали. Я не хочу быть профессиональным природоохранником, я хочу жить в мире, где природу не надо охранять.
Я хочу жить в мире, где людьми движет здоровое любопытство и неравнодушие. В котором реализованное любопытство приводит к научному знанию, а неравнодушное знание воплощается в добрые дела.
