РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Алексей Полилов
Жизнь (очень) миниатюрных насекомых
Жизнь (очень) миниатюрных насекомых
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Алексей Полилов
Жизнь (очень) миниатюрных насекомых
Жизнь (очень) миниатюрных насекомых
- Разговороб очень маленьких насекомых: как устроен сложный многоклеточный организм размером с амебу, в чём особенности их перемещения и размножения и как их можно «дрессировать»
- ГеройАлексей Полилов, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ, член-корреспондент РАН
- СобеседникМихаил Гельфанд, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколтеха
- Беседовалив августе 2022 г.
— Ваша статья в Nature и ваша предыдущая статья в PNAS — редкий пример российских статей в топовых журналах, причем в PNAS вообще все соавторы из России, а в Nature было несколько зарубежных соавторов, но главные авторы все из России. Вас в связи с этим не одолевают патриоты?
— Совсем нет. Слава богу, пресс-служба биофака отсекает всех, кто ищет «скандалы, интриги, расследования».
— А если серьезно, насколько трудно делать чисто российскую науку? Насколько вам здесь хватает критической массы и разнообразных коллабораторов?
— Это сложный вопрос и очень многосторонний, потому что это чрезвычайно сильно зависит от задач, объемов работы и т. д. Многие проекты мы делаем даже не российским коллективом, а коллективом сотрудников одной-единственной кафедры.
— По нынешним временам довольно экзотическая ситуация, потому что обычно всё-таки в хороших статьях довольно большие коллаборации.
— Да, но дело еще в том, что мы энтомологи, и у нас многие вообще работают в одиночку, особенно систематики. Мы уходим от этого, но некоторая инерция, или традиция, как хотите называйте, осталась. И до этого было проще работать внутри маленького коллектива, а сейчас эта традиция оказывается очень полезной.
— Совсем нет. Слава богу, пресс-служба биофака отсекает всех, кто ищет «скандалы, интриги, расследования».
— А если серьезно, насколько трудно делать чисто российскую науку? Насколько вам здесь хватает критической массы и разнообразных коллабораторов?
— Это сложный вопрос и очень многосторонний, потому что это чрезвычайно сильно зависит от задач, объемов работы и т. д. Многие проекты мы делаем даже не российским коллективом, а коллективом сотрудников одной-единственной кафедры.
— По нынешним временам довольно экзотическая ситуация, потому что обычно всё-таки в хороших статьях довольно большие коллаборации.
— Да, но дело еще в том, что мы энтомологи, и у нас многие вообще работают в одиночку, особенно систематики. Мы уходим от этого, но некоторая инерция, или традиция, как хотите называйте, осталась. И до этого было проще работать внутри маленького коллектива, а сейчас эта традиция оказывается очень полезной.
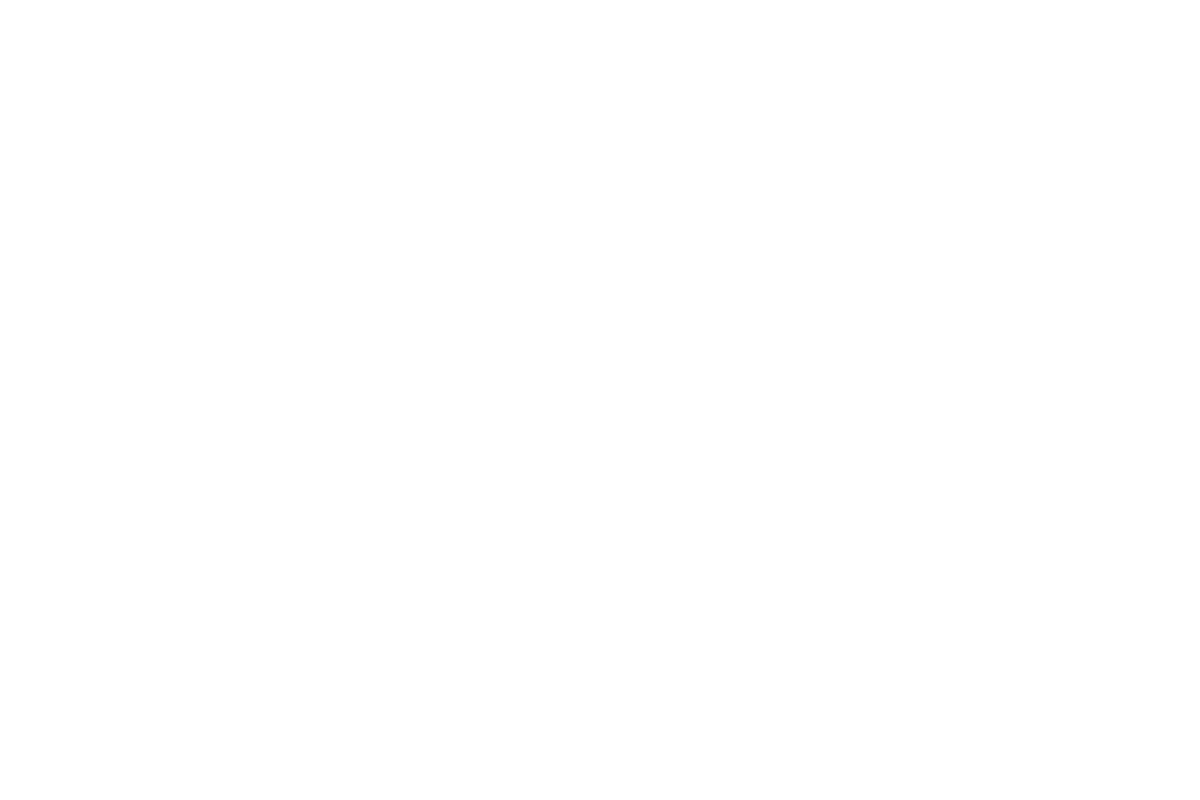
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Имеет сейчас смысл систематика без молекулярной филогении?
— Да, безусловно, особенно с насекомыми, разнообразие которых не познано и на 10–20 %, а молекулярные данные есть просто по ничтожно малой доле уже познанного. Так что, конечно, классическая систематика и таксономия имеют колоссальное значение.
— Не приходится ее пересматривать?
— Я говорю про низкий уровень: виды, рода, для которых пока физически невозможно сделать даже элементарное ДНК-баркодирование.
— Это следствие того, что просто не хватает сил и средств? Или это некая принципиальная особенность?
— К сожалению, для многих специалистов это принципиальная вещь. До сих пор есть люди, которые занимаются систематикой и не признают ни молекулярные методы, ни результаты, которые они дают. Безусловно, это совершенно провальная позиция.
А разумных систематиков в первую очередь ограничивают деньги. Если вы имеете миллион или полтора миллиона видов, то сколько нужно денег на их баркодирование, сложно посчитать, и сложно представить, что они вдруг появятся.
Но важно и то, что многие виды насекомых известны только по типовым сериям, которые хранятся в музеях, или даже не хранятся, или даже утеряны, или их состояние таково, что выделять из них ДНК либо очень сложно, либо очень дорого, либо невозможно просто в силу их очень плохого состояния.
— А перепоймать уже нет шансов?
— Мы часто работаем с материалом, который существует в единственных экземплярах, его нет больше, и поймать его больше невозможно, и даже если вы его поймаете, то вам всё равно строго морфологически придется определиться, то это или не то.
— Как нас учил Набоков, основной способ различения видов насекомых — строение гениталий самцов. А если он существует в музее, то какие же у него гениталии?
— Гениталии у него такие же, как и всё остальное, потому что они хитинизированы, склеритизированы, и их можно хранить в сухом виде сотни лет, а потом достать и посмотреть. С этим как раз нет проблем. Гениталии насекомых — это сложные склериты с кутикулой, часто даже с зубцами и прочими признаками, которые сохраняются: что бы ни сделали с насекомым, у него основной набор признаков гениталий может остаться. Но, к сожалению, это касается не всех групп насекомых. С бабочками — да, гениталии — это всё, что нужно для таксономиста. Но для многих групп эти признаки еще не включены в работу, и часто значимый шаг в изучении группы — начать систематизировать их гениталии. Это большой объем работы.
Если у вас есть семейство с тысячами видов и раньше эти признаки никто не использовал, а вы начинаете их использовать, значит, вам нужно расковырять музейного материала столько, чтобы сделать какие-то сравнительные описания, таблицы, картинки и ввести это в научный оборот.
— Пришел в музей один систематик, расковырял, посмотрел на зубцы, пришел следующий, расковырял, посмотрел на зубцы. Сколько просмотров выдерживает образец?
— Сколько угодно, если его не препарируют. Есть уже устоявшиеся десятилетиями методики сохранения гениталий с теми же препаратами в пробирках или в сухом виде. И дальше с ними можно работать, не повреждая их еще раз.
К тому же если представить, сколько специалистов по каждой из групп… Кроме самых попсовых материалов, материал в музее смотрится раз в 50–100 лет. А хороший специалист не оставляет после себя разрушенные экземпляры.
— Если всё-таки удается сделать молекулярное баркодирование, насколько сильно пересматриваются те классические классификации, которые были до этого? А если какой-нибудь группой занимаются два специалиста, не получается ли так, что получаются две совершенно разные таксономические системы?
— С молекулярной систематикой насекомых всё тоже не очень просто. У разных отрядов очень разные темпы эволюции, и одни и те же маркеры хорошо работают на одних и совершенно не работают на других. Например, цитохромоксидаза очень плохо работает для различения видов или групп видов у двукрылых.
Если говорить про макросистемы: трибы, семейства, отряды, подотряды — то тут, конечно, людей, которые этим занимаются, десятки, если не сотни, и систем, либо для насекомых в целом, либо даже для артропод, либо, наоборот, каких-то отдельных надотрядов, выходит каждый год десятки. И они регулярно перекраиваются абсолютно кардинальным образом. Есть отряды, которые перебрасывались из совершенно разных групп, делились, дробились, потом объединялись, потом еще раз… это продолжается и по сей день.
— Да, безусловно, особенно с насекомыми, разнообразие которых не познано и на 10–20 %, а молекулярные данные есть просто по ничтожно малой доле уже познанного. Так что, конечно, классическая систематика и таксономия имеют колоссальное значение.
— Не приходится ее пересматривать?
— Я говорю про низкий уровень: виды, рода, для которых пока физически невозможно сделать даже элементарное ДНК-баркодирование.
— Это следствие того, что просто не хватает сил и средств? Или это некая принципиальная особенность?
— К сожалению, для многих специалистов это принципиальная вещь. До сих пор есть люди, которые занимаются систематикой и не признают ни молекулярные методы, ни результаты, которые они дают. Безусловно, это совершенно провальная позиция.
А разумных систематиков в первую очередь ограничивают деньги. Если вы имеете миллион или полтора миллиона видов, то сколько нужно денег на их баркодирование, сложно посчитать, и сложно представить, что они вдруг появятся.
Но важно и то, что многие виды насекомых известны только по типовым сериям, которые хранятся в музеях, или даже не хранятся, или даже утеряны, или их состояние таково, что выделять из них ДНК либо очень сложно, либо очень дорого, либо невозможно просто в силу их очень плохого состояния.
— А перепоймать уже нет шансов?
— Мы часто работаем с материалом, который существует в единственных экземплярах, его нет больше, и поймать его больше невозможно, и даже если вы его поймаете, то вам всё равно строго морфологически придется определиться, то это или не то.
— Как нас учил Набоков, основной способ различения видов насекомых — строение гениталий самцов. А если он существует в музее, то какие же у него гениталии?
— Гениталии у него такие же, как и всё остальное, потому что они хитинизированы, склеритизированы, и их можно хранить в сухом виде сотни лет, а потом достать и посмотреть. С этим как раз нет проблем. Гениталии насекомых — это сложные склериты с кутикулой, часто даже с зубцами и прочими признаками, которые сохраняются: что бы ни сделали с насекомым, у него основной набор признаков гениталий может остаться. Но, к сожалению, это касается не всех групп насекомых. С бабочками — да, гениталии — это всё, что нужно для таксономиста. Но для многих групп эти признаки еще не включены в работу, и часто значимый шаг в изучении группы — начать систематизировать их гениталии. Это большой объем работы.
Если у вас есть семейство с тысячами видов и раньше эти признаки никто не использовал, а вы начинаете их использовать, значит, вам нужно расковырять музейного материала столько, чтобы сделать какие-то сравнительные описания, таблицы, картинки и ввести это в научный оборот.
— Пришел в музей один систематик, расковырял, посмотрел на зубцы, пришел следующий, расковырял, посмотрел на зубцы. Сколько просмотров выдерживает образец?
— Сколько угодно, если его не препарируют. Есть уже устоявшиеся десятилетиями методики сохранения гениталий с теми же препаратами в пробирках или в сухом виде. И дальше с ними можно работать, не повреждая их еще раз.
К тому же если представить, сколько специалистов по каждой из групп… Кроме самых попсовых материалов, материал в музее смотрится раз в 50–100 лет. А хороший специалист не оставляет после себя разрушенные экземпляры.
— Если всё-таки удается сделать молекулярное баркодирование, насколько сильно пересматриваются те классические классификации, которые были до этого? А если какой-нибудь группой занимаются два специалиста, не получается ли так, что получаются две совершенно разные таксономические системы?
— С молекулярной систематикой насекомых всё тоже не очень просто. У разных отрядов очень разные темпы эволюции, и одни и те же маркеры хорошо работают на одних и совершенно не работают на других. Например, цитохромоксидаза очень плохо работает для различения видов или групп видов у двукрылых.
Если говорить про макросистемы: трибы, семейства, отряды, подотряды — то тут, конечно, людей, которые этим занимаются, десятки, если не сотни, и систем, либо для насекомых в целом, либо даже для артропод, либо, наоборот, каких-то отдельных надотрядов, выходит каждый год десятки. И они регулярно перекраиваются абсолютно кардинальным образом. Есть отряды, которые перебрасывались из совершенно разных групп, делились, дробились, потом объединялись, потом еще раз… это продолжается и по сей день.
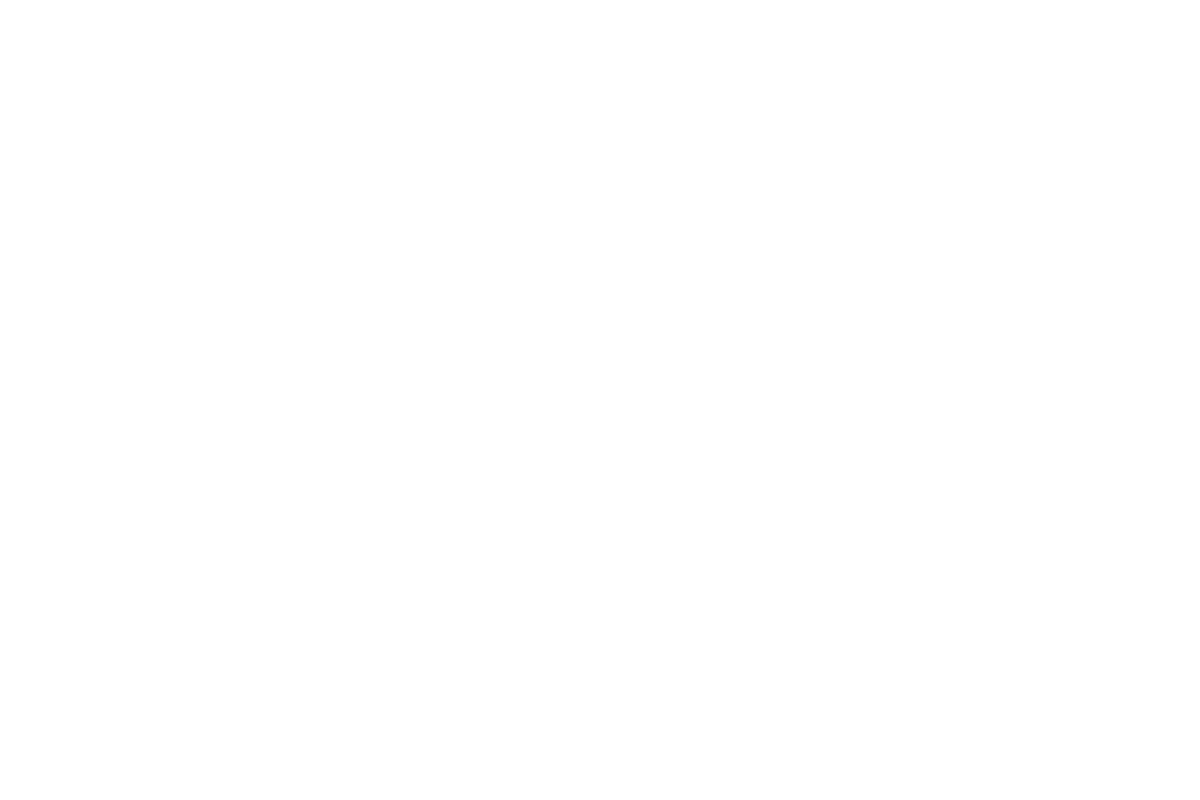
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Какой вообще смысл высших таксонов? В каком смысле отряд у насекомых и отряд у млекопитающих — это таксоны одного уровня?
— Не могу ответить на вопрос, какой в этом смысл, потому что, наверное, никакого смысла в этом нет. В природе их, естественно, не существует. Это, скорее, некоторое удобство для исследователей, что мы имеем группы, связанные родством, и можем предполагать какое-то сходство.
Отряды у насекомых, конечно, никак не соотносятся с отрядами млекопитающих, потому что большинство из них настолько древнее и настолько разнообразнее, что по своему возрасту и по молекулярным расстояниям они гораздо более высокого класса таксоны, чем отряды млекопитающих. Когда появлялись отряды млекопитающих, уже были современные семейства, если не рода, насекомых. С родами, конечно, сложный вопрос, потому что их все попереописывали заново, хотя, честно говоря, мне кажется, половина описанного палеонтологического материала новых видов насекомых — это ныне живущие виды.
— Зачем тогда вообще нужна эта иерархия таксонов? Почему просто не работать с филогенетическим деревом?
— Потому что это неудобно. Дробность целого дерева насекомых оказывается чрезмерной.
— Должны ли таксоны быть обязательно монофилетическими? Или мы можем себе позволить парафилетический таксон?
— Это вопрос философии. Конечно, таксоны должны быть монофилетическими, но у насекомых есть огромное количество парафилетических таксонов, для которых эта парафилетичность доказана и показана, но ни у кого нет сил с ними разбираться и переделывать. В теории, конечно, монофилетичность должна быть, но на практике не знаю, в какой доле систематических статей у насекомых есть парафилетический таксон. Я достаточно далек от систематики, и поэтому мое мнение может быть немного дилетантским, хотя начинал как систематик: описал какое-то количество видов, родов жуков-перокрылок. Мы недавно выпустили статью с системой их семейства, с молекуляркой и морфологией. Это первая система подсемейств и триб для этого семейства, но у нас там есть парафилетическая триба, потому что нам не хватило ни материала, ни возможностей с ней сладить.
— Давайте тогда про то, чем вы занимаетесь. Это очень маленькие жуки, очень маленькие перепончатокрылые. А кто еще?
— Мы занимаемся всеми миниатюрными насекомыми, а в последнее время уже и другими членистоногими. Миниатюрные — это где-то меньше полумиллиметра длиной.
— Сопоставимо с хорошей амебой, да?
—Если брать хорошую амебу, то это вдвое меньше. Если не очень хорошую, то да, сопоставимо. В целом то, что мы называем микронасекомыми, и то, что можно уже изучать как материал для наших исследований, начинается с миллиметра или чуть больше, с полутора.
— В чём там специфика? Чем очень маленькие отличаются от обычных?
— Вот этим-то мы как раз и занимаемся лет двадцать. С этого вопроса всё началось и всё никак не остановится.
— Я попробую предположить. Ясно, что первое — это просто биофизика, потому что, когда ты очень маленький, у тебя другие взаимоотношения с воздухом, с водой. Второе — это то, что я прочитал уже у вас, — особенности нервной системы. А что еще?
— Это почти бесконечный список. В разных группах насекомых, и еще пауков, клещей, коллембол и т. д., есть какие-то очень общие последствия миниатюризации, отчасти очевидные, отчасти нет. Но в каждой группе есть что-то свое.
Самое удивительное и самое неожиданное, что почти все из них сохраняют очень сложный план строения, в отличие от большинства других беспозвоночных, которые при миниатюризации теряют системы органов, целые функции. Эта сложность, конечно, совершенно поразительная, потому что объекты размером с амебу сохраняют тысячи клеток. Тысячи клеток в одной только нервной системе.
— В результате клетки становятся очень маленькими?
— Клетки становятся очень маленькими, по сравнению с другими насекомыми нарушаются все известные соотношения ядерно-цитоплазматических индексов. Но сохраняются сотни отдельных мышц. Совершенно невообразимо, когда ты размером с одноклеточный организм, а у тебя сотня отдельных мышц, которые управляют ногами, крыльями, ротовыми частями и т. д.
Из общих закономерностей, действительно связанных с миниатюризацией, это в первую очередь редукция транспортных систем, дыхательной системы и гемолимфы с сердцем. Потому что маленький объем, достаточно диффузии для транспорта и кислорода, и всего остального. Второе общее последствие — это абсолютно непропорциональный размер нервной системы и увеличение ее относительного объема до 15 %, а иногда и 20 % от массы тела.
— Не могу ответить на вопрос, какой в этом смысл, потому что, наверное, никакого смысла в этом нет. В природе их, естественно, не существует. Это, скорее, некоторое удобство для исследователей, что мы имеем группы, связанные родством, и можем предполагать какое-то сходство.
Отряды у насекомых, конечно, никак не соотносятся с отрядами млекопитающих, потому что большинство из них настолько древнее и настолько разнообразнее, что по своему возрасту и по молекулярным расстояниям они гораздо более высокого класса таксоны, чем отряды млекопитающих. Когда появлялись отряды млекопитающих, уже были современные семейства, если не рода, насекомых. С родами, конечно, сложный вопрос, потому что их все попереописывали заново, хотя, честно говоря, мне кажется, половина описанного палеонтологического материала новых видов насекомых — это ныне живущие виды.
— Зачем тогда вообще нужна эта иерархия таксонов? Почему просто не работать с филогенетическим деревом?
— Потому что это неудобно. Дробность целого дерева насекомых оказывается чрезмерной.
— Должны ли таксоны быть обязательно монофилетическими? Или мы можем себе позволить парафилетический таксон?
— Это вопрос философии. Конечно, таксоны должны быть монофилетическими, но у насекомых есть огромное количество парафилетических таксонов, для которых эта парафилетичность доказана и показана, но ни у кого нет сил с ними разбираться и переделывать. В теории, конечно, монофилетичность должна быть, но на практике не знаю, в какой доле систематических статей у насекомых есть парафилетический таксон. Я достаточно далек от систематики, и поэтому мое мнение может быть немного дилетантским, хотя начинал как систематик: описал какое-то количество видов, родов жуков-перокрылок. Мы недавно выпустили статью с системой их семейства, с молекуляркой и морфологией. Это первая система подсемейств и триб для этого семейства, но у нас там есть парафилетическая триба, потому что нам не хватило ни материала, ни возможностей с ней сладить.
— Давайте тогда про то, чем вы занимаетесь. Это очень маленькие жуки, очень маленькие перепончатокрылые. А кто еще?
— Мы занимаемся всеми миниатюрными насекомыми, а в последнее время уже и другими членистоногими. Миниатюрные — это где-то меньше полумиллиметра длиной.
— Сопоставимо с хорошей амебой, да?
—Если брать хорошую амебу, то это вдвое меньше. Если не очень хорошую, то да, сопоставимо. В целом то, что мы называем микронасекомыми, и то, что можно уже изучать как материал для наших исследований, начинается с миллиметра или чуть больше, с полутора.
— В чём там специфика? Чем очень маленькие отличаются от обычных?
— Вот этим-то мы как раз и занимаемся лет двадцать. С этого вопроса всё началось и всё никак не остановится.
— Я попробую предположить. Ясно, что первое — это просто биофизика, потому что, когда ты очень маленький, у тебя другие взаимоотношения с воздухом, с водой. Второе — это то, что я прочитал уже у вас, — особенности нервной системы. А что еще?
— Это почти бесконечный список. В разных группах насекомых, и еще пауков, клещей, коллембол и т. д., есть какие-то очень общие последствия миниатюризации, отчасти очевидные, отчасти нет. Но в каждой группе есть что-то свое.
Самое удивительное и самое неожиданное, что почти все из них сохраняют очень сложный план строения, в отличие от большинства других беспозвоночных, которые при миниатюризации теряют системы органов, целые функции. Эта сложность, конечно, совершенно поразительная, потому что объекты размером с амебу сохраняют тысячи клеток. Тысячи клеток в одной только нервной системе.
— В результате клетки становятся очень маленькими?
— Клетки становятся очень маленькими, по сравнению с другими насекомыми нарушаются все известные соотношения ядерно-цитоплазматических индексов. Но сохраняются сотни отдельных мышц. Совершенно невообразимо, когда ты размером с одноклеточный организм, а у тебя сотня отдельных мышц, которые управляют ногами, крыльями, ротовыми частями и т. д.
Из общих закономерностей, действительно связанных с миниатюризацией, это в первую очередь редукция транспортных систем, дыхательной системы и гемолимфы с сердцем. Потому что маленький объем, достаточно диффузии для транспорта и кислорода, и всего остального. Второе общее последствие — это абсолютно непропорциональный размер нервной системы и увеличение ее относительного объема до 15 %, а иногда и 20 % от массы тела.
— Видимо, потому что всё остальное можно уменьшать, а нервную систему, если ты хочешь летать, сильно не уменьшишь.
— Потому что это единственная система органов, эффективность которой определяется числом клеток. Можно иметь мышцу, в которой будет одна-единственная клетка, и кишечник, в котором будет 20 или 30 клеток, но если у вас сложно устроенные органы чувств, если у вас сложно устроенная механика, контроль всего, то у вас всё равно должны быть тысячи нейронов. И как бы ни сжимать, их минимальный размер всё-таки ограничен…
— …Той же биофизикой…
— …И размером ядра, и минимальным диаметром отростков, при котором не возникает шумовых эффектов при прохождении импульса.
— Как работает кишечник, в котором 30 клеток?
— Как раз кишечник устроен у маленьких насекомых практически так же, как и у больших. Он дифференцирован на отделы. Основную функцию пищеварения выполняет средняя кишка. Ее эффективность определяет не число клеток, а площадь поверхности. При уменьшении размеров тела, естественно, площадь поверхности меняется медленнее, чем вес, поэтому эффективность систем пищеварения, наоборот, увеличивается. У них еще непропорционально огромная половая система, непропорционально огромные яйца. Например, у мельчайших жуков единовременно развивается только одно яйцо.
— Больше просто не помещается?
— Да, и занимает примерно половину объема тела самки. Потому что, если личинка должна выйти из этого яйца и двигаться, питаться и т. д., она уже должна быть сложно устроенной. У других насекомых личинки паразитические, например, у перепончатокрылых личинки живут в яйцах других насекомых, и они очень сильно дезэмбрионизованы. Это такие мешочки, которые плавают в желтке хозяина, и им ничего не нужно, кроме кишечника. Вот у них мелкие яйца и маленькая половая система.
— Что едят личинки микроскопических жуков?
— Они в основном микросапрофаги — живут в разлагающихся растительных субстратах и едят бактериальную и дрожжевую пленку, которая там образуется. Но есть еще много разных стратегий, например отдельная триба, которая живет в трубочках гименофора трутовых грибов. Прямо в трубочке он живет и ест споры, которые не успели высыпаться. И личинки, и имаго живут в этих трубочках.
— И перепончатокрылые, и жуки — насекомые с полным превращением. Получается, миниатюризация — это специфика именно насекомых с полным превращением? Или могут быть другие?
— Действительно, большинство миниатюрных форм — это насекомые с полным превращением. И самые мелкие насекомые — это насекомые с полным превращением. Границу 0,4–0,3, может быть, даже 0,5 миллиметра по длине тела преодолевают только насекомые с полным превращением. У нас есть гипотеза, с чем это могло бы быть связано.
Как мы уже обсуждали, огромная нервная система — это отчасти один из факторов, лимитирующих минимальные размеры тела насекомых. У насекомых с неполным превращением личинка первого возраста, которая геометрически является самой маленькой стадией в онтогенезе, уже имеет сравнимые с имаго число нейронов, объем нервной системы.
— Маленький таракан не глупее большого таракана?
— Это вопрос не совсем очевидный. Я не могу на него ответить «да» или «нет». Но с точки зрения именно организации нервной системы, ее размера это так. С точки зрения количества связей в мозге, наверное, всё-таки нет.
У насекомых с полным превращением совершенно другая картина развития нервной системы — нервная система имаго практически заново формируется на куколочной стадии.
— Вы только что говорили, что, наоборот, нервная система личинки более или менее сохраняется.
— Она сохраняется в том смысле, что если у нас есть нервная масса от личинки, которая досталась куколке, то она так и будет этой нервной массой. Но большинство клеток формируется заново, и их число значительно увеличивается на этой стадии. И структуры мозга, ответственные за какие-то функции, почти все формируются именно на куколочной стадии. Поэтому можно иметь очень простую нервную систему личинки, которая настроена на то количество функций, которые у личинки есть, а можно потом дорастить всё, что нужно имаго, на куколочной стадии.
— Поэтому полное превращение позволяет делать более мелкую личинку, и, соответственно, все могут быть тоже более мелкими?
— Да.
— С эволюционной точки зрения миниатюрные насекомые — это тупиковые ветки или они довольно долго живут? Ну понятно, крупные млекопитающие — это тупиковая ветка. В каждом отряде время от времени кто-нибудь выстреливает, становится большим и живет после этого недолго. Партеногенез — тоже тупик. Во многих отрядах появляются партеногенетики, но живут недолго. А миниатюрные — это можно посмотреть по молекулярной филогении, насколько далеко вглубь уходят нынешние ветки? Или существа становятся маленькими, меньше, еще меньше и кирдык?
—Я думаю, что скорее нет, чем да, потому что многие из них появились очень давно, и, например, есть целый отряд трипсов, который произошел в миниатюрном классе. Это очень древний отряд, и они существуют и не вымирают. Они когда-то специализировались на высасывании отдельных спор и под это перезаточили свой ротовой аппарат, свои размеры и вообще всё, а потом вторично стали растительноядными, хищниками, и вообще кем только не стали. И часть из них даже стала заметно крупнее, чем были их предки.
— Откуда вы это знаете, по янтарю прослеживаете?
— Нет, это еще доянтарный период. Они есть и в окаменелом виде, и юрские, и триасовые. Это же хитин. Они маленькие, но если их найти, то много чего сохраняется. К тому же у палеонтологов такая фантазия, что они щетинки на их крыльях считают.
— Просто на сколах?
— На сколах, на отпечатках.
— Если ты размером полмиллиметра, то отпечаток тебя на сланце будет не очень информативен.
— Я очень люблю палеонтологов, но не всегда им верю. У меня есть школьный приятель, который занимается как раз вымершими трипсами. Как-то раз он мне рассказывал, что они нашли такого трипса, у которого всё видно — идеальная сохранность (кажется, триасовый был), и показывает мне картинку. Целый лист А4, нарисован трипс, щетинки на лапках, на крыльях. Миллиметровый размер, двухмиллиметровый, не помню. Идеальный. Сплющенный, скомканный, но всё видно. Потом показывает мне фотографию — и я на этой фотографии даже не могу найти трипса, не говоря о том, чтобы разглядеть, что там у него как устроено. Потом ради интереса попросил показать камень, потому что на фотографии я так ничего и не увидел.
На камне всё-таки что-то под микроскопом видно. Но как можно было разглядеть всё остальное…
— Потому что это единственная система органов, эффективность которой определяется числом клеток. Можно иметь мышцу, в которой будет одна-единственная клетка, и кишечник, в котором будет 20 или 30 клеток, но если у вас сложно устроенные органы чувств, если у вас сложно устроенная механика, контроль всего, то у вас всё равно должны быть тысячи нейронов. И как бы ни сжимать, их минимальный размер всё-таки ограничен…
— …Той же биофизикой…
— …И размером ядра, и минимальным диаметром отростков, при котором не возникает шумовых эффектов при прохождении импульса.
— Как работает кишечник, в котором 30 клеток?
— Как раз кишечник устроен у маленьких насекомых практически так же, как и у больших. Он дифференцирован на отделы. Основную функцию пищеварения выполняет средняя кишка. Ее эффективность определяет не число клеток, а площадь поверхности. При уменьшении размеров тела, естественно, площадь поверхности меняется медленнее, чем вес, поэтому эффективность систем пищеварения, наоборот, увеличивается. У них еще непропорционально огромная половая система, непропорционально огромные яйца. Например, у мельчайших жуков единовременно развивается только одно яйцо.
— Больше просто не помещается?
— Да, и занимает примерно половину объема тела самки. Потому что, если личинка должна выйти из этого яйца и двигаться, питаться и т. д., она уже должна быть сложно устроенной. У других насекомых личинки паразитические, например, у перепончатокрылых личинки живут в яйцах других насекомых, и они очень сильно дезэмбрионизованы. Это такие мешочки, которые плавают в желтке хозяина, и им ничего не нужно, кроме кишечника. Вот у них мелкие яйца и маленькая половая система.
— Что едят личинки микроскопических жуков?
— Они в основном микросапрофаги — живут в разлагающихся растительных субстратах и едят бактериальную и дрожжевую пленку, которая там образуется. Но есть еще много разных стратегий, например отдельная триба, которая живет в трубочках гименофора трутовых грибов. Прямо в трубочке он живет и ест споры, которые не успели высыпаться. И личинки, и имаго живут в этих трубочках.
— И перепончатокрылые, и жуки — насекомые с полным превращением. Получается, миниатюризация — это специфика именно насекомых с полным превращением? Или могут быть другие?
— Действительно, большинство миниатюрных форм — это насекомые с полным превращением. И самые мелкие насекомые — это насекомые с полным превращением. Границу 0,4–0,3, может быть, даже 0,5 миллиметра по длине тела преодолевают только насекомые с полным превращением. У нас есть гипотеза, с чем это могло бы быть связано.
Как мы уже обсуждали, огромная нервная система — это отчасти один из факторов, лимитирующих минимальные размеры тела насекомых. У насекомых с неполным превращением личинка первого возраста, которая геометрически является самой маленькой стадией в онтогенезе, уже имеет сравнимые с имаго число нейронов, объем нервной системы.
— Маленький таракан не глупее большого таракана?
— Это вопрос не совсем очевидный. Я не могу на него ответить «да» или «нет». Но с точки зрения именно организации нервной системы, ее размера это так. С точки зрения количества связей в мозге, наверное, всё-таки нет.
У насекомых с полным превращением совершенно другая картина развития нервной системы — нервная система имаго практически заново формируется на куколочной стадии.
— Вы только что говорили, что, наоборот, нервная система личинки более или менее сохраняется.
— Она сохраняется в том смысле, что если у нас есть нервная масса от личинки, которая досталась куколке, то она так и будет этой нервной массой. Но большинство клеток формируется заново, и их число значительно увеличивается на этой стадии. И структуры мозга, ответственные за какие-то функции, почти все формируются именно на куколочной стадии. Поэтому можно иметь очень простую нервную систему личинки, которая настроена на то количество функций, которые у личинки есть, а можно потом дорастить всё, что нужно имаго, на куколочной стадии.
— Поэтому полное превращение позволяет делать более мелкую личинку, и, соответственно, все могут быть тоже более мелкими?
— Да.
— С эволюционной точки зрения миниатюрные насекомые — это тупиковые ветки или они довольно долго живут? Ну понятно, крупные млекопитающие — это тупиковая ветка. В каждом отряде время от времени кто-нибудь выстреливает, становится большим и живет после этого недолго. Партеногенез — тоже тупик. Во многих отрядах появляются партеногенетики, но живут недолго. А миниатюрные — это можно посмотреть по молекулярной филогении, насколько далеко вглубь уходят нынешние ветки? Или существа становятся маленькими, меньше, еще меньше и кирдык?
—Я думаю, что скорее нет, чем да, потому что многие из них появились очень давно, и, например, есть целый отряд трипсов, который произошел в миниатюрном классе. Это очень древний отряд, и они существуют и не вымирают. Они когда-то специализировались на высасывании отдельных спор и под это перезаточили свой ротовой аппарат, свои размеры и вообще всё, а потом вторично стали растительноядными, хищниками, и вообще кем только не стали. И часть из них даже стала заметно крупнее, чем были их предки.
— Откуда вы это знаете, по янтарю прослеживаете?
— Нет, это еще доянтарный период. Они есть и в окаменелом виде, и юрские, и триасовые. Это же хитин. Они маленькие, но если их найти, то много чего сохраняется. К тому же у палеонтологов такая фантазия, что они щетинки на их крыльях считают.
— Просто на сколах?
— На сколах, на отпечатках.
— Если ты размером полмиллиметра, то отпечаток тебя на сланце будет не очень информативен.
— Я очень люблю палеонтологов, но не всегда им верю. У меня есть школьный приятель, который занимается как раз вымершими трипсами. Как-то раз он мне рассказывал, что они нашли такого трипса, у которого всё видно — идеальная сохранность (кажется, триасовый был), и показывает мне картинку. Целый лист А4, нарисован трипс, щетинки на лапках, на крыльях. Миллиметровый размер, двухмиллиметровый, не помню. Идеальный. Сплющенный, скомканный, но всё видно. Потом показывает мне фотографию — и я на этой фотографии даже не могу найти трипса, не говоря о том, чтобы разглядеть, что там у него как устроено. Потом ради интереса попросил показать камень, потому что на фотографии я так ничего и не увидел.
На камне всё-таки что-то под микроскопом видно. Но как можно было разглядеть всё остальное…
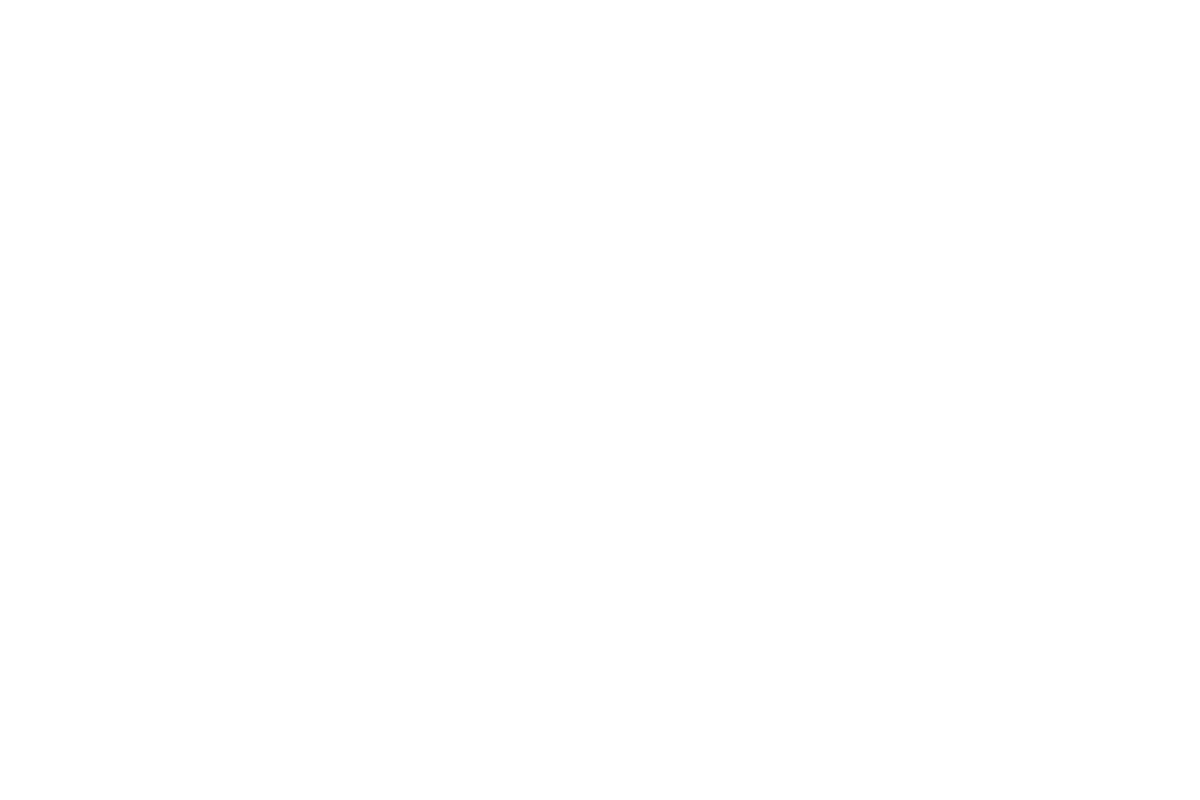
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Что самое интересное про мелких насекомых? Если бы, скажем, что-то случилось и у вас остался один-единственный аспирант, что бы вы ему дали делать?
— Не знаю, сложно выбрать. Может быть, поэтому я всегда замахивался на очень разные вещи, связанные между собой только объектами. Хотя всё равно они все взаимосвязаны. Сейчас у нас самое интересное из того, что мы делаем, и из того, что будем делать, это полёт и строение мозга.
— Это та самая статья в Nature?
— Статья про полеты — в Nature, а строение мозга пока еще не в Nature, но когда-нибудь точно будет. Это всё равно связано, потому что, чтобы летать, нужны мозги. Но это, на самом деле, очень широкие задачи.
— «Полёт» — это механика полета и аэродинамика? Или полёт в смысле реакций на препятствие, направление?
— Скорее, конечно, интересна механика, но не только аэродинамика. Сейчас мы совместно с частью соавторов этой статьи пытаемся разобраться с мускулатурой, управлением, механикой движения крыльев…
— Это же классическая механика?
— Тут она оказывается уже не такой классической, как у других насекомых. Конечно, всё-таки мы не физики, и не механики, и не математики. Поэтому еще один хороший полетный аспект — разнообразие. Насекомых много, и летают они по-разному. То, что мы показали на жуках, то, что до этого уже показано было на перепончатокрылых, в общем-то, не универсально. Одну и ту же задачу с изменением баланса физических сил при очень низких числах Рейнольдса разные группы решают по-разному. Числа Рейнольдса — это отношение сил инерции к силам вязкости в разных средах. Это некоторая константа, которая определяет соотношение сил и во многом определяет эффективность машущего полета при разных размерах — даже не обязательно полета, это может быть связано и с плаванием. У маленького насекомого очень низкие числа Рейнольдса, и для них баланс этих сил совсем не такой, как для нас. Они, по сути, скорее плывут в воздухе, чем летят, и для них проблема связана не с поддержанием своего положения в воздухе и компенсацией веса, а с протискиванием через среду. Эти проблемы разные насекомые решают совершенно по-разному. При этом в разных отрядах есть интересные конвергентные сходства.
— Зачем им вообще летать? Ну живет он себе в трутовике и живет.
— Одна из классических функций живых объектов — расселение. Она очень удобно реализуется с помощью полета, а когда ты маленький, это необходимо вдвойне. Потому что если мы возьмем какой-то субстрат, или какой-то гриб, или что-то еще, он может быть короткоживущий. А если ты откладываешь одно яйцо, ты вынужден жить очень долго, чтобы постепенно откладывать какое-то количество яиц.
— Не знаю, сложно выбрать. Может быть, поэтому я всегда замахивался на очень разные вещи, связанные между собой только объектами. Хотя всё равно они все взаимосвязаны. Сейчас у нас самое интересное из того, что мы делаем, и из того, что будем делать, это полёт и строение мозга.
— Это та самая статья в Nature?
— Статья про полеты — в Nature, а строение мозга пока еще не в Nature, но когда-нибудь точно будет. Это всё равно связано, потому что, чтобы летать, нужны мозги. Но это, на самом деле, очень широкие задачи.
— «Полёт» — это механика полета и аэродинамика? Или полёт в смысле реакций на препятствие, направление?
— Скорее, конечно, интересна механика, но не только аэродинамика. Сейчас мы совместно с частью соавторов этой статьи пытаемся разобраться с мускулатурой, управлением, механикой движения крыльев…
— Это же классическая механика?
— Тут она оказывается уже не такой классической, как у других насекомых. Конечно, всё-таки мы не физики, и не механики, и не математики. Поэтому еще один хороший полетный аспект — разнообразие. Насекомых много, и летают они по-разному. То, что мы показали на жуках, то, что до этого уже показано было на перепончатокрылых, в общем-то, не универсально. Одну и ту же задачу с изменением баланса физических сил при очень низких числах Рейнольдса разные группы решают по-разному. Числа Рейнольдса — это отношение сил инерции к силам вязкости в разных средах. Это некоторая константа, которая определяет соотношение сил и во многом определяет эффективность машущего полета при разных размерах — даже не обязательно полета, это может быть связано и с плаванием. У маленького насекомого очень низкие числа Рейнольдса, и для них баланс этих сил совсем не такой, как для нас. Они, по сути, скорее плывут в воздухе, чем летят, и для них проблема связана не с поддержанием своего положения в воздухе и компенсацией веса, а с протискиванием через среду. Эти проблемы разные насекомые решают совершенно по-разному. При этом в разных отрядах есть интересные конвергентные сходства.
— Зачем им вообще летать? Ну живет он себе в трутовике и живет.
— Одна из классических функций живых объектов — расселение. Она очень удобно реализуется с помощью полета, а когда ты маленький, это необходимо вдвойне. Потому что если мы возьмем какой-то субстрат, или какой-то гриб, или что-то еще, он может быть короткоживущий. А если ты откладываешь одно яйцо, ты вынужден жить очень долго, чтобы постепенно откладывать какое-то количество яиц.
— Почему тогда не летать просто с ветром? Зачем нужен активный полёт?
— Потому что летать с ветром — это летать в случайном направлении. И если ты живешь внутри гриба, тебе нужно в тропическом лесу найти этот гриб. Летая с ветром, ты никакой гриб, скорее всего, никогда не найдешь. И главное, что у тебя нет большого количества времени, потому что за пределами субстрата ты высохнешь, потому что ты маленький. Гриб они находят, вероятнее всего, по запаху. Но это уже некоторые домыслы, потому что мы очень мало знаем об их биологии и о том, как всё это вообще происходит.
— А как трихограммы находят яйца?
— У трихограмм для этого есть отличная дистантная и контактная хеморецепция — она находит всё без проблем.
— Она при этом видоспецифична. То есть эта хеморецепция еще и позволяет отличать хозяина от его родственников, а также находить половых партнеров?
— Она не абсолютно видоспецифична, и многие виды заражают некоторый спектр хозяев. И как они их различают, и как они их находят, и есть ли у них, действительно, какая-то большая разница — это хороший вопрос.
С поиском партнеров у перепончатокрылых всё немного проще, чем у других насекомых, потому что благодаря гаплодиплоидной системе определения пола у них очень широко распространены близкородственные скрещивания. И чаще всего они выходят из какой-то кладки яиц хозяина, на ней же спариваются со своими братьями и сестрами и дальше в свежие яйца рядом или где-то могут откладывать свои же яйца.
— Какой смысл полового размножения, если ты спариваешься с братьями и сестрами? Объясняли же, что это нужно затем, чтобы перемешивать признаки.
— Перемешивание признаков всё равно происходит, потому что самцы-то гаплоидные. Это исключает проблемы, связанные с близкородственным скрещиванием. При этом большинство из них, если нет самцов, размножаются партеногенетически.
— Партеногенетические виды долго не живут.
— Как раз у очень многих перепончатокрылых есть факультативный партеногенез. Если самцы рядом, то они размножаются нормальным путем. Если нет самцов рядом, у них размножение происходит партеногенетически. Это не так уничтожает генофонд популяции, как обыкновенный партеногенез.
— Потому что летать с ветром — это летать в случайном направлении. И если ты живешь внутри гриба, тебе нужно в тропическом лесу найти этот гриб. Летая с ветром, ты никакой гриб, скорее всего, никогда не найдешь. И главное, что у тебя нет большого количества времени, потому что за пределами субстрата ты высохнешь, потому что ты маленький. Гриб они находят, вероятнее всего, по запаху. Но это уже некоторые домыслы, потому что мы очень мало знаем об их биологии и о том, как всё это вообще происходит.
— А как трихограммы находят яйца?
— У трихограмм для этого есть отличная дистантная и контактная хеморецепция — она находит всё без проблем.
— Она при этом видоспецифична. То есть эта хеморецепция еще и позволяет отличать хозяина от его родственников, а также находить половых партнеров?
— Она не абсолютно видоспецифична, и многие виды заражают некоторый спектр хозяев. И как они их различают, и как они их находят, и есть ли у них, действительно, какая-то большая разница — это хороший вопрос.
С поиском партнеров у перепончатокрылых всё немного проще, чем у других насекомых, потому что благодаря гаплодиплоидной системе определения пола у них очень широко распространены близкородственные скрещивания. И чаще всего они выходят из какой-то кладки яиц хозяина, на ней же спариваются со своими братьями и сестрами и дальше в свежие яйца рядом или где-то могут откладывать свои же яйца.
— Какой смысл полового размножения, если ты спариваешься с братьями и сестрами? Объясняли же, что это нужно затем, чтобы перемешивать признаки.
— Перемешивание признаков всё равно происходит, потому что самцы-то гаплоидные. Это исключает проблемы, связанные с близкородственным скрещиванием. При этом большинство из них, если нет самцов, размножаются партеногенетически.
— Партеногенетические виды долго не живут.
— Как раз у очень многих перепончатокрылых есть факультативный партеногенез. Если самцы рядом, то они размножаются нормальным путем. Если нет самцов рядом, у них размножение происходит партеногенетически. Это не так уничтожает генофонд популяции, как обыкновенный партеногенез.
— А вольбахии у них есть?
— У большинства из наших это неизвестно. Потому что почти никто с их генетикой ничего не делал. Мы делали геном мегафрагмы, у нее вольбахия есть.
— Мегафрагма?..
— Мегафрагма — это один из наших любимых объектов, для которого мы описали безъядерные нейроны. Это стало некой меккой в нейробиологии. Это один из самых маленьких наездников, для нее мы сделали полный геном, и у нее в некоторых популяциях есть вольбахия, а в некоторых, видимо, нету.
— А в геноме было что-нибудь неожиданное?
— Это был, честно говоря, проект с неожиданным, но разочаровавшим результатом. Есть масса работ, которые показывают, что размер генома у многих групп животных коррелирует (помимо еще много чего) с размерами тела.
— Не с эффективным размером популяции?
— Не только. По крайней мере, есть работа на рачках, есть работа на насекомых, которые показывают, что действительно зависит…
— Зависит, потому что есть общая причина. Если больше размер тела, то обычно меньше размер популяции на ту же площадь.
— Отдельно размер популяции не смотрели, но…
— Вот именно. А если меньше размер популяции, то менее эффективный отбор, и геном может увеличиваться за счет повторов. А как размер напрямую может влиять?
— Напрямую это может влиять, потому что ядра крупнее. И каким-то образом происходит элиминация части материала либо вообще всего материала, как у мегафрагмы, у которой в нейронах ядер вообще нет.
— У большинства из наших это неизвестно. Потому что почти никто с их генетикой ничего не делал. Мы делали геном мегафрагмы, у нее вольбахия есть.
— Мегафрагма?..
— Мегафрагма — это один из наших любимых объектов, для которого мы описали безъядерные нейроны. Это стало некой меккой в нейробиологии. Это один из самых маленьких наездников, для нее мы сделали полный геном, и у нее в некоторых популяциях есть вольбахия, а в некоторых, видимо, нету.
— А в геноме было что-нибудь неожиданное?
— Это был, честно говоря, проект с неожиданным, но разочаровавшим результатом. Есть масса работ, которые показывают, что размер генома у многих групп животных коррелирует (помимо еще много чего) с размерами тела.
— Не с эффективным размером популяции?
— Не только. По крайней мере, есть работа на рачках, есть работа на насекомых, которые показывают, что действительно зависит…
— Зависит, потому что есть общая причина. Если больше размер тела, то обычно меньше размер популяции на ту же площадь.
— Отдельно размер популяции не смотрели, но…
— Вот именно. А если меньше размер популяции, то менее эффективный отбор, и геном может увеличиваться за счет повторов. А как размер напрямую может влиять?
— Напрямую это может влиять, потому что ядра крупнее. И каким-то образом происходит элиминация части материала либо вообще всего материала, как у мегафрагмы, у которой в нейронах ядер вообще нет.
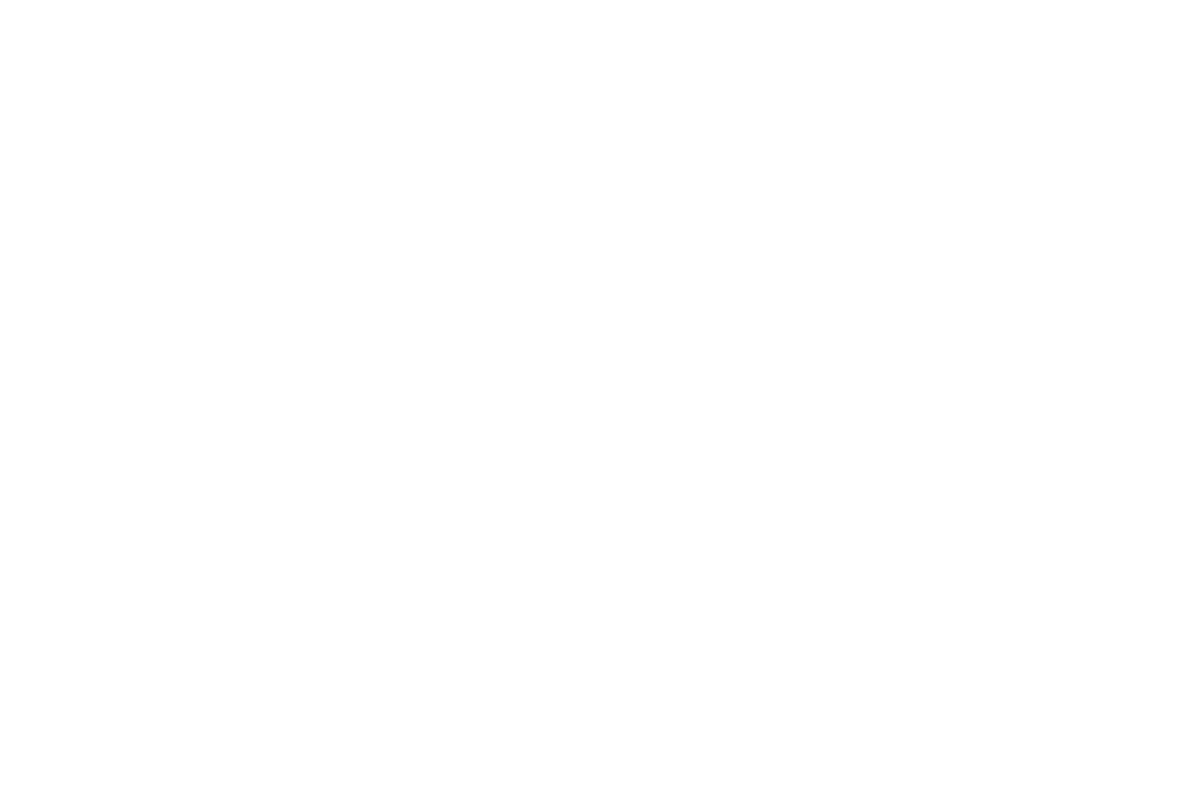
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Где же у нее транскрипция происходит? Или транскрипции вообще нет?
— Это как раз самая большая загадка. Транскрипция в нейронах происходит, видимо, до того, как ядра исчезают. Их нет в 97 % нейронов у имаго, а у куколки всё на своем месте. Формируется нервная система, клетки, контакты и т. д. И буквально за считаные часы перед выходом имаго из куколки происходит массовый лизис, разрушение тела ядер нейрона, остаются только отростки. И имаго живет с нервной системой, в которой 97 % клеток без ядер. И живет, питается, размножается, летает и даже учится.
Я хочу вернуться к тому, что мы говорили до этого, потому что мы с канадцами сделали проект про размер генома жуков. Взяли близкородственных жуков разного размера с близкой экологией, я так подозреваю, с достаточно сходным и по плотности популяциями. И эти популяции безграничны, потому что они живут везде. И оказалось, что в пределах этой группы жуков размер генома отличался почти на порядок у больших и у маленьких.
— С размером ядра коррелировало?
— Да. Еще мы смотрели это в ядрах сперматозоидов.
— У более крупных жуков более крупные сперматозоиды?
— Не всегда. В пределах одного семейства есть сперматозоиды, которые в два с половиной раза длиннее тела, а у соседних родов крошечные спермии, которые в 20 раз короче.
— Тогда бог с ними, со сперматозоидами. А средний размер клетки — он будет разным?
— Да, он будет очень разным, и он заметно коррелирует с размерами тела.
И вот на фоне этого мы решили сделать полный геном одного из самых маленьких насекомых, чтобы посмотреть, в чём же суть этого изменения. Но взяли не жука, а мегафрагму, потому что как раз тогда были открыты безъядерные нейроны. Но оказалось, что геном мегафрагмы почти самый большой среди всех изученных перепончатокрылых.
— Это противоречит сказанному выше, да?
— Это противоречит сказанному выше, потому что это две совершенно разные группы насекомых. Вполне возможно, что отчасти безъядерность связана с огромным геномом. Получается, что одни пошли путем уменьшения размеров ядер, и за счет этого они могут сильно компактизировать нервную систему, а другие вынуждены по какой-то неведомой причине пойти путем отказа от ядер в нервной системе.
— Это как раз самая большая загадка. Транскрипция в нейронах происходит, видимо, до того, как ядра исчезают. Их нет в 97 % нейронов у имаго, а у куколки всё на своем месте. Формируется нервная система, клетки, контакты и т. д. И буквально за считаные часы перед выходом имаго из куколки происходит массовый лизис, разрушение тела ядер нейрона, остаются только отростки. И имаго живет с нервной системой, в которой 97 % клеток без ядер. И живет, питается, размножается, летает и даже учится.
Я хочу вернуться к тому, что мы говорили до этого, потому что мы с канадцами сделали проект про размер генома жуков. Взяли близкородственных жуков разного размера с близкой экологией, я так подозреваю, с достаточно сходным и по плотности популяциями. И эти популяции безграничны, потому что они живут везде. И оказалось, что в пределах этой группы жуков размер генома отличался почти на порядок у больших и у маленьких.
— С размером ядра коррелировало?
— Да. Еще мы смотрели это в ядрах сперматозоидов.
— У более крупных жуков более крупные сперматозоиды?
— Не всегда. В пределах одного семейства есть сперматозоиды, которые в два с половиной раза длиннее тела, а у соседних родов крошечные спермии, которые в 20 раз короче.
— Тогда бог с ними, со сперматозоидами. А средний размер клетки — он будет разным?
— Да, он будет очень разным, и он заметно коррелирует с размерами тела.
И вот на фоне этого мы решили сделать полный геном одного из самых маленьких насекомых, чтобы посмотреть, в чём же суть этого изменения. Но взяли не жука, а мегафрагму, потому что как раз тогда были открыты безъядерные нейроны. Но оказалось, что геном мегафрагмы почти самый большой среди всех изученных перепончатокрылых.
— Это противоречит сказанному выше, да?
— Это противоречит сказанному выше, потому что это две совершенно разные группы насекомых. Вполне возможно, что отчасти безъядерность связана с огромным геномом. Получается, что одни пошли путем уменьшения размеров ядер, и за счет этого они могут сильно компактизировать нервную систему, а другие вынуждены по какой-то неведомой причине пойти путем отказа от ядер в нервной системе.
— Большой геном получается за счет повторов? Если взять какой-нибудь близкий вид и посмотреть синтении.
— Там всё оказывается ровно таким же. То есть мы вбухали огромное количество денег для геномов; транскриптомы делали отдельно для головы и для туловища. А на выходе получили обычную осу. И вместо Nature статью в PLOS One, кажется? Потому что действительно получилось очень скучно.
— Скучно-то скучно, а всё-таки как идет транскрипция и сплайсинг без ядра, это веселый вопрос.
— Веселый вопрос, и он особенно веселый в нервной системе, потому что значительная часть ее работы связана со специфическим белковым синтезом, который должен определять формирование синапсов и т. д. В теории долгосрочная память должна быть белковозависимой.
—То есть нельзя всё синтезировать, когда у тебя еще были ядра, а потом с этим работать, да?
— Теоретически, наверное, как-то можно это сделать. Но как это регулировать?..
Одна из задач, которую мы активно пытаемся решить, это показать, что у этих насекомых есть обучение и память, чтобы потом основательно подойти к вопросу о том, как это всё работает.
— Что-то типа спрыскивать что-то хорошее экстрактом мяты и смотреть, узнают ли они мяту?
— Примерно так. Чего мы с ними только не делали, потому что это легко работать с пчелой и муравьями, про которых всё понятно, а с ними… Мы как раз начинали с того, что пытались предлагать им субстраты с каким-то набором запахов или вкусов. Но это было очень сложно, потому что мы живьем не можем отличать ни возраст, ни часто пол, ничего. И все эксперименты связаны с предложением яиц хозяев, как это классически делают для паразитоидных. Они оказываются очень затруднены разным состоянием насекомых.
— Наверное, там еще самки сидят вперемежку с самцами… Поведение будет зависеть просто от соотношения самок и самцов, да?
— Да, это оказалось очень сложно. Потом мы придумывали для них маленький электрошок. Ну вы понимаете, что они 200 микрон длиной. Мы делали для них камеры, где били их током и предъявляли им при этом какой-то индифферентный запах, чтобы они выучились от него улетать. Мы даже всё придумали, сконструировали, сделали, опробовали. Всё получилось, но оказалось, что мы не можем подобрать им индифферентный стимул, что их обоняние настолько дискретно, что то, что они чувствуют, — очень небольшой набор стимулов.
— То есть у них есть запахи, которые для них существенны, а всё остальное они просто не замечают, да?
— Да. А то, что для них существенно, видимо, так глубоко запаяно, что переобучить оказывается очень сложно.
— Задним числом вроде понятно, что так оно и должно быть.
— Конечно. Мы знали про них, сколько у них сенсилл на антеннах, каких типов и т. д. Но хочется верить в невозможное. То есть результат был отчасти ожидаемый, но всё-таки надо было пройти этот путь, и мы его прошли.
Потом мы начали изучать их на термоарене типа водного лабиринта Морриса, где он заставлял плавать крыс в воде и всплывали островки…
— Там всё оказывается ровно таким же. То есть мы вбухали огромное количество денег для геномов; транскриптомы делали отдельно для головы и для туловища. А на выходе получили обычную осу. И вместо Nature статью в PLOS One, кажется? Потому что действительно получилось очень скучно.
— Скучно-то скучно, а всё-таки как идет транскрипция и сплайсинг без ядра, это веселый вопрос.
— Веселый вопрос, и он особенно веселый в нервной системе, потому что значительная часть ее работы связана со специфическим белковым синтезом, который должен определять формирование синапсов и т. д. В теории долгосрочная память должна быть белковозависимой.
—То есть нельзя всё синтезировать, когда у тебя еще были ядра, а потом с этим работать, да?
— Теоретически, наверное, как-то можно это сделать. Но как это регулировать?..
Одна из задач, которую мы активно пытаемся решить, это показать, что у этих насекомых есть обучение и память, чтобы потом основательно подойти к вопросу о том, как это всё работает.
— Что-то типа спрыскивать что-то хорошее экстрактом мяты и смотреть, узнают ли они мяту?
— Примерно так. Чего мы с ними только не делали, потому что это легко работать с пчелой и муравьями, про которых всё понятно, а с ними… Мы как раз начинали с того, что пытались предлагать им субстраты с каким-то набором запахов или вкусов. Но это было очень сложно, потому что мы живьем не можем отличать ни возраст, ни часто пол, ничего. И все эксперименты связаны с предложением яиц хозяев, как это классически делают для паразитоидных. Они оказываются очень затруднены разным состоянием насекомых.
— Наверное, там еще самки сидят вперемежку с самцами… Поведение будет зависеть просто от соотношения самок и самцов, да?
— Да, это оказалось очень сложно. Потом мы придумывали для них маленький электрошок. Ну вы понимаете, что они 200 микрон длиной. Мы делали для них камеры, где били их током и предъявляли им при этом какой-то индифферентный запах, чтобы они выучились от него улетать. Мы даже всё придумали, сконструировали, сделали, опробовали. Всё получилось, но оказалось, что мы не можем подобрать им индифферентный стимул, что их обоняние настолько дискретно, что то, что они чувствуют, — очень небольшой набор стимулов.
— То есть у них есть запахи, которые для них существенны, а всё остальное они просто не замечают, да?
— Да. А то, что для них существенно, видимо, так глубоко запаяно, что переобучить оказывается очень сложно.
— Задним числом вроде понятно, что так оно и должно быть.
— Конечно. Мы знали про них, сколько у них сенсилл на антеннах, каких типов и т. д. Но хочется верить в невозможное. То есть результат был отчасти ожидаемый, но всё-таки надо было пройти этот путь, и мы его прошли.
Потом мы начали изучать их на термоарене типа водного лабиринта Морриса, где он заставлял плавать крыс в воде и всплывали островки…
— Да, и они запоминали их положение.
— Это классический вариант эксперимента. Для насекомых уже давно сделали вариант с нагреваемым полем до некомфортной температуры и холодными точками, которые поочередно включаются. Насекомые бегают по этой арене и находят холодные точки. Есть ориентиры, которые поворачиваются синхронно с переключением точек. Их задача — научиться ориентироваться по картинке на экране, быстро находить следующую холодную точку.
Сначала были эти арены для сверчков. Нас на эту мысль натолкнула статья в Nature, где то же самое сделали для дрозофил на 20-сантиметровой арене. И там уже у них были охлаждаемый модуль Пельтье, компьютерное управление, светодиодный экран, всё красиво, но вот такого размера.
Мы бились над этим пару лет и сконструировали арену 18 миллиметров с четырьмя холодными точками, и в нее впихнуто всё, что должно быть: управление этими холодными точками, светодиодный экран, который показывает картинки вокруг, софт, который этим управляет. И, соответственно, вот мы ее сейчас мучаем. И тут уже неважно, хочет ли она есть, хочет ли она размножаться.
— Понятно: жарко оно и есть жарко. А как проверять?
— Здесь как раз просто, потому что, когда мы ее запускаем, она ничего не знает. Мы можем провести несколько вариантов экспериментов: сначала просто посмотреть, как она бегает по арене, чтобы убедиться, что она не предпочитает какую-то ее часть или какую-то картинку экрана, которая ей нравится, а дальше вся последовательность обучения сводится к тому, что мы включаем какую-то холодную точку, и объект бегает, бегает, бегает по арене, пока ее не находит. Дальше он стоит на ней и отдыхает какое-то время, потом мы переключаем на другую холодную точку. Когда старая холодная точка нагревается, объект начинает опять бегать, искать следующую. И, собственно, здесь положительным подкреплением оказывается то, что она находит холодную точку с комфортной температурой…
— Глядя на ориентиры на экране…
— И дальше, повторяя определенное количество раз, мы можем проанализировать путь, который она проходит, время, за которое она проходит, направление, по которому она начинает двигаться после выхода с предыдущей холодной точки, и т. д.
— А сверху висит камера и снимает треки, а дальше какой-то софт их обрабатывает?
— Трекинг, естественно, и потом анализ всего этого. А дальше мы можем отключить все холодные точки и заставить ее просто бегать по горячей арене и смотреть, будет ли она искать холодную точку там, где ее нет, и какой процент времени она будет проводить в секторе, где должна была быть холодная точка.
Всё это мы видим у маленьких насекомых. Оказывается, что они не только способны этому научиться, но и делают это очень быстро.
— Почему они бегают, а не летают?
— Это плоская арена, мы подбираем высоту так, чтобы объекты могли спокойно бегать, но не могли летать; это 200–300 микрон. Оказывается, что они учатся. Все объекты, с которыми мы работали, учатся, меньше чем за 10 попыток начинают ориентироваться.
— Лучше, чем сверчки?
— Лучше, чем сверчки. Крыса учится, по классическим работам Морриса, гдето с 15–18-го раза, сверчки учатся с 10-го. Трихограммы, про которых мы говорили, учатся с четвертого, а мегафрагмы не учатся. Точнее, учатся только некоторые особи.
— Это классический вариант эксперимента. Для насекомых уже давно сделали вариант с нагреваемым полем до некомфортной температуры и холодными точками, которые поочередно включаются. Насекомые бегают по этой арене и находят холодные точки. Есть ориентиры, которые поворачиваются синхронно с переключением точек. Их задача — научиться ориентироваться по картинке на экране, быстро находить следующую холодную точку.
Сначала были эти арены для сверчков. Нас на эту мысль натолкнула статья в Nature, где то же самое сделали для дрозофил на 20-сантиметровой арене. И там уже у них были охлаждаемый модуль Пельтье, компьютерное управление, светодиодный экран, всё красиво, но вот такого размера.
Мы бились над этим пару лет и сконструировали арену 18 миллиметров с четырьмя холодными точками, и в нее впихнуто всё, что должно быть: управление этими холодными точками, светодиодный экран, который показывает картинки вокруг, софт, который этим управляет. И, соответственно, вот мы ее сейчас мучаем. И тут уже неважно, хочет ли она есть, хочет ли она размножаться.
— Понятно: жарко оно и есть жарко. А как проверять?
— Здесь как раз просто, потому что, когда мы ее запускаем, она ничего не знает. Мы можем провести несколько вариантов экспериментов: сначала просто посмотреть, как она бегает по арене, чтобы убедиться, что она не предпочитает какую-то ее часть или какую-то картинку экрана, которая ей нравится, а дальше вся последовательность обучения сводится к тому, что мы включаем какую-то холодную точку, и объект бегает, бегает, бегает по арене, пока ее не находит. Дальше он стоит на ней и отдыхает какое-то время, потом мы переключаем на другую холодную точку. Когда старая холодная точка нагревается, объект начинает опять бегать, искать следующую. И, собственно, здесь положительным подкреплением оказывается то, что она находит холодную точку с комфортной температурой…
— Глядя на ориентиры на экране…
— И дальше, повторяя определенное количество раз, мы можем проанализировать путь, который она проходит, время, за которое она проходит, направление, по которому она начинает двигаться после выхода с предыдущей холодной точки, и т. д.
— А сверху висит камера и снимает треки, а дальше какой-то софт их обрабатывает?
— Трекинг, естественно, и потом анализ всего этого. А дальше мы можем отключить все холодные точки и заставить ее просто бегать по горячей арене и смотреть, будет ли она искать холодную точку там, где ее нет, и какой процент времени она будет проводить в секторе, где должна была быть холодная точка.
Всё это мы видим у маленьких насекомых. Оказывается, что они не только способны этому научиться, но и делают это очень быстро.
— Почему они бегают, а не летают?
— Это плоская арена, мы подбираем высоту так, чтобы объекты могли спокойно бегать, но не могли летать; это 200–300 микрон. Оказывается, что они учатся. Все объекты, с которыми мы работали, учатся, меньше чем за 10 попыток начинают ориентироваться.
— Лучше, чем сверчки?
— Лучше, чем сверчки. Крыса учится, по классическим работам Морриса, гдето с 15–18-го раза, сверчки учатся с 10-го. Трихограммы, про которых мы говорили, учатся с четвертого, а мегафрагмы не учатся. Точнее, учатся только некоторые особи.
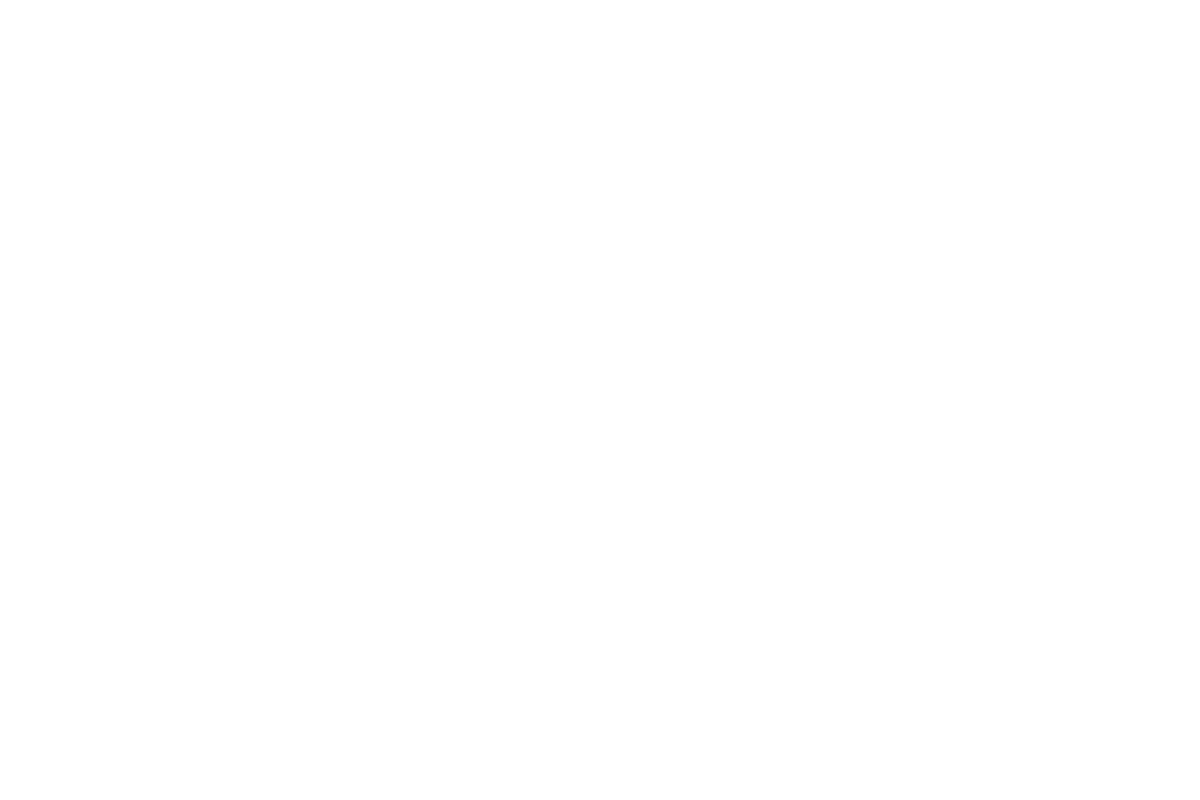
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— От чего это зависит?
— Это вопрос, над которым мы бьемся. Скорее всего, это зависит либо от физиологического состояния, либо от температуры, уровня освещенности и прочего.
— Тяжелое детство?
— Видимо, да. Похоже, с таким дискретным набором органов чувств и того, что они могут воспринимать, это проблема при работе с насекомыми, что мы вообще не понимаем, как устроен их мир. Большинство экспериментов с обучением насекомых совсем до недавнего времени были очень антропоморфными. Давать им не решаемую для них задачу и думать, что они способны научиться ее решать, или давать задачу, которую они не должны решать в природе, — это был провальный путь.
Лет 30 или 40 назад Мазохиным, одним из заведующих нашей кафедрой, было показано на пчелах и потом много раз было показано на муравьях, что уровень обучаемости очень разный.
У муравьев вообще оказывается, что в пределах одной семьи очень сложно распределяются роли, и есть обучаемые особи, есть необучаемые, есть гении, а есть те, кто способен следовать за гением, а сами ничего не могут. В общем, это очень сложный мир.
Видимо, здесь мы тоже имеем дело, во-первых, с какими-то индивидуальными особенностями, а во-вторых, с тем, что нужно правильно формулировать задачи для проведения экспериментов. С теми же пчелами и осами — вы можете сколько угодно с ними биться, но одни легко обучаются цвету, просто потому что они питаются на цветах, а другие лучше обучаются форме тех же самых картинок и хуже — цвету, потому что они хищники.
— Сейчас вы говорите про разные виды, не про особей внутри семьи. Кстати, вот интересный вопрос. Ясно, что большая дисперсия по обучаемости может быть даже полезна у общественных насекомых, потому что сложное сообщество более устойчиво, чем сообщество из всех одинаковых. А почему так получается у одиночных? Это зависит просто от того, как личинка питалась?
— Действительно, от того, как ты в детстве поел, зависит многое. У насекомых особенно, и особенно у паразитоидов, потому что у них вообще от того, сколько особей развивается в одном яйце хозяина, или от размера яйца хозяина может кратно меняться размер тела. С этим многое связано даже в пределах потомков одной и той же особи, а если при партеногенезе, то даже абсолютных клонов.
— Что вы отвечаете на вопрос «какая от этого польза народному хозяйству»? Или до вас не допускают журналистов, которые задают такие вопросы?
— К сожалению, этот вопрос звучит каждый раз. Конечно, у меня нет никакого ответа, потому что то, чем мы занимается, по крайней мере сейчас, это совершенно фундаментальная наука, и никакого прикладного значения она не имеет.
— Хотите придумаю? Микродроны делать.
— Я каждый раз придумываю какие-то ответы про биоморфные технологии, про микроробототехнику… Есть даже учебник микроробототехники, в котором сворованы куски наших статей и вставлены как что-то из будущего робототехники. Но это всё, конечно, выдумки. И пока никакого практического смысла, в общем-то, в этом нет.
— Смысл в этом есть как раз, это в моём вопросе смысла не было, это была мелкая провокация.
— Когда мы изучили полёт этих маленьких объектов, половина людей, которые писали об этом новости, естественно, написали про миниатюрные летательные аппараты и т. д. Даже мы, кажется, в какой-то статье про это написали. Но не в плане того, что бери и делай, а в плане того, что это вызов. Потому что сейчас разработка миниатюрных летательных аппаратов — это мейнстрим микроробототехники. И летающих роботов размером с насекомое не делают только ленивые. И в очень крутых лабораториях, и в очень крутых центрах, и Гарвард, и Массачусетский, делают маленьких роботов. По их масштабам маленький — это сантиметр, два сантиметра. Они отлично выглядят на картинках, правда, такие классные, крылатые такие роботы. Но как они летают, это просто смех и слёзы. Поэтому робот размером в доли миллиметра — это не настоящая робототехника, а это вызов будущим робототехникам.
— Это вопрос, над которым мы бьемся. Скорее всего, это зависит либо от физиологического состояния, либо от температуры, уровня освещенности и прочего.
— Тяжелое детство?
— Видимо, да. Похоже, с таким дискретным набором органов чувств и того, что они могут воспринимать, это проблема при работе с насекомыми, что мы вообще не понимаем, как устроен их мир. Большинство экспериментов с обучением насекомых совсем до недавнего времени были очень антропоморфными. Давать им не решаемую для них задачу и думать, что они способны научиться ее решать, или давать задачу, которую они не должны решать в природе, — это был провальный путь.
Лет 30 или 40 назад Мазохиным, одним из заведующих нашей кафедрой, было показано на пчелах и потом много раз было показано на муравьях, что уровень обучаемости очень разный.
У муравьев вообще оказывается, что в пределах одной семьи очень сложно распределяются роли, и есть обучаемые особи, есть необучаемые, есть гении, а есть те, кто способен следовать за гением, а сами ничего не могут. В общем, это очень сложный мир.
Видимо, здесь мы тоже имеем дело, во-первых, с какими-то индивидуальными особенностями, а во-вторых, с тем, что нужно правильно формулировать задачи для проведения экспериментов. С теми же пчелами и осами — вы можете сколько угодно с ними биться, но одни легко обучаются цвету, просто потому что они питаются на цветах, а другие лучше обучаются форме тех же самых картинок и хуже — цвету, потому что они хищники.
— Сейчас вы говорите про разные виды, не про особей внутри семьи. Кстати, вот интересный вопрос. Ясно, что большая дисперсия по обучаемости может быть даже полезна у общественных насекомых, потому что сложное сообщество более устойчиво, чем сообщество из всех одинаковых. А почему так получается у одиночных? Это зависит просто от того, как личинка питалась?
— Действительно, от того, как ты в детстве поел, зависит многое. У насекомых особенно, и особенно у паразитоидов, потому что у них вообще от того, сколько особей развивается в одном яйце хозяина, или от размера яйца хозяина может кратно меняться размер тела. С этим многое связано даже в пределах потомков одной и той же особи, а если при партеногенезе, то даже абсолютных клонов.
— Что вы отвечаете на вопрос «какая от этого польза народному хозяйству»? Или до вас не допускают журналистов, которые задают такие вопросы?
— К сожалению, этот вопрос звучит каждый раз. Конечно, у меня нет никакого ответа, потому что то, чем мы занимается, по крайней мере сейчас, это совершенно фундаментальная наука, и никакого прикладного значения она не имеет.
— Хотите придумаю? Микродроны делать.
— Я каждый раз придумываю какие-то ответы про биоморфные технологии, про микроробототехнику… Есть даже учебник микроробототехники, в котором сворованы куски наших статей и вставлены как что-то из будущего робототехники. Но это всё, конечно, выдумки. И пока никакого практического смысла, в общем-то, в этом нет.
— Смысл в этом есть как раз, это в моём вопросе смысла не было, это была мелкая провокация.
— Когда мы изучили полёт этих маленьких объектов, половина людей, которые писали об этом новости, естественно, написали про миниатюрные летательные аппараты и т. д. Даже мы, кажется, в какой-то статье про это написали. Но не в плане того, что бери и делай, а в плане того, что это вызов. Потому что сейчас разработка миниатюрных летательных аппаратов — это мейнстрим микроробототехники. И летающих роботов размером с насекомое не делают только ленивые. И в очень крутых лабораториях, и в очень крутых центрах, и Гарвард, и Массачусетский, делают маленьких роботов. По их масштабам маленький — это сантиметр, два сантиметра. Они отлично выглядят на картинках, правда, такие классные, крылатые такие роботы. Но как они летают, это просто смех и слёзы. Поэтому робот размером в доли миллиметра — это не настоящая робототехника, а это вызов будущим робототехникам.
Интервью впервые опубликовано на портале Naked Science 20.02.2023
