РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Виктор Тарабыкин
О мышах и людях.
Здоровых и больных
О мышах и людях.
Здоровых и больных
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Виктор Тарабыкин
О мышах и людях.
Здоровых и больных
О мышах и людях.
Здоровых и больных
- Разговоро роли генов в поведении человека, развитии заболеваний мозга и о том, насколько модельные организмы на самом деле похожи на человека
- ГеройВиктор Тарабыкин, директор НИИ нейронаук Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, директор Института клеточной биологии и нейробиологии клиники «Шарите» в Германии
- СобеседникКристина Уласович, научный журналист
- Беседовалив январе 2022 г.
— Виктор, как вы пришли к идее заниматься генетикой мозга? Школьники, скажем, в пятом классе вряд ли, наверное, мечтают этим заниматься...
— В пятом классе я, конечно, не думал, что буду заниматься генетикой мозга, но уже знал, что буду биологом. Мне, как и многим детям в том возрасте, хотелось заниматься классической зоологией: eздить в поле с биноклем наблюдать за животными в стиле Даррелла, Лоренца, начитавшись их книг. Я вырос на Байкале, в Сибири, и там нас каждый год собирали на 3–4 недели в полевых условиях в экологическом лагере. Я очень много проводил времени в лесу, в таких небольших, можно сказать, экспедициях.
— С биноклем, то есть, ходили?
— Ну да. Мне нравились животные, нравилось за ними наблюдать, хотелось стать кем-то вроде Бернарда Гржимека: всю жизнь провести в экспедициях, изучать поведение животных. Поведение — один из ключевых моментов, я зачитывался книгами о поведении животных в природных условиях.
Потом, где-то в классе девятом, наверное, я открыл для себя органическую химию. В ней мне очень понравилось, что у молекул, оказывается, есть трехмерность. В курсе неорганической химии всё время были какие-то формулы, а тут всё можно было представить в стереокоординатах. Параллельно с этим меня увлекла генетика. И вот уже по прошествии нескольких лет, на втором курсе университета, родился такой конгломерат: с одной стороны — генетика и молекулярная биология, с другой — поведение, и я решил, что меня интересует то, каким образом наследуется поведение.
— Но вы ведь изначально учились медицине?
— Да, я закончил медицинский университет в Москве, но медико-биологический факультет и не вижу в этом никакого противоречия: факультет готовил ученых, которые занимаются медицинскими аспектами.
— В пятом классе я, конечно, не думал, что буду заниматься генетикой мозга, но уже знал, что буду биологом. Мне, как и многим детям в том возрасте, хотелось заниматься классической зоологией: eздить в поле с биноклем наблюдать за животными в стиле Даррелла, Лоренца, начитавшись их книг. Я вырос на Байкале, в Сибири, и там нас каждый год собирали на 3–4 недели в полевых условиях в экологическом лагере. Я очень много проводил времени в лесу, в таких небольших, можно сказать, экспедициях.
— С биноклем, то есть, ходили?
— Ну да. Мне нравились животные, нравилось за ними наблюдать, хотелось стать кем-то вроде Бернарда Гржимека: всю жизнь провести в экспедициях, изучать поведение животных. Поведение — один из ключевых моментов, я зачитывался книгами о поведении животных в природных условиях.
Потом, где-то в классе девятом, наверное, я открыл для себя органическую химию. В ней мне очень понравилось, что у молекул, оказывается, есть трехмерность. В курсе неорганической химии всё время были какие-то формулы, а тут всё можно было представить в стереокоординатах. Параллельно с этим меня увлекла генетика. И вот уже по прошествии нескольких лет, на втором курсе университета, родился такой конгломерат: с одной стороны — генетика и молекулярная биология, с другой — поведение, и я решил, что меня интересует то, каким образом наследуется поведение.
— Но вы ведь изначально учились медицине?
— Да, я закончил медицинский университет в Москве, но медико-биологический факультет и не вижу в этом никакого противоречия: факультет готовил ученых, которые занимаются медицинскими аспектами.
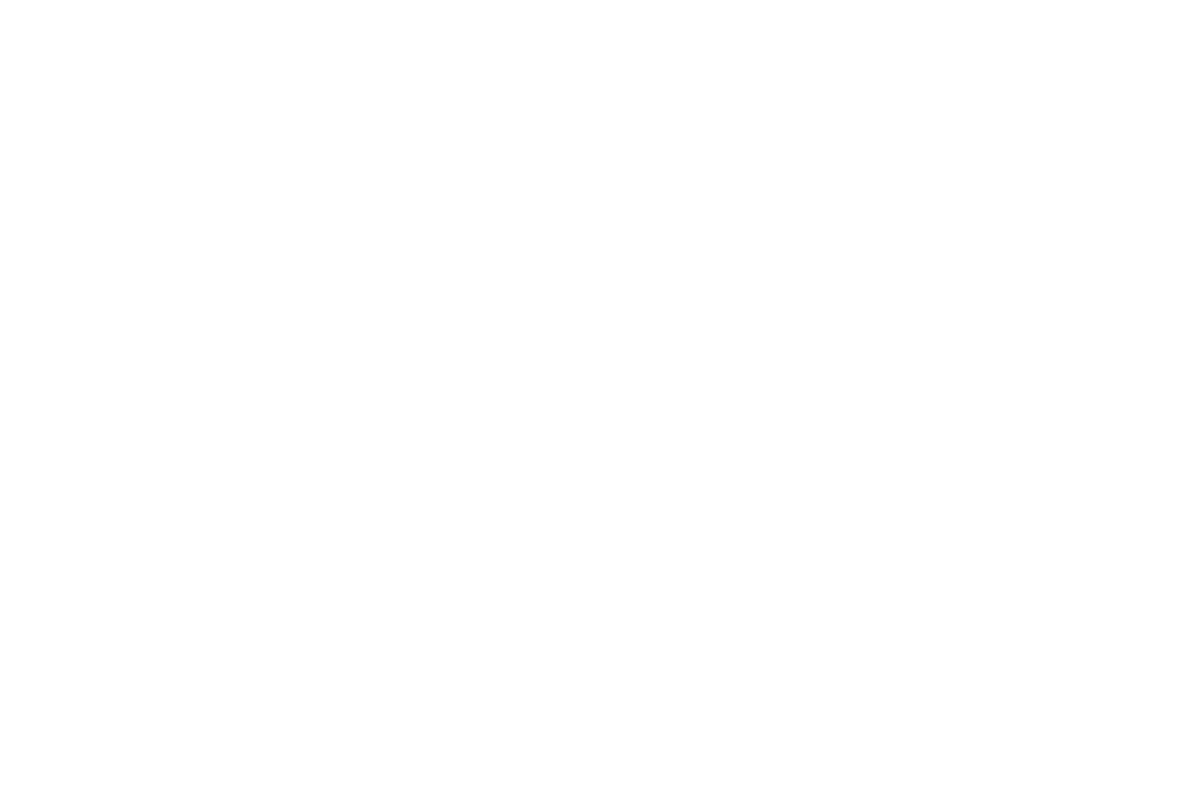
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— А сами вы как себя определяете? Как биолога или как медика?
— Думаю, что где-то посерединке: я себя считаю и биологом, и медиком. Последние 10–15 лет разделение вообще условное: я не вижу больших различий медицинской науки от биологической и потому считаю медицину частью биологии.
— Вы сказали о том, что интересовались генетикой и поведением. А как вы смотрите на теорию о том, что гены полностью определяют наше поведение?
— Есть статьи о том, какую часть разных аспектов поведения, интеллекта определяют гены, а какую — среда. Например, коэффициент IQ (хотя не все ученые согласны с тем, что коэффициент IQ является хорошим показателем интеллекта человека) на 70 % зависит от генов и только на 30 % от окружения. Это не очень свежие данные, им лет 10, но я не думаю, что с тех пор что-то принципиально изменилось. И мы, конечно, в своем поведении очень зависим от генов, пусть и воспитание тоже играет важную роль.
— А насколько хорошо мы вообще понимаем связь генов и тех или иных аспектов поведения? Насколько я понимаю, достаточно редко можно указать на конкретный ген и сказать, что он на 100 % отвечает за что-то.
— Это как раз один из аспектов, которым, я думаю, следующие 15–20 лет будет заниматься наука: изучать, какие комбинации генов определяют поведение. Например, уровень агрессии, конечно же, очень сильно зависит от генов, то же показано для склонности к депрессиям, темперамента человека... И во многих случаях мы знаем, какие гены принимают участие в формировании тех или иных аспектов. Но это всё еще описательные работы, нам трудно точно сказать в случае человека, как, какие аспекты, какими генами определяются. Есть наборы вариантов генов, которые чаще присутствуют у людей с определенными склонностями и реже присутствуют у людей без них. Мы знаем наборы генов, но мы не знаем их конкретных механизмов работы, их способов взаимодействия друг с другом.
— Многие исследования вы проводите на мышах. А понимаем ли мы что-то о других модельных организмах, чей геном достаточно изучен?
— Есть разные генетические модели, та же плодовая мушка Drosophila melanogaster. Про нее понятно достаточно многое: скажем, известен единичный ген, который определяет появление определенного клеточного типа в нервной системе. Этот клеточный тип отвечает за половое поведение самцов мухи. Если этот ген активировать у самки, то она ведет себя в аспектах ухаживания абсолютно как самец. У млекопитающих всё гораздо сложнее, там нет конкретного понимания того, что приводит к определенным формам поведения. Но, скажем, у мышей мы знаем очень много генов, которые при инактивации делают их более агрессивными или меняют социальные аспекты поведения.
Конечно, некоторые черты поведения специфичны только для человека или для приматов, и это мы не можем изучить на мышах. Но такие патологии, как аутизм или агрессивность, можно хорошо моделировать.
— Думаю, что где-то посерединке: я себя считаю и биологом, и медиком. Последние 10–15 лет разделение вообще условное: я не вижу больших различий медицинской науки от биологической и потому считаю медицину частью биологии.
— Вы сказали о том, что интересовались генетикой и поведением. А как вы смотрите на теорию о том, что гены полностью определяют наше поведение?
— Есть статьи о том, какую часть разных аспектов поведения, интеллекта определяют гены, а какую — среда. Например, коэффициент IQ (хотя не все ученые согласны с тем, что коэффициент IQ является хорошим показателем интеллекта человека) на 70 % зависит от генов и только на 30 % от окружения. Это не очень свежие данные, им лет 10, но я не думаю, что с тех пор что-то принципиально изменилось. И мы, конечно, в своем поведении очень зависим от генов, пусть и воспитание тоже играет важную роль.
— А насколько хорошо мы вообще понимаем связь генов и тех или иных аспектов поведения? Насколько я понимаю, достаточно редко можно указать на конкретный ген и сказать, что он на 100 % отвечает за что-то.
— Это как раз один из аспектов, которым, я думаю, следующие 15–20 лет будет заниматься наука: изучать, какие комбинации генов определяют поведение. Например, уровень агрессии, конечно же, очень сильно зависит от генов, то же показано для склонности к депрессиям, темперамента человека... И во многих случаях мы знаем, какие гены принимают участие в формировании тех или иных аспектов. Но это всё еще описательные работы, нам трудно точно сказать в случае человека, как, какие аспекты, какими генами определяются. Есть наборы вариантов генов, которые чаще присутствуют у людей с определенными склонностями и реже присутствуют у людей без них. Мы знаем наборы генов, но мы не знаем их конкретных механизмов работы, их способов взаимодействия друг с другом.
— Многие исследования вы проводите на мышах. А понимаем ли мы что-то о других модельных организмах, чей геном достаточно изучен?
— Есть разные генетические модели, та же плодовая мушка Drosophila melanogaster. Про нее понятно достаточно многое: скажем, известен единичный ген, который определяет появление определенного клеточного типа в нервной системе. Этот клеточный тип отвечает за половое поведение самцов мухи. Если этот ген активировать у самки, то она ведет себя в аспектах ухаживания абсолютно как самец. У млекопитающих всё гораздо сложнее, там нет конкретного понимания того, что приводит к определенным формам поведения. Но, скажем, у мышей мы знаем очень много генов, которые при инактивации делают их более агрессивными или меняют социальные аспекты поведения.
Конечно, некоторые черты поведения специфичны только для человека или для приматов, и это мы не можем изучить на мышах. Но такие патологии, как аутизм или агрессивность, можно хорошо моделировать.
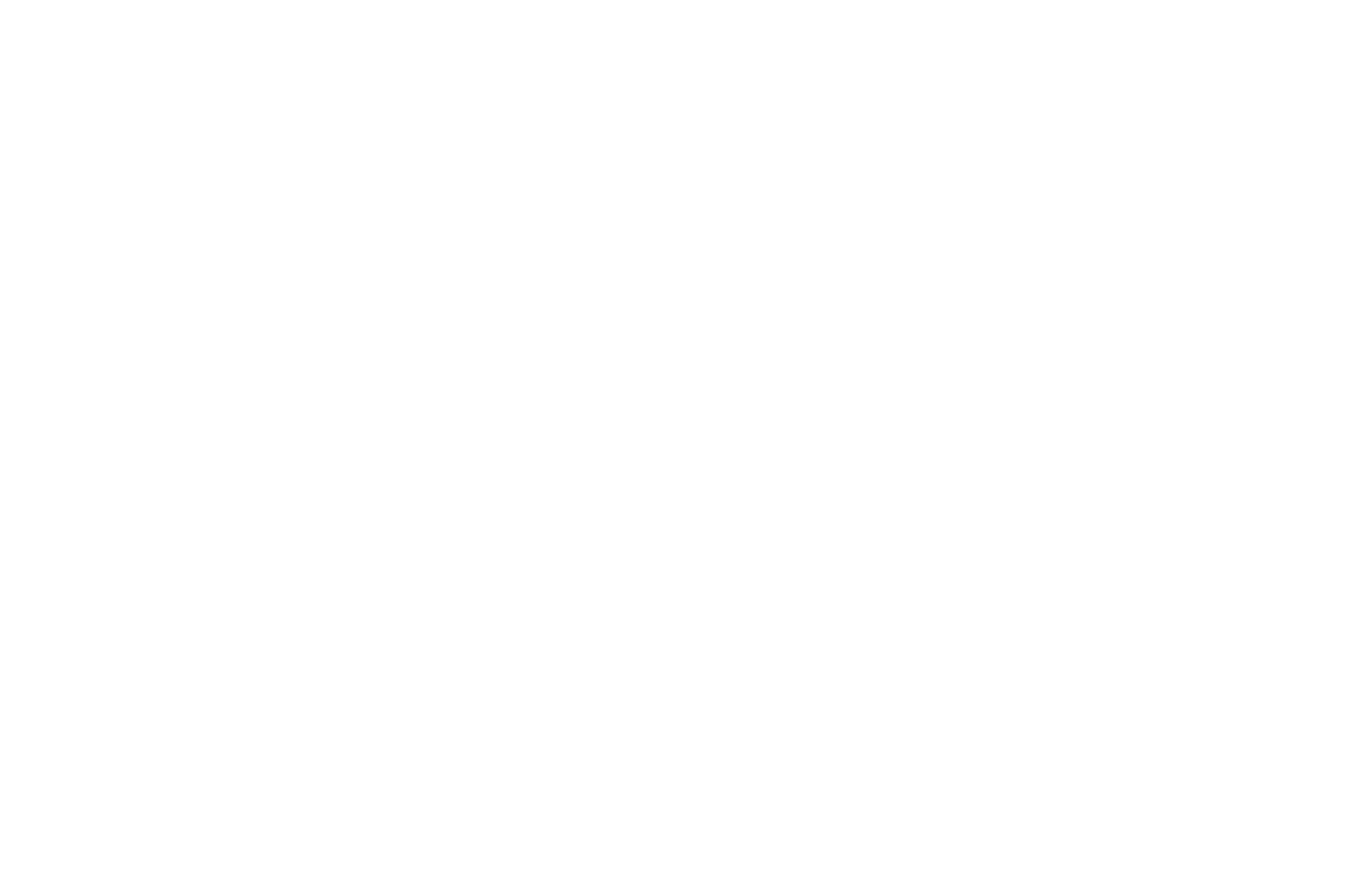
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— То есть результаты экспериментов и моделирования переносимы отчасти на человека?
— Да. Практические всё, что мы получаем на мыши, мы можем перенести на человека, но не наоборот: не все аспекты структуры и функционирования мозга и поведения человека мы можем изучить на мыши, потому что у него есть много новых генов, появившихся в процессе эволюции человека.
— За время вашей работы произошли ли какие-то прорывы, которые серьезно изменили наше понимание этих процессов?
— Скачки, безусловно, были. Когда я начинал работать в этой области — почти 25 лет назад, — мы почти ничего не знали о молекулярных основах [развития коры головного мозга], хотя много чего было известно об анатомии мозга на описательном уровне. Мы представляли, как делятся стволовые клетки, что происходит дальше, но количество типов стволовых клеток, как из них получаются нейроны и другие аспекты нам были неизвестны. За 25 лет произошли огромные прорывы, теперь мы понимаем гораздо больше, знаем ключевых игроков — я имею в виду молекулярных, — знаем, какие гены и какие белки отвечают за то, чтобы клетка, скажем, прекратила делиться и стала нейроном. Эти прорывы стали возможны, во-первых, благодаря длительным исследованиям и, во-вторых, благодаря появлению новых технологий.
Началось всё с того, что были прочитаны человеческий и многие другие геномы. Генетикам стало на порядок легче изучать очень многое — не только развитие коры. После этого появился ряд технологий, во-первых, позволяющих быстро и направленно изменять геном. Например, за последние 10 лет новая технология CRISPR-Cas революционизировала нашу работу. С ее помощью мы можем очень быстро делать эксперименты, связанные с манипуляцией активности разных генов: то, на что раньше уходило 3–4 года, теперь доступно за полгода. Кроме того, появилась технология глубокого секвенирования. Теперь мы можем прочитать транскриптом — ту часть генома, которая активна в конкретной клетке, причем сравнительно быстро и недорого. Произошел прорыв в области изучения мозга, в тех методах, которые позволяют анализировать связи между нейронами. Мы теперь можем брать, допустим, мозг мыши и с помощью разных манипуляций так его просвечивать, чтобы наблюдать связи нейронов между собой в 3D. Это выводит исследования на совершенно новый уровень. Раньше мы видели плоскую картинку: брать мозг, делать тонкие срезы и видеть на них, что происходит. Получать трехмерное изображение из таких пошаговых срезов было очень трудоемко и не всегда возможно. Сейчас же мы можем взять целый мозг, просветить его и увидеть связи сотен и тысяч нейронов между собой из разных регионов коры и других отделов мозга.
— Можем ли мы сказать, что сейчас хорошо понимаем человеческий мозг, или мы всё еще в своеобразных «яслях»?
— Если сравнить с яслями, то мы скорее на уровне 3–4-го класса начальной школы. Мы уже понимаем основные принципы развития коры, но у нас еще не вся палитра. Очень много усилий нужно, чтобы понять все взаимодействия генов, вернее их продуктов, между собой. И одна из сложностей состоит в том, что если мы изучаем, скажем, некий молекулярный каскад, то на его вершине находится транскрипционный фактор. Это белок, который контролирует активность многих генов. Дальше у него несколько сотен генов-мишеней, белковые продукты которых взаимодействуют между собой, и они, в свою очередь, запускают другие каскады. И всю сложность этих каскадов мы до сих пор не можем до конца оценить, потому что наши методы пока что недостаточно хороши, чтобы изучать эти каскады целиком, а не только отдельные их компоненты. У нас есть способы манипулировать одновременно 1–3 генами, и, соответственно, мы можем изучать, что происходит, когда нарушается работа этих генов. Но как взаимосвязаны все каскады — это до сих пор нам непонятно, и методы, которые у нас есть, всё еще достаточно описательные. То есть я бы сказал, что на уровне арифметики и простой геометрии считать мы научились, а высшую математику всё еще не освоили.
— Да. Практические всё, что мы получаем на мыши, мы можем перенести на человека, но не наоборот: не все аспекты структуры и функционирования мозга и поведения человека мы можем изучить на мыши, потому что у него есть много новых генов, появившихся в процессе эволюции человека.
— За время вашей работы произошли ли какие-то прорывы, которые серьезно изменили наше понимание этих процессов?
— Скачки, безусловно, были. Когда я начинал работать в этой области — почти 25 лет назад, — мы почти ничего не знали о молекулярных основах [развития коры головного мозга], хотя много чего было известно об анатомии мозга на описательном уровне. Мы представляли, как делятся стволовые клетки, что происходит дальше, но количество типов стволовых клеток, как из них получаются нейроны и другие аспекты нам были неизвестны. За 25 лет произошли огромные прорывы, теперь мы понимаем гораздо больше, знаем ключевых игроков — я имею в виду молекулярных, — знаем, какие гены и какие белки отвечают за то, чтобы клетка, скажем, прекратила делиться и стала нейроном. Эти прорывы стали возможны, во-первых, благодаря длительным исследованиям и, во-вторых, благодаря появлению новых технологий.
Началось всё с того, что были прочитаны человеческий и многие другие геномы. Генетикам стало на порядок легче изучать очень многое — не только развитие коры. После этого появился ряд технологий, во-первых, позволяющих быстро и направленно изменять геном. Например, за последние 10 лет новая технология CRISPR-Cas революционизировала нашу работу. С ее помощью мы можем очень быстро делать эксперименты, связанные с манипуляцией активности разных генов: то, на что раньше уходило 3–4 года, теперь доступно за полгода. Кроме того, появилась технология глубокого секвенирования. Теперь мы можем прочитать транскриптом — ту часть генома, которая активна в конкретной клетке, причем сравнительно быстро и недорого. Произошел прорыв в области изучения мозга, в тех методах, которые позволяют анализировать связи между нейронами. Мы теперь можем брать, допустим, мозг мыши и с помощью разных манипуляций так его просвечивать, чтобы наблюдать связи нейронов между собой в 3D. Это выводит исследования на совершенно новый уровень. Раньше мы видели плоскую картинку: брать мозг, делать тонкие срезы и видеть на них, что происходит. Получать трехмерное изображение из таких пошаговых срезов было очень трудоемко и не всегда возможно. Сейчас же мы можем взять целый мозг, просветить его и увидеть связи сотен и тысяч нейронов между собой из разных регионов коры и других отделов мозга.
— Можем ли мы сказать, что сейчас хорошо понимаем человеческий мозг, или мы всё еще в своеобразных «яслях»?
— Если сравнить с яслями, то мы скорее на уровне 3–4-го класса начальной школы. Мы уже понимаем основные принципы развития коры, но у нас еще не вся палитра. Очень много усилий нужно, чтобы понять все взаимодействия генов, вернее их продуктов, между собой. И одна из сложностей состоит в том, что если мы изучаем, скажем, некий молекулярный каскад, то на его вершине находится транскрипционный фактор. Это белок, который контролирует активность многих генов. Дальше у него несколько сотен генов-мишеней, белковые продукты которых взаимодействуют между собой, и они, в свою очередь, запускают другие каскады. И всю сложность этих каскадов мы до сих пор не можем до конца оценить, потому что наши методы пока что недостаточно хороши, чтобы изучать эти каскады целиком, а не только отдельные их компоненты. У нас есть способы манипулировать одновременно 1–3 генами, и, соответственно, мы можем изучать, что происходит, когда нарушается работа этих генов. Но как взаимосвязаны все каскады — это до сих пор нам непонятно, и методы, которые у нас есть, всё еще достаточно описательные. То есть я бы сказал, что на уровне арифметики и простой геометрии считать мы научились, а высшую математику всё еще не освоили.
— Я так понимаю, нам пока что не хватает именно инструментов?
— Не всегда, в каких-то областях у нас есть инструменты, нам не хватает массива данных. Скажем, есть десятки каскадов, в которые вовлечены сотни и тысячи молекул. Мы знаем ключевых игроков, но как они между собой взаимодействуют и с какими мишенями, как это приводит к тому, к чему приводит, мы до сих пор не знаем. Это первый момент. А второй момент — это то, что для ряда вещей не хватает технологий обработки данных, мы всё еще не понимаем, как анализировать взаимодействие сложных систем друг с другом.
— Может ли в этом помочь машинное обучение или к вашей работе это не применимо?
— Конечно. Например, секвенирование единичных клеток — это технология, невозможная без машинного обучения. Результаты, которые мы получаем, секвенируя транскриптом — активную часть генома нескольких тысяч клеток, — без машинного обучения, без искусственного интеллекта мы бы просто не смогли проанализировать.
— Не всегда, в каких-то областях у нас есть инструменты, нам не хватает массива данных. Скажем, есть десятки каскадов, в которые вовлечены сотни и тысячи молекул. Мы знаем ключевых игроков, но как они между собой взаимодействуют и с какими мишенями, как это приводит к тому, к чему приводит, мы до сих пор не знаем. Это первый момент. А второй момент — это то, что для ряда вещей не хватает технологий обработки данных, мы всё еще не понимаем, как анализировать взаимодействие сложных систем друг с другом.
— Может ли в этом помочь машинное обучение или к вашей работе это не применимо?
— Конечно. Например, секвенирование единичных клеток — это технология, невозможная без машинного обучения. Результаты, которые мы получаем, секвенируя транскриптом — активную часть генома нескольких тысяч клеток, — без машинного обучения, без искусственного интеллекта мы бы просто не смогли проанализировать.
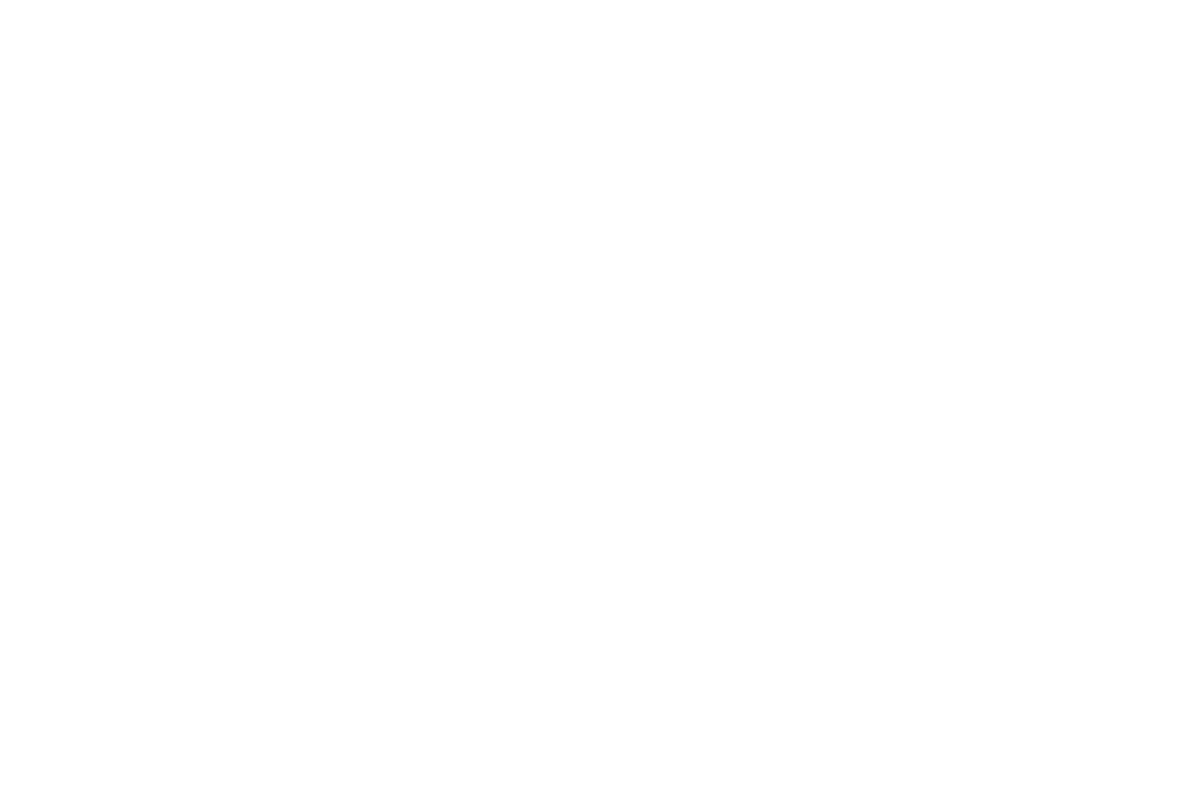
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Если решить проблему анализа, то вы найдете, откуда брать данные?
— Не совсем. Вы сможете понять, какие каскады и какие наборы молекул активны в конкретных клетках, но при этом у вас всё еще не будет инструментов, чтобы манипулировать лишь частью каскада и понять, что происходит, когда мы меняем соотношение молекул или убираем какие-то из них.
Классический подход генетики — это удалить один из элементов каскада и посмотреть, что получается, — иными словами, сломать и попытаться построить заново. Можно ломать на уровне одной-двух-трех молекул, но пока еще не развиты технологии, которые бы позволяли либо ломать, либо слегка манипулировать каскадом так, чтобы молекулы не целиком теряли функцию, а работали вполовину. И на уровне нескольких сотен генов или белков у нас нет технологий для такого рода манипуляций, и я не знаю, когда мы сможем с этой проблемой справиться.
— Не совсем. Вы сможете понять, какие каскады и какие наборы молекул активны в конкретных клетках, но при этом у вас всё еще не будет инструментов, чтобы манипулировать лишь частью каскада и понять, что происходит, когда мы меняем соотношение молекул или убираем какие-то из них.
Классический подход генетики — это удалить один из элементов каскада и посмотреть, что получается, — иными словами, сломать и попытаться построить заново. Можно ломать на уровне одной-двух-трех молекул, но пока еще не развиты технологии, которые бы позволяли либо ломать, либо слегка манипулировать каскадом так, чтобы молекулы не целиком теряли функцию, а работали вполовину. И на уровне нескольких сотен генов или белков у нас нет технологий для такого рода манипуляций, и я не знаю, когда мы сможем с этой проблемой справиться.
— Чисто теоретически: решение этой проблемы поможет нам приблизиться к лечению заболеваний, о которых вы упоминали?
— Я думаю, что почти всё, что мы пытаемся понять о функции и развитии мозга, приближает нас к возможностям лечения. Приведу простой пример. Вот у нас есть мышиная модель аутизма. В ней инактивирован один ген — тот же, что мутирован и у пациентов с аутизмом, — и это приводит к тому, что у таких мышей на 30 % больше синапсов. Мы предположили, что этот эффект можно фармакологически корректировать и с помощью простого лекарства, кстати, уже широко используемого в качестве иммуносупрессора, блокировать возникновение избытка синапсов.
На мышах мы действительно сумели компенсировать мутацию этого гена с помощью этого лекарства так, чтобы количество синапсов снова возвращалось к норме. И если в другой подобной ситуации мы найдем аналогичную молекулу и в мышиной модели научимся с ее помощью блокировать лишние синапсы, то, возможно, это будет применимо и к человеку, потому что синаптогенез — формирование синапсов между нейронами — процесс долгий и начинающийся поздно.
Какие-то аспекты развития мы не можем корректировать: например, если стволовые клетки в эмбриогенезе перестали делиться и это привело к так называемой микроцефалии — маленькому и недоразвитому мозгу. Однако мы можем разрабатывать новые методы диагностики, с помощью которых на очень ранних стадиях беременности будет понятно, что у эмбриона будет достаточно сильная микроцефалия.
Для других аспектов, например для эпилепсии, если мы понимаем, какие нарушения молекулярных каскадов приводят к болезни, мы также можем влиять на эти каскады и разрабатывать варианты лечения.
— Насколько далеко от этого мы сейчас стоим?
— Я не футуролог и не берусь предсказывать. Наука развивается не равномерно, а скачками, и некоторые вещи предугадать невозможно. Например, CRISPR-Cas технология: за 3–4 года до первых работ трудно было предположить, что у нас будет такой легкодоступный способ редактирования генома. Так что — что будет возможно через 10 лет, предсказать трудно.
Иногда кажется, что мы вот-вот найдем способы, — но этого не происходит. Здесь можно привести пример из других областей, скажем, из регенеративной медицины: 10–15 лет назад мне казалось, что с помощью методов регенеративной медицины мы будем скоро выращивать искусственные хрящи и помогать людям с артрозом. Когда я видел доклады коллег по поводу того, как они прекрасно выращивают хрящ в пробирках, казалось: еще десятилетие, и мы сможем это инициировать в колене больного, и всё будет хорошо. Однако всё это до сих пор в зачаточной стадии.
— Над какими большими проектами вы сейчас работаете?
— Проекты, над которыми мы работаем последние 20 лет, можно объединить темой изучения молекулярно-генетических основ развития коры головного мозга. В частности, нас интересуют те аспекты, нарушение которых приводит к таким патологиям человека, как аутизм, задержка интеллектуального развития, слабоумие, эпилепсия. К тяжелым последствиям может приводить нарушение на любом из этапов развития — от стволовой клетки до полностью созревшего нейрона. И нас интересуют практически все эти аспекты, начиная от того, как стволовая клетка ведет себя, как она делится, как дифференцируется в конкретный тип нейронов и формирует связи с другими нейронами, и вплоть до формирования зрелой нервной системы. Мы хотим понять, какие гены контролируют эти процессы.
— Я думаю, что почти всё, что мы пытаемся понять о функции и развитии мозга, приближает нас к возможностям лечения. Приведу простой пример. Вот у нас есть мышиная модель аутизма. В ней инактивирован один ген — тот же, что мутирован и у пациентов с аутизмом, — и это приводит к тому, что у таких мышей на 30 % больше синапсов. Мы предположили, что этот эффект можно фармакологически корректировать и с помощью простого лекарства, кстати, уже широко используемого в качестве иммуносупрессора, блокировать возникновение избытка синапсов.
На мышах мы действительно сумели компенсировать мутацию этого гена с помощью этого лекарства так, чтобы количество синапсов снова возвращалось к норме. И если в другой подобной ситуации мы найдем аналогичную молекулу и в мышиной модели научимся с ее помощью блокировать лишние синапсы, то, возможно, это будет применимо и к человеку, потому что синаптогенез — формирование синапсов между нейронами — процесс долгий и начинающийся поздно.
Какие-то аспекты развития мы не можем корректировать: например, если стволовые клетки в эмбриогенезе перестали делиться и это привело к так называемой микроцефалии — маленькому и недоразвитому мозгу. Однако мы можем разрабатывать новые методы диагностики, с помощью которых на очень ранних стадиях беременности будет понятно, что у эмбриона будет достаточно сильная микроцефалия.
Для других аспектов, например для эпилепсии, если мы понимаем, какие нарушения молекулярных каскадов приводят к болезни, мы также можем влиять на эти каскады и разрабатывать варианты лечения.
— Насколько далеко от этого мы сейчас стоим?
— Я не футуролог и не берусь предсказывать. Наука развивается не равномерно, а скачками, и некоторые вещи предугадать невозможно. Например, CRISPR-Cas технология: за 3–4 года до первых работ трудно было предположить, что у нас будет такой легкодоступный способ редактирования генома. Так что — что будет возможно через 10 лет, предсказать трудно.
Иногда кажется, что мы вот-вот найдем способы, — но этого не происходит. Здесь можно привести пример из других областей, скажем, из регенеративной медицины: 10–15 лет назад мне казалось, что с помощью методов регенеративной медицины мы будем скоро выращивать искусственные хрящи и помогать людям с артрозом. Когда я видел доклады коллег по поводу того, как они прекрасно выращивают хрящ в пробирках, казалось: еще десятилетие, и мы сможем это инициировать в колене больного, и всё будет хорошо. Однако всё это до сих пор в зачаточной стадии.
— Над какими большими проектами вы сейчас работаете?
— Проекты, над которыми мы работаем последние 20 лет, можно объединить темой изучения молекулярно-генетических основ развития коры головного мозга. В частности, нас интересуют те аспекты, нарушение которых приводит к таким патологиям человека, как аутизм, задержка интеллектуального развития, слабоумие, эпилепсия. К тяжелым последствиям может приводить нарушение на любом из этапов развития — от стволовой клетки до полностью созревшего нейрона. И нас интересуют практически все эти аспекты, начиная от того, как стволовая клетка ведет себя, как она делится, как дифференцируется в конкретный тип нейронов и формирует связи с другими нейронами, и вплоть до формирования зрелой нервной системы. Мы хотим понять, какие гены контролируют эти процессы.
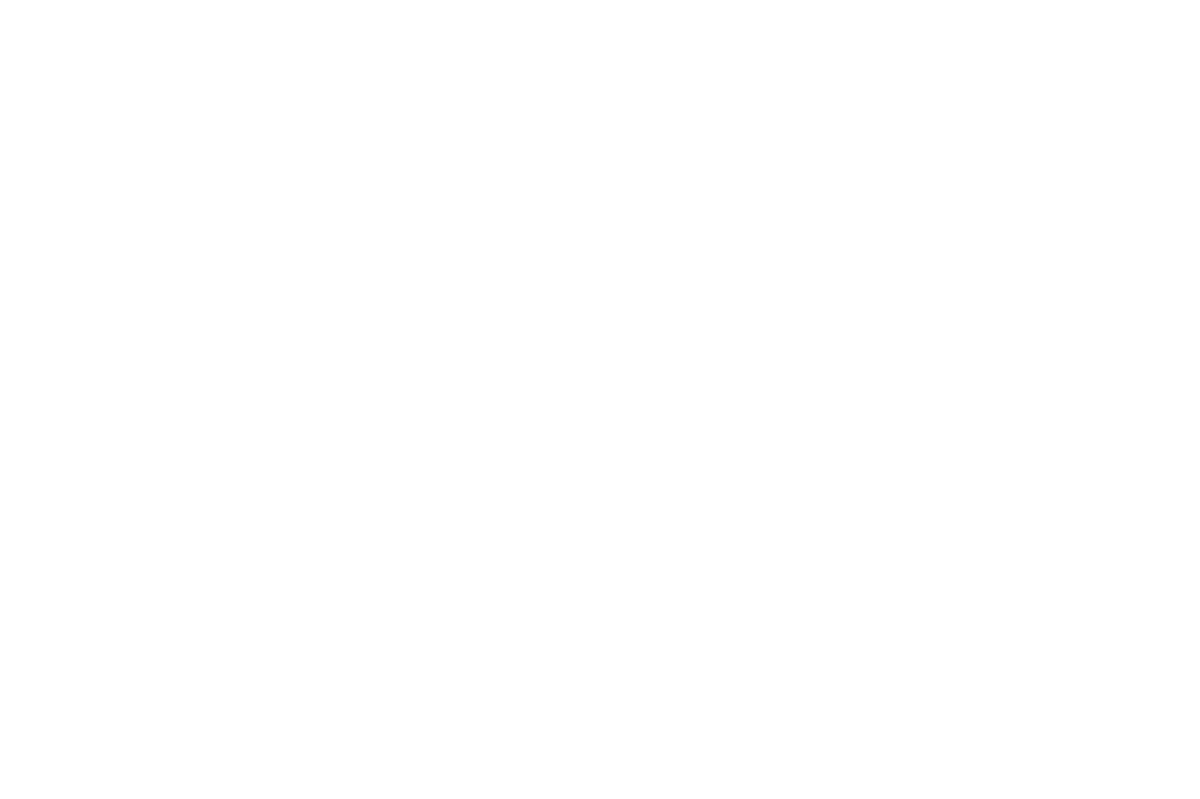
Фотограф: Aлёна Каплина/
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Лично у вас есть «горячие» вопросы, на которые вы бы хотели ответить?
— У меня есть несколько десятков любимых молекул, которые влияют на разные аспекты формирования коры головного мозга. И мне бы хотелось сложить мозаику, как они взаимодействуют и как из стволовой клетки получается зрелый нейрон, который знает, с какими нейронами ему формировать связи.
— По какому принципу вы выбираете свои любимые молекулы?
— В начале своей карьеры, когда я работал только с мышами, я выбирал их по принципу активности, экспрессии, принадлежности к определенным группам белков. Нас интересовали гены, которые активны на ключевых стадиях развития коры головного мозга. В первую очередь, это были транскрипционные факторы, поскольку именно они находятся на вершине каскада, который контролирует всё, что происходит в клетке.
Затем мы постепенно, после того как нашли транскрипционные факторы, определили, как они взаимодействуют друг с другом и к чему это приводит. Это было сделано методами обратной генетики: вы сначала находите ген и априори исходите из того, что он играет важную роль в процессе, который вы изучаете. Дальше вы его ломаете, пытаетесь починить, изучить происходящие после поломки в организме процессы и делаете выводы о его функциях.
В последние годы мы стали больше заниматься прямой генетикой. Мы начали с человека — у нас большой проект с Томским НИИ медицинской генетики, в котором есть база данных пациентов из более чем тысячи семей, у которых дети больны либо аутизмом, либо имеют дефекты развития вроде умственной отсталости, эпилепсии. Мы начинаем с того, что пытаемся найти у этих пациентов мутировавшие гены и далее воспроизвести эффект от их «поломки» на мышах либо на клеточном уровне с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека. Эта технология возникла около 15 лет назад, и сейчас мы можем выращивать миниорганоиды, что-то вроде «мини-мозга» в культуре, и изучать молекулярные каскады, которые там происходят. В наших проектах мы получаем искусственные органоиды мозга от этих пациентов, изучаем поломанные процессы и то, можно ли их починить.
— У меня есть несколько десятков любимых молекул, которые влияют на разные аспекты формирования коры головного мозга. И мне бы хотелось сложить мозаику, как они взаимодействуют и как из стволовой клетки получается зрелый нейрон, который знает, с какими нейронами ему формировать связи.
— По какому принципу вы выбираете свои любимые молекулы?
— В начале своей карьеры, когда я работал только с мышами, я выбирал их по принципу активности, экспрессии, принадлежности к определенным группам белков. Нас интересовали гены, которые активны на ключевых стадиях развития коры головного мозга. В первую очередь, это были транскрипционные факторы, поскольку именно они находятся на вершине каскада, который контролирует всё, что происходит в клетке.
Затем мы постепенно, после того как нашли транскрипционные факторы, определили, как они взаимодействуют друг с другом и к чему это приводит. Это было сделано методами обратной генетики: вы сначала находите ген и априори исходите из того, что он играет важную роль в процессе, который вы изучаете. Дальше вы его ломаете, пытаетесь починить, изучить происходящие после поломки в организме процессы и делаете выводы о его функциях.
В последние годы мы стали больше заниматься прямой генетикой. Мы начали с человека — у нас большой проект с Томским НИИ медицинской генетики, в котором есть база данных пациентов из более чем тысячи семей, у которых дети больны либо аутизмом, либо имеют дефекты развития вроде умственной отсталости, эпилепсии. Мы начинаем с того, что пытаемся найти у этих пациентов мутировавшие гены и далее воспроизвести эффект от их «поломки» на мышах либо на клеточном уровне с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека. Эта технология возникла около 15 лет назад, и сейчас мы можем выращивать миниорганоиды, что-то вроде «мини-мозга» в культуре, и изучать молекулярные каскады, которые там происходят. В наших проектах мы получаем искусственные органоиды мозга от этих пациентов, изучаем поломанные процессы и то, можно ли их починить.
— А почему вы переключились на такой подход? Он более эффективный?
— Не могу сказать, что я переключился, я бы сказал, что мы стали этот подход использовать в дополнение к нашим традиционным работам только с мышиными моделями. Во-первых, появились возможности: даже 10 лет назад в том же НИИ медицинской генетики не было такой базы пациентов — она появилась недавно. Кстати, такой прогресс был достигнут с помощью в том числе финансирования РНФ.
— Как вы ожидаете, в каком направлении ваша область будет развиваться дальше?
— Я бы описал это по аналогии с картой метро.
Когда человек приезжает в Москву в первый раз, он в основном ориентируется по станциям. Вышел он где-то на Парке Культуры и знает, как вокруг станции на 200 метров выглядит Москва. Потом он поехал на Краснопресненскую, погулял там. И вот, пока он ездит на метро, у него Москва — это набор лоскутов: он знает, как выглядит Москва вокруг станций, а полной картины нет. И я бы сравнил свою область с этим: ключевые узлы мы понимаем, но есть аспекты, которых мы не знаем. Они могут быть главными, но это пока неизвестно, потому что нас туда наука не заводила.
То, чего мы хотим и чего мы ожидаем в следующие 10–20 лет, — это сделать такую карту Москвы, карту мозга, в которой будут уже не только станции метро, но и дома и их адреса.
То есть чтобы мы понимали все молекулярные события, их взаимодействия между собой и то, к чему они приводят.
— Не могу сказать, что я переключился, я бы сказал, что мы стали этот подход использовать в дополнение к нашим традиционным работам только с мышиными моделями. Во-первых, появились возможности: даже 10 лет назад в том же НИИ медицинской генетики не было такой базы пациентов — она появилась недавно. Кстати, такой прогресс был достигнут с помощью в том числе финансирования РНФ.
— Как вы ожидаете, в каком направлении ваша область будет развиваться дальше?
— Я бы описал это по аналогии с картой метро.
Когда человек приезжает в Москву в первый раз, он в основном ориентируется по станциям. Вышел он где-то на Парке Культуры и знает, как вокруг станции на 200 метров выглядит Москва. Потом он поехал на Краснопресненскую, погулял там. И вот, пока он ездит на метро, у него Москва — это набор лоскутов: он знает, как выглядит Москва вокруг станций, а полной картины нет. И я бы сравнил свою область с этим: ключевые узлы мы понимаем, но есть аспекты, которых мы не знаем. Они могут быть главными, но это пока неизвестно, потому что нас туда наука не заводила.
То, чего мы хотим и чего мы ожидаем в следующие 10–20 лет, — это сделать такую карту Москвы, карту мозга, в которой будут уже не только станции метро, но и дома и их адреса.
То есть чтобы мы понимали все молекулярные события, их взаимодействия между собой и то, к чему они приводят.
Интервью впервые опубликовано на портале «Биомолекула» 30.11.2022
