РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Илья Тимофеев
Онкология без операции
Онкология без операции
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Илья Тимофеев
Онкология без операции
Онкология без операции
- Разговоро раке со всех сторон: что произвело революцию в его лечении в последние десятилетия, почему в будущем ситуация станет и лучше, и хуже, где баланс между терапией и хирургией и как говорить с пациентом о его диагнозе
- ГеройИлья Тимофеев, директор Бюро по изучению рака
- СобеседникМарина Аствацатурян, научный журналист
- Беседовалив январе 2022 г.
— Илья, расскажите о себе — где вы родились, учились, как пришли в онкологию?
— Я белорус, родился в городе Могилёве, закончил там школу и затем поступил на научный факультет Сеченовского университета в Москве. Это в то время был уникальный факультет, где образование шло индивидуально, — нас в группах было всего по пять человек, и мы учились именно с прицелом на будущее в науке. Я очень благодарен Сеченовскому университету за этот путь. Это был действительно уникальный проект, его сейчас, к сожалению, нет, но я очень надеюсь, что в будущем он появится. После окончания университета я поступил в аспирантуру по онкологии на базе онкоцентра Блохина, и примерно тогда же была создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Бюро по изучению рака почки». На тот момент это была первая в России негосударственная некоммерческая научно-исследовательская организация, сейчас она уже существует 15 лет. И на базе этого бюро мы делаем самые разные научные проекты, начиная от совершенно фундаментальных, когда мы ищем какой-то рецептор на клетке, заканчивая клиническими, когда мы изучаем эффективность иммунотерапии у пациентов.
— Вы также член международных научных обществ и организаций; как это вышло — благодаря публикациям или это личные контакты?
— Мое положение в международном научном сообществе связано только с научной активностью. У меня были и есть хорошие публикации. Меня сразу заметили в Ассоциации по изучению рака почки за исследование 2007 года, когда мы описали роль рецепторов фактора роста фибробластов в развитии этой опухоли. Меня пригласили сделать доклад, так я стал частью их сети. Эта работа для меня приоритетна, она проходит через всю мою жизнь, начиная от открытия этого рецептора для рака почки, а теперь — создания препаратов для борьбы с ним.
— Первый вопрос о раке — откуда он берется, как возникает. Есть теории о воздействии факторов окружающей среды, воздействии вирусов, опухолях как некоторых очагах эволюции. А для практикующих онкологов вообще важно происхождение рака?
— Это прекрасный вопрос, на которой нет единого ответа. Безусловно, все теории, что вы перечислили, имеют место быть. Вирусная теория уже абсолютно доказана. Мы точно знаем, что рак шейки матки развивается из-за вируса папилломы человека, поэтому простая мера профилактики — это вакцинация девочек и уже мальчиков, сейчас существуют даже однодозные вакцины. Также от вируса происходит рак печени — это вирус гепатита. Хотя тут связь опосредованная: он поселяется в клетках печени — гепатоцитах — и вызывает против себя иммунный ответ. То есть не он мутирует клетку, а иммунный ответ поражает ее.
Для некоторых видов рака определенно решающую роль играют факторы среды. Курение — это бич вообще ХХ века, и, конечно, с ним связан рак легкого. И это как раз ситуация, когда происхождение имеет значение в процессе терапии. Если больной раком легкого продолжает курить, риск неблагоприятного течения этой опухоли увеличивается, и онколог должен обратить на этот фактор развития внимание. Употребление алкоголя при раке пищевода, например, ассоциировано с неблагоприятной выживаемостью, и здесь также онколог может рекомендовать корректировать факторы, которые влияют на развитие опухоли.
— Я белорус, родился в городе Могилёве, закончил там школу и затем поступил на научный факультет Сеченовского университета в Москве. Это в то время был уникальный факультет, где образование шло индивидуально, — нас в группах было всего по пять человек, и мы учились именно с прицелом на будущее в науке. Я очень благодарен Сеченовскому университету за этот путь. Это был действительно уникальный проект, его сейчас, к сожалению, нет, но я очень надеюсь, что в будущем он появится. После окончания университета я поступил в аспирантуру по онкологии на базе онкоцентра Блохина, и примерно тогда же была создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Бюро по изучению рака почки». На тот момент это была первая в России негосударственная некоммерческая научно-исследовательская организация, сейчас она уже существует 15 лет. И на базе этого бюро мы делаем самые разные научные проекты, начиная от совершенно фундаментальных, когда мы ищем какой-то рецептор на клетке, заканчивая клиническими, когда мы изучаем эффективность иммунотерапии у пациентов.
— Вы также член международных научных обществ и организаций; как это вышло — благодаря публикациям или это личные контакты?
— Мое положение в международном научном сообществе связано только с научной активностью. У меня были и есть хорошие публикации. Меня сразу заметили в Ассоциации по изучению рака почки за исследование 2007 года, когда мы описали роль рецепторов фактора роста фибробластов в развитии этой опухоли. Меня пригласили сделать доклад, так я стал частью их сети. Эта работа для меня приоритетна, она проходит через всю мою жизнь, начиная от открытия этого рецептора для рака почки, а теперь — создания препаратов для борьбы с ним.
— Первый вопрос о раке — откуда он берется, как возникает. Есть теории о воздействии факторов окружающей среды, воздействии вирусов, опухолях как некоторых очагах эволюции. А для практикующих онкологов вообще важно происхождение рака?
— Это прекрасный вопрос, на которой нет единого ответа. Безусловно, все теории, что вы перечислили, имеют место быть. Вирусная теория уже абсолютно доказана. Мы точно знаем, что рак шейки матки развивается из-за вируса папилломы человека, поэтому простая мера профилактики — это вакцинация девочек и уже мальчиков, сейчас существуют даже однодозные вакцины. Также от вируса происходит рак печени — это вирус гепатита. Хотя тут связь опосредованная: он поселяется в клетках печени — гепатоцитах — и вызывает против себя иммунный ответ. То есть не он мутирует клетку, а иммунный ответ поражает ее.
Для некоторых видов рака определенно решающую роль играют факторы среды. Курение — это бич вообще ХХ века, и, конечно, с ним связан рак легкого. И это как раз ситуация, когда происхождение имеет значение в процессе терапии. Если больной раком легкого продолжает курить, риск неблагоприятного течения этой опухоли увеличивается, и онколог должен обратить на этот фактор развития внимание. Употребление алкоголя при раке пищевода, например, ассоциировано с неблагоприятной выживаемостью, и здесь также онколог может рекомендовать корректировать факторы, которые влияют на развитие опухоли.
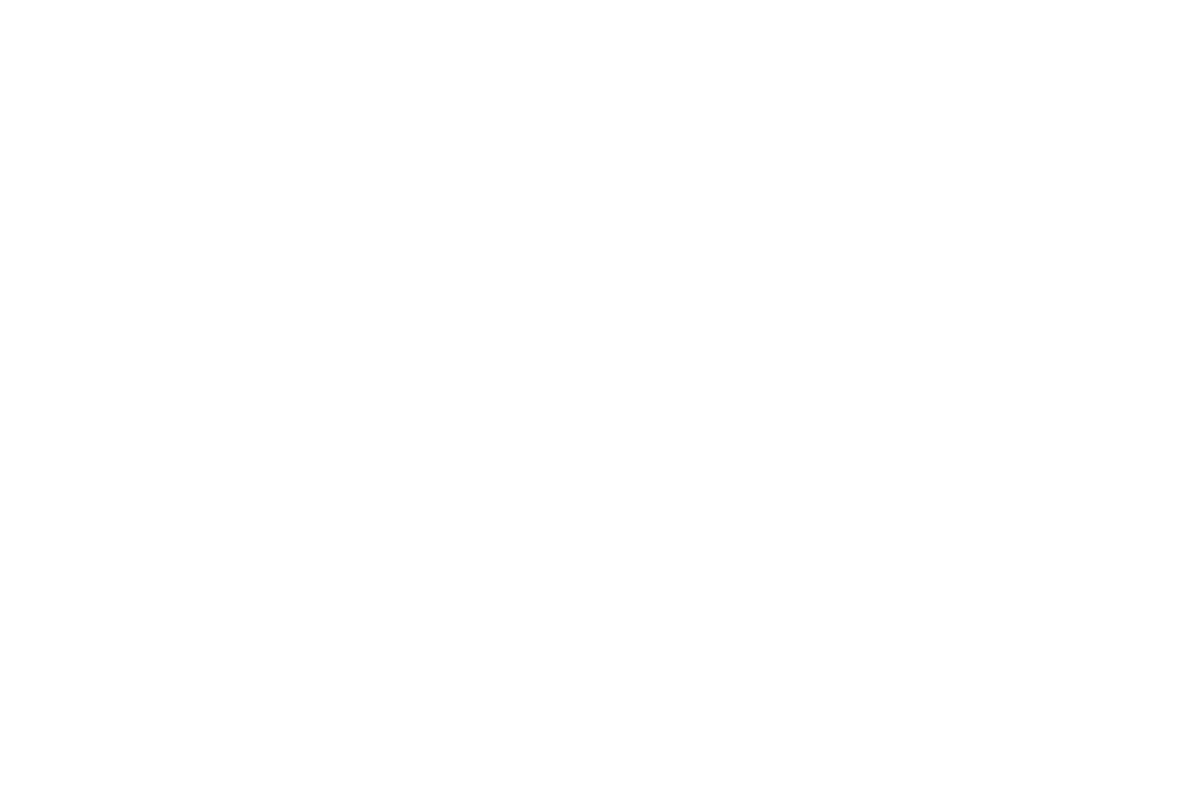
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Одна из ваших высокоцитируемых публикаций — от 2014 года в журнале Lancet Oncology — посвящена проблеме роста заболеваемости раком в Китае, в Индии и в России. На тот момент она была в два раза выше, чем в США и Великобритании. Чем были обусловлены эти высокие показатели и изменилась ли ситуация за эти 7 лет?
— Нужно учесть, что подготовка исследования занимает какое-то время, поэтому использованные данные были собраны еще раньше. На тот момент эпидемиология в США и в России очень сильно различалась. Но сейчас могу сказать, что США и Россия очень стали похожи по всем тенденциям. Бюро по изучению рака провело собственные исследования прогноза заболеваемости и смертности от рака в 2035 году. Мы привлекли статистика, который делал точно такое же прогностическое исследование в США (это Лола Рахиб, она известна в профессиональных кругах и делала для Национального института рака США подобное исследование). И мы увидели, что тренды теперь абсолютно одинаковые. Россия подтянулась по экономическому влиянию на те же факторы курения — курение пошло на спад, и этого оказалось достаточно, чтоб топ-5 самых частых опухолей стал очень похожим в США и в России.
— А в Китае и Индии?
— За Китаем и Индией мы не следили. У них со статистикой немного сложнее, скажем так. И там есть свои особенности. В Азии преобладает рак желудка. Если берем Индию — это опухоли головы и шеи, это всё отличается от России, с ее европейской когортой пациентов.
— Вернемся к России. Получается, ее тренды позитивны?
— Разнонаправлены. Курение — это хорошая новость. А плохая новость заключается в России в том, что количество заболевших всеми видами рака будет увеличиваться. И оно увеличится через 15 лет на 13 %. Это связано со старением населения и его увеличением. Людей становится больше, и они становятся старше. Соответственно, мутации в клетках, о которых мы немножко поговорили, случаются чаще у пожилых, и вероятность развития онкологических заболеваний больше. Но хорошая новость заключается в том, что смертность снизится через 15 лет на 20 %. Соответственно, число больных будет больше, но умирать от рака будут меньше. Это, конечно же, прогноз, могут вмешаться различные факторы, но тенденция положительная.
— Смертность, вероятно, уменьшится в результате развития новых методов лечения? Иммунотерапия, таргетная терапия, терапия ингибиторами контрольных точек на слуху — расскажите о них.
— Это разные виды лекарственного лечения. В онкологии, если говорим о лекарственном лечении, существует несколько видов. Химиотерапия, которую мы знаем дольше всего, — это метод, который направлен не нацеленно на опухоль. Мы бьем по опухоли токсическим агентом, но он токсичен и для всех окружающих тканей, для того, до чего он дотягивается. Таргетная терапия — это прицельное подведение блокирующего препарата к определенному рецептору, который отвечает за развитие опухоли. Иммунотерапия — это метод, который направлен не на саму опухоль, а на нашу здоровую иммунную систему. Ее активность у онкологических пациентов снижена, так как существуют супрессорные механизмы — факторы, подавляющие активность иммунной системы. А иммунотерапия ее «пробуждает» и направляет против раковых клеток. Ингибиторы контрольных точек — это новые представители иммунной терапии. Это просто так называют препараты — ингибиторы контрольных точек. Они направляют иммунную систему, чтоб она определила на опухолевой клетке какие-то антигены и убила ее.
— Нужно учесть, что подготовка исследования занимает какое-то время, поэтому использованные данные были собраны еще раньше. На тот момент эпидемиология в США и в России очень сильно различалась. Но сейчас могу сказать, что США и Россия очень стали похожи по всем тенденциям. Бюро по изучению рака провело собственные исследования прогноза заболеваемости и смертности от рака в 2035 году. Мы привлекли статистика, который делал точно такое же прогностическое исследование в США (это Лола Рахиб, она известна в профессиональных кругах и делала для Национального института рака США подобное исследование). И мы увидели, что тренды теперь абсолютно одинаковые. Россия подтянулась по экономическому влиянию на те же факторы курения — курение пошло на спад, и этого оказалось достаточно, чтоб топ-5 самых частых опухолей стал очень похожим в США и в России.
— А в Китае и Индии?
— За Китаем и Индией мы не следили. У них со статистикой немного сложнее, скажем так. И там есть свои особенности. В Азии преобладает рак желудка. Если берем Индию — это опухоли головы и шеи, это всё отличается от России, с ее европейской когортой пациентов.
— Вернемся к России. Получается, ее тренды позитивны?
— Разнонаправлены. Курение — это хорошая новость. А плохая новость заключается в России в том, что количество заболевших всеми видами рака будет увеличиваться. И оно увеличится через 15 лет на 13 %. Это связано со старением населения и его увеличением. Людей становится больше, и они становятся старше. Соответственно, мутации в клетках, о которых мы немножко поговорили, случаются чаще у пожилых, и вероятность развития онкологических заболеваний больше. Но хорошая новость заключается в том, что смертность снизится через 15 лет на 20 %. Соответственно, число больных будет больше, но умирать от рака будут меньше. Это, конечно же, прогноз, могут вмешаться различные факторы, но тенденция положительная.
— Смертность, вероятно, уменьшится в результате развития новых методов лечения? Иммунотерапия, таргетная терапия, терапия ингибиторами контрольных точек на слуху — расскажите о них.
— Это разные виды лекарственного лечения. В онкологии, если говорим о лекарственном лечении, существует несколько видов. Химиотерапия, которую мы знаем дольше всего, — это метод, который направлен не нацеленно на опухоль. Мы бьем по опухоли токсическим агентом, но он токсичен и для всех окружающих тканей, для того, до чего он дотягивается. Таргетная терапия — это прицельное подведение блокирующего препарата к определенному рецептору, который отвечает за развитие опухоли. Иммунотерапия — это метод, который направлен не на саму опухоль, а на нашу здоровую иммунную систему. Ее активность у онкологических пациентов снижена, так как существуют супрессорные механизмы — факторы, подавляющие активность иммунной системы. А иммунотерапия ее «пробуждает» и направляет против раковых клеток. Ингибиторы контрольных точек — это новые представители иммунной терапии. Это просто так называют препараты — ингибиторы контрольных точек. Они направляют иммунную систему, чтоб она определила на опухолевой клетке какие-то антигены и убила ее.
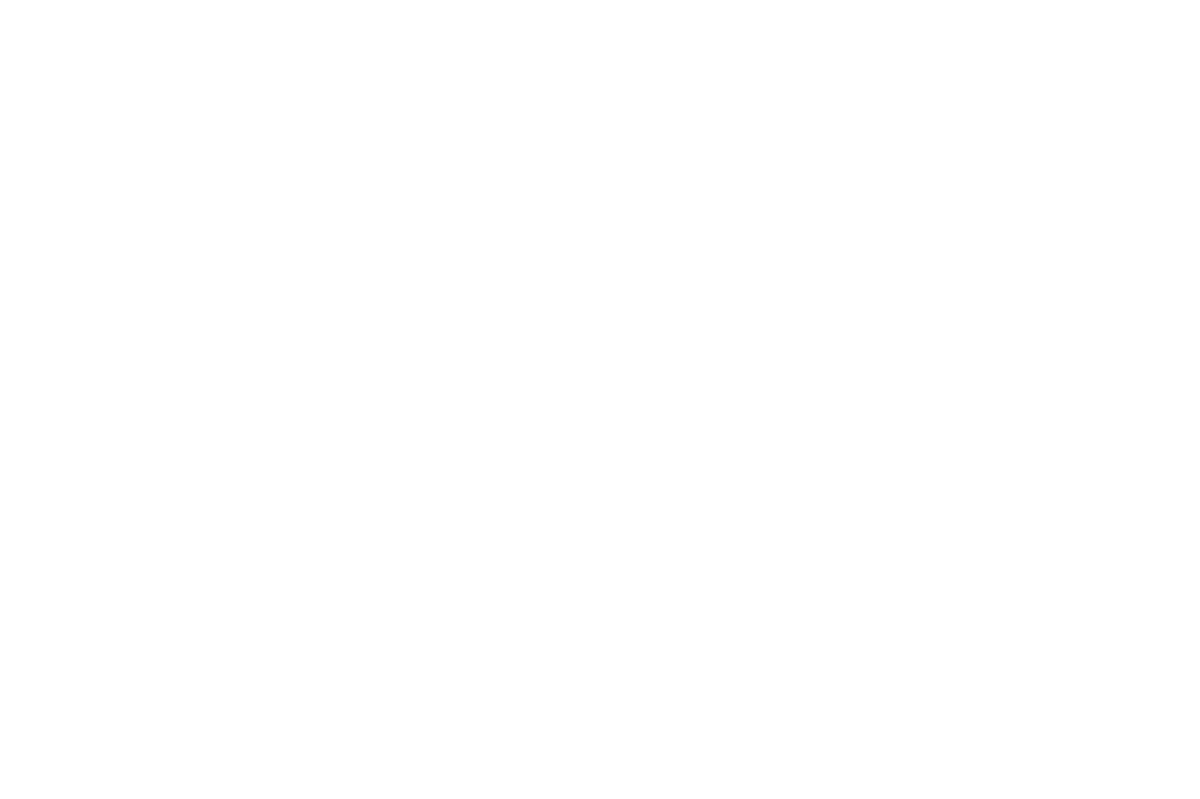
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Кажется, нужно сделать шаг назад. Вообще, какова роль иммунной системы в развитии рака?
— Это правильный вопрос. У всех нас есть противоопухолевые природные механизмы, которые борются с раком. У каждого человека за жизненный цикл образуется миллион опухолевых клеток. Но не все мы болеем раком, потому что иммунная система наша поражает их. У онкологических пациентов она не может справиться, и ей можно помочь применением иммунотерапии.
— Насколько это уже реальная клиническая практика? Когда в 2018-м японцу Тасуку Хондзё и Джеймсу Эллисону вручали Нобелевскую премию за терапию ингибиторами контрольных точек, речь шла о трех-четырех препаратах.
— У меня с этим связана личная история. Я помню тот момент, когда Эллисон представлял свои данные на онкологическом конгрессе Американской ассоциации по изучению рака, это был 2007 или 2008 год. Это был огромный холл, на пять тысяч человек, весь зал встал и стал аплодировать. То есть было сразу понятно, что это нечто революционное.
С тех пор, конечно, прогресс огромный — много новых ингибиторов контрольных точек, они ингибируют разные контрольные точки либо более специфичны к одной и той же точке. Если мы посмотрим на все моноклональные антитела в медицине, то онкологические антитела, а именно ингибиторы контрольных точек, занимают 2-ю и 3-ю строчку по наибольшему распространению. Только за прошлый, 2021 год для двух первых ингибиторов появилось 13 новых показаний. Что такое 13 показаний? Это условно 13 новых опухолей, которые мы можем лечить. Для рака желудка, например, существовала только химиотерапия, а теперь зарегистрирован ингибитор контрольных точек.
Важно то, что, в отличие от иммунотерапии предыдущих поколений, контрольные точки теоретически есть возможность применять при всех опухолях, которые сейчас существуют, с той или другой долей успеха. Успешным применение иммунотерапии сейчас считается для рака легкого, меланомы, рака почки. Опухоли желудочно-кишечного тракта считались самыми сложными, а теперь и они уже не неизлечимы, а лечатся иммуннотерапией. Это рак желудка, пищевода, рак толстой кишки. Гормональные опухоли плохо всегда поддавались иммунотерапии — это рак молочной железы и рак предстательной железы. Но сейчас уже открыли определенные формы, например, тройной негативный рак молочной железы, который чувствителен к иммунотерапии. Соответственно, сейчас практически все опухоли в определенном показании чувствительны к иммунотерапии. Тут будущее, как я его вижу, радужно.
— А что с другими подходами? Некоторое время назад большие надежды возлагали на ингибиторы ангиогенеза, гормонотерапию…
— Действительно, первая революция последних десятилетий была связана как раз с ангиогенезом. Это таргетная терапия, когда мы влияем на фактор роста сосудов либо на рецепторы или белки в опухолевой клетке. Мы не даем кровеносным сосудам прорастать в опухоли и, таким образом, не даем ей получать снабжение для жизни и роста. Тогда для того же рака почки с помощью таргетной терапии ингибиторами ангиогенеза мы смогли увеличить выживаемость. Когда я начинал эту работу, пациент жил с метастатическим раком почки всего 4–6 месяцев, а сейчас пациент живет годами — мы уже считаем 5-летний показатель эффективности этих препаратов. Но сейчас мы пошли дальше, разрабатываются комбинации таргетной терапии и иммунотерапии. Логично скомбинировать этот хороший препарат с ингибитором контрольных точек. К чему это привело? Опять же пример, возьму рак почки — эффективность терапии увеличилась до 70 %. То есть у 70 % больных опухоль будет уменьшаться, а раньше мы не могли и 10 % достичь. Вот что дает комбинация таргетной терапии и иммунотерапии.
— Это правильный вопрос. У всех нас есть противоопухолевые природные механизмы, которые борются с раком. У каждого человека за жизненный цикл образуется миллион опухолевых клеток. Но не все мы болеем раком, потому что иммунная система наша поражает их. У онкологических пациентов она не может справиться, и ей можно помочь применением иммунотерапии.
— Насколько это уже реальная клиническая практика? Когда в 2018-м японцу Тасуку Хондзё и Джеймсу Эллисону вручали Нобелевскую премию за терапию ингибиторами контрольных точек, речь шла о трех-четырех препаратах.
— У меня с этим связана личная история. Я помню тот момент, когда Эллисон представлял свои данные на онкологическом конгрессе Американской ассоциации по изучению рака, это был 2007 или 2008 год. Это был огромный холл, на пять тысяч человек, весь зал встал и стал аплодировать. То есть было сразу понятно, что это нечто революционное.
С тех пор, конечно, прогресс огромный — много новых ингибиторов контрольных точек, они ингибируют разные контрольные точки либо более специфичны к одной и той же точке. Если мы посмотрим на все моноклональные антитела в медицине, то онкологические антитела, а именно ингибиторы контрольных точек, занимают 2-ю и 3-ю строчку по наибольшему распространению. Только за прошлый, 2021 год для двух первых ингибиторов появилось 13 новых показаний. Что такое 13 показаний? Это условно 13 новых опухолей, которые мы можем лечить. Для рака желудка, например, существовала только химиотерапия, а теперь зарегистрирован ингибитор контрольных точек.
Важно то, что, в отличие от иммунотерапии предыдущих поколений, контрольные точки теоретически есть возможность применять при всех опухолях, которые сейчас существуют, с той или другой долей успеха. Успешным применение иммунотерапии сейчас считается для рака легкого, меланомы, рака почки. Опухоли желудочно-кишечного тракта считались самыми сложными, а теперь и они уже не неизлечимы, а лечатся иммуннотерапией. Это рак желудка, пищевода, рак толстой кишки. Гормональные опухоли плохо всегда поддавались иммунотерапии — это рак молочной железы и рак предстательной железы. Но сейчас уже открыли определенные формы, например, тройной негативный рак молочной железы, который чувствителен к иммунотерапии. Соответственно, сейчас практически все опухоли в определенном показании чувствительны к иммунотерапии. Тут будущее, как я его вижу, радужно.
— А что с другими подходами? Некоторое время назад большие надежды возлагали на ингибиторы ангиогенеза, гормонотерапию…
— Действительно, первая революция последних десятилетий была связана как раз с ангиогенезом. Это таргетная терапия, когда мы влияем на фактор роста сосудов либо на рецепторы или белки в опухолевой клетке. Мы не даем кровеносным сосудам прорастать в опухоли и, таким образом, не даем ей получать снабжение для жизни и роста. Тогда для того же рака почки с помощью таргетной терапии ингибиторами ангиогенеза мы смогли увеличить выживаемость. Когда я начинал эту работу, пациент жил с метастатическим раком почки всего 4–6 месяцев, а сейчас пациент живет годами — мы уже считаем 5-летний показатель эффективности этих препаратов. Но сейчас мы пошли дальше, разрабатываются комбинации таргетной терапии и иммунотерапии. Логично скомбинировать этот хороший препарат с ингибитором контрольных точек. К чему это привело? Опять же пример, возьму рак почки — эффективность терапии увеличилась до 70 %. То есть у 70 % больных опухоль будет уменьшаться, а раньше мы не могли и 10 % достичь. Вот что дает комбинация таргетной терапии и иммунотерапии.
— Тем не менее по поводу таргетной терапии был пессимизм из-за того, что опухоли мутируют и мишень может просто исчезнуть, правильно?
— Безусловно, такая проблема есть. Как мы уже говорили, опухолевая клетка бесконечно изменяется. Появляются новые мутации, в том числе которые делают ее нечувствительной к препарату таргетной терапии. Но прогресс не стоит на месте, тут же начинается разработка препаратов таргетной терапии новых классов, которые будут работать уже при этой мутации. Хороший пример — рак легкого. Изначально мы знали о двух основных мутациях в гене EGFR в клетках рака легкого. И появились препараты первого поколения, ингибиторы EGFR. Но затем опухолевая клетка стала вырабатывать мутацию резистентности Т790М — и тут же появился препарат третьего класса, блокирующий эту мутацию. Соответственно, у нас есть теперь так называемые линии терапии — 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, — которые мы можем последовательно назначать либо сразу выбирать нужную. Это эволюция таргетной терапии.
— В целом можно сказать, что средства биотерапии — в противовес химиотерапии — революционизировали онкологию, переломили ситуацию?
— Для большинства опухолей — да, мы можем так сказать. Но есть опухоли, которые мы еще не можем победить, например рак поджелудочной железы. Согласно нашему прогнозу заболеваемость будет увеличиваться, и смертность, в отличие, например, от того же рака легкого, будет увеличиваться. У этой опухоли очень печальная статистика, пятилетняя продолжительность жизни, включая даже ранние стадии, составляет 10 %. То есть только 10 % больных смогут прожить 5 лет и более — а для рака почки этот показатель 74 %. Разница есть. Но и для рака поджелудочной железы ведется поиск новых опций, включая таргетную терапию нового поколения. У некоторых пациентов есть так называемая мутация в гене BRCA (мы еще раньше знали для больных раком яичников, молочной железы, предстательной железы). И теперь препараты, блокирующие этот механизм, изучаются и для поджелудочной железы уже зарегистрированы. Хочется отметить, что, если мы говорим про поджелудочную железу, огромная роль в развитии терапии принадлежит самим пациентам. Например, пациентский фонд PanCAN стимулирует исследования в данной области. До его образования для рака поджелудочной железы было одно только исследование на весь мир, а сейчас ведется порядка 100 исследований. Пациенты могут сами быть двигателями этого прогресса.
— Есть ли противопоказания для использования передовых методов? Для хирургии, если область достижима для скальпеля хирурга, то противопоказаний, наверное, нет, а для иммунотерапии?
— Безусловно, противопоказания есть. Но количество пациентов, кому нельзя ее применять, очень невелико. Для иммунотерапии это аутоиммунные болезни — если у пациента собственный иммунитет и так сильно активирован. Это могут быть сильные аллергии, болезнь Крона, рассеянный склероз. В таком случае, если мы применим иммунотерапию, мы можем навредить скорее, чем вылечим опухоль, потому что она стимулирует собственный иммунитет, а он и так уже гиперактивен.
Если мы берем таргетную терапию, которая влияет на ангиогенез, то ее нежелательные побочные эффект — это гипертензия, повышение артериального давления, ведь она поражает сосуды.
Соответственно, мы не можем лечить гипертоников, у которых и без этого высокое давление. Но индивидуально мы что-то всё равно можем сделать, подобрать дозы и применять даже у таких пациентов. Например, сейчас уже можно использовать иммунотерапию у пациентов с псориазом — а это тоже аутоиммунная болезнь. Сейчас можно, контролируя псориаз, использовать иммунотерапию.
— Безусловно, такая проблема есть. Как мы уже говорили, опухолевая клетка бесконечно изменяется. Появляются новые мутации, в том числе которые делают ее нечувствительной к препарату таргетной терапии. Но прогресс не стоит на месте, тут же начинается разработка препаратов таргетной терапии новых классов, которые будут работать уже при этой мутации. Хороший пример — рак легкого. Изначально мы знали о двух основных мутациях в гене EGFR в клетках рака легкого. И появились препараты первого поколения, ингибиторы EGFR. Но затем опухолевая клетка стала вырабатывать мутацию резистентности Т790М — и тут же появился препарат третьего класса, блокирующий эту мутацию. Соответственно, у нас есть теперь так называемые линии терапии — 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, — которые мы можем последовательно назначать либо сразу выбирать нужную. Это эволюция таргетной терапии.
— В целом можно сказать, что средства биотерапии — в противовес химиотерапии — революционизировали онкологию, переломили ситуацию?
— Для большинства опухолей — да, мы можем так сказать. Но есть опухоли, которые мы еще не можем победить, например рак поджелудочной железы. Согласно нашему прогнозу заболеваемость будет увеличиваться, и смертность, в отличие, например, от того же рака легкого, будет увеличиваться. У этой опухоли очень печальная статистика, пятилетняя продолжительность жизни, включая даже ранние стадии, составляет 10 %. То есть только 10 % больных смогут прожить 5 лет и более — а для рака почки этот показатель 74 %. Разница есть. Но и для рака поджелудочной железы ведется поиск новых опций, включая таргетную терапию нового поколения. У некоторых пациентов есть так называемая мутация в гене BRCA (мы еще раньше знали для больных раком яичников, молочной железы, предстательной железы). И теперь препараты, блокирующие этот механизм, изучаются и для поджелудочной железы уже зарегистрированы. Хочется отметить, что, если мы говорим про поджелудочную железу, огромная роль в развитии терапии принадлежит самим пациентам. Например, пациентский фонд PanCAN стимулирует исследования в данной области. До его образования для рака поджелудочной железы было одно только исследование на весь мир, а сейчас ведется порядка 100 исследований. Пациенты могут сами быть двигателями этого прогресса.
— Есть ли противопоказания для использования передовых методов? Для хирургии, если область достижима для скальпеля хирурга, то противопоказаний, наверное, нет, а для иммунотерапии?
— Безусловно, противопоказания есть. Но количество пациентов, кому нельзя ее применять, очень невелико. Для иммунотерапии это аутоиммунные болезни — если у пациента собственный иммунитет и так сильно активирован. Это могут быть сильные аллергии, болезнь Крона, рассеянный склероз. В таком случае, если мы применим иммунотерапию, мы можем навредить скорее, чем вылечим опухоль, потому что она стимулирует собственный иммунитет, а он и так уже гиперактивен.
Если мы берем таргетную терапию, которая влияет на ангиогенез, то ее нежелательные побочные эффект — это гипертензия, повышение артериального давления, ведь она поражает сосуды.
Соответственно, мы не можем лечить гипертоников, у которых и без этого высокое давление. Но индивидуально мы что-то всё равно можем сделать, подобрать дозы и применять даже у таких пациентов. Например, сейчас уже можно использовать иммунотерапию у пациентов с псориазом — а это тоже аутоиммунная болезнь. Сейчас можно, контролируя псориаз, использовать иммунотерапию.
— Как бы вы оценили состояние России по разработке инновационных препаратов от рака по шкале от 1 до 10?
— Интересный вопрос. Конечно, я не анализировал эти данные, но навскидку могу сказать, что это 2 из 10.
— Хорошо хоть не 1.
— Совсем мало таких препаратов, в основном они еще в разработке. Но это нормально, что препараты в разработке, еще не вышли на рынок. Ведь всё началось не так давно, когда образовалось Сколково, — это был уникальный, на мой взгляд, механизм инициации компаний, исследований, развития новых препаратов, но прошло совсем немного времени. Цикл развития одного препарата, изучение составляет минимум 10 лет, соответственно, мы еще только посередине пути. Но такие препараты уже появляются. Первый российский таргетный препарат, о котором мы говорили, сейчас вошел в клинические исследования, доказав свою эффективность в доклинических исследованиях. Это иммунотерапия российской компании, крупной компании, зарегистрированной в России, — то есть у нас официально появился первый именно российский ингибитор контрольной точки, который прошел этот путь. Сейчас есть и другие препараты, которые изучаются, но им нужно время.
— Интересный вопрос. Конечно, я не анализировал эти данные, но навскидку могу сказать, что это 2 из 10.
— Хорошо хоть не 1.
— Совсем мало таких препаратов, в основном они еще в разработке. Но это нормально, что препараты в разработке, еще не вышли на рынок. Ведь всё началось не так давно, когда образовалось Сколково, — это был уникальный, на мой взгляд, механизм инициации компаний, исследований, развития новых препаратов, но прошло совсем немного времени. Цикл развития одного препарата, изучение составляет минимум 10 лет, соответственно, мы еще только посередине пути. Но такие препараты уже появляются. Первый российский таргетный препарат, о котором мы говорили, сейчас вошел в клинические исследования, доказав свою эффективность в доклинических исследованиях. Это иммунотерапия российской компании, крупной компании, зарегистрированной в России, — то есть у нас официально появился первый именно российский ингибитор контрольной точки, который прошел этот путь. Сейчас есть и другие препараты, которые изучаются, но им нужно время.
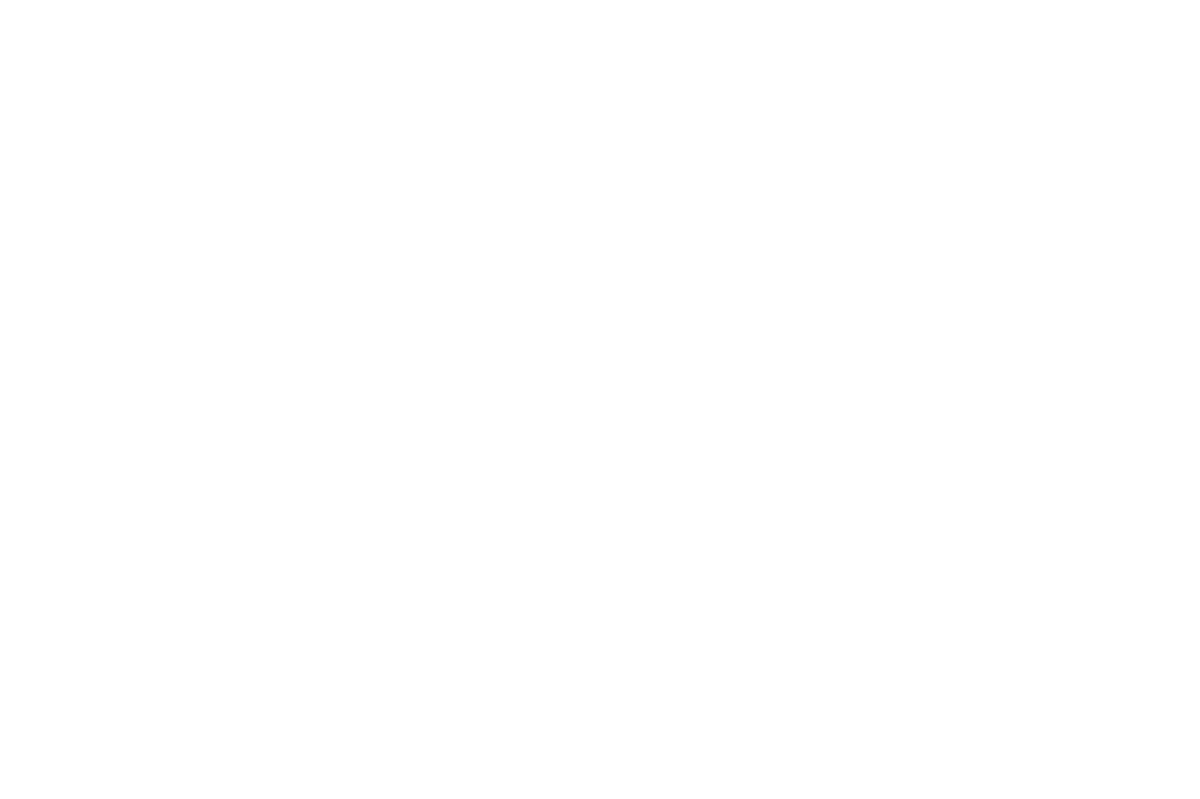
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— А есть ли у этих препаратов перспектива, пусть отдаленная, быть зарегистрированными на Западе, условной FDA?
— Я думаю, что да, — и чем дальше мы идем, набираемся опыта в этой новой для нас сфере, если я говорю об онкологии только сейчас, — этот опыт приведет к тому, что наши препараты будут зарегистрированы в других странах, я в этом уверен. Я вижу, какие подходы у российской Big Pharma к проведению исследований и как они меняются. Если раньше это были такие, скажем, российские исследования, то сейчас их уровень приближен к международным. Они вовлекают в свои экспертные советы лучших онкологов Европы — это точно я знаю. Привлекаются аудиты экспертных обществ, например, исследования в области онкогинекологии. Одна из очень авторитетных в онкологии европейских организаций, ENGOT, регулирует российское исследование, оставляет свои комментарии, замечания — то есть мы приближаемся к этому уровню.
— Я думаю, что да, — и чем дальше мы идем, набираемся опыта в этой новой для нас сфере, если я говорю об онкологии только сейчас, — этот опыт приведет к тому, что наши препараты будут зарегистрированы в других странах, я в этом уверен. Я вижу, какие подходы у российской Big Pharma к проведению исследований и как они меняются. Если раньше это были такие, скажем, российские исследования, то сейчас их уровень приближен к международным. Они вовлекают в свои экспертные советы лучших онкологов Европы — это точно я знаю. Привлекаются аудиты экспертных обществ, например, исследования в области онкогинекологии. Одна из очень авторитетных в онкологии европейских организаций, ENGOT, регулирует российское исследование, оставляет свои комментарии, замечания — то есть мы приближаемся к этому уровню.
— Мы довольно полно поговорили о терапии, но ведь в раке профилактика не менее важна?
— Несомненно, профилактика — это очень важный момент в онкологии. Не онкологи в России, да и во всём мире, занимаются профилактикой, а как раз врачи первичного звена, которые встречаются с условно здоровыми людьми и должны им объяснить, что делать, чтобы опухоль не развилась. Профилактика существенно влияет на заболеваемость и в итоге на смертность. Конкретные примеры — рак легкого. Профилактика курения в Финляндии, когда-то одной из самых курящих стран в мире, привела к 80 % снижению заболеваемости раком легкого. Объяснить — вроде бы простая мера, но она работает.
— Давайте как раз на примере рака легкого. Есть такие представления в народе, что неважно, когда ты бросил курить, — раз ты курил, то заболеешь раком с большей вероятностью. Это верно — или нужно оценивать стаж курильщика, возраст?
— Для оценки рисков возникновения рака легкого важно, сколько человек курил и в каком возрасте он находится. Исходя из этого ему назначаются или не назначаются дополнительные обследования. Например, у курильщиков, которые бросили менее 10 лет назад и достигли 50-летнего возраста, в США выполняют компьютерную томографию легких, дабы поймать момент, когда образовалась опухоль. Если человек бросил курить больше 20 лет назад, то уже риски минимальны, ему такое обследование не надо проводить.
Соответственно, это влияет на выбор ранней диагностики. То же самое у женщин с маммографией. Если есть наследственный анамнез или какие-то образования в молочной железе, мы посылаем на маммографию.
Но именно для профилактики — никому не надо курить, я бы так сказал. И я также призываю вакцинироваться от вируса папилломы человека — в данном случае речь идет о детях, девочках и мальчиках. В календаре прививок некоторых стран это уже есть, но в России нет, поэтому делайте их самостоятельно. Это существенно снизит риск развития рака шейки матки, на этот счет есть всё более и более надежные данные. По нашим прогнозам, Бюро по изучению рака, рак шейки матки войдет в топ-5 опухолей у женщин в 2035 году. Если мы будем вакцинироваться, мы будем этот риск снижать, но не к 2035 году. Мы должны понимать, что все меры профилактики и ранней диагностики — это всё меры длительного влияния. То есть эффект мы получим через 20–30 лет, соответственно, это надо делать уже сейчас. Алкоголь в умеренных дозах, если мы говорим о циррозах, о раках печени. ASCO, Американское сообщество клинических онкологов, выпустило недавно рекомендации на это тему: безопасно употреблять бокал вина для женщин в день либо два бокала для мужчины в день (пропорции в виде водки можно посчитать). Выше этих норм — уже риски рака печени, пищевода и опухолей ЖКТ в целом.
Конечно, надо вакцинироваться от гепатита В, это есть уже в календарях прививок многих стран. Если мы говорим про гепатит С, который как раз приводит к раку печени в основном, то его надо не профилактировать, а лечить, он излечивается в 96–99 % случаев.
— Но его прежде надо выявить, он не всегда же проявляется?
— Тут хочу отметить, что Россия — на передовых позициях. При госпитализациях, диспансерных наблюдениях у нас обязательно делают три анализа — ВИЧ, гепатиты и сифилис. Они обычно делаются всем — то есть мы знаем, сколько больных у нас с гепатитом живет. Конечно, тут должно «повезти» — вы должны попасть в больницу. Но если мы возьмем другие страны, там даже на стадии госпитализации или диспансерного наблюдения нет обязательного тестирования. Еще одно простое направление профилактики — борьба с ожирением. Например, рак почки ассоциирован с двумя факторами: это курение и ожирение — они вообще являются негативным фактором для большинства опухолей. Рак молочной железы тоже связан с ожирением.
— Несомненно, профилактика — это очень важный момент в онкологии. Не онкологи в России, да и во всём мире, занимаются профилактикой, а как раз врачи первичного звена, которые встречаются с условно здоровыми людьми и должны им объяснить, что делать, чтобы опухоль не развилась. Профилактика существенно влияет на заболеваемость и в итоге на смертность. Конкретные примеры — рак легкого. Профилактика курения в Финляндии, когда-то одной из самых курящих стран в мире, привела к 80 % снижению заболеваемости раком легкого. Объяснить — вроде бы простая мера, но она работает.
— Давайте как раз на примере рака легкого. Есть такие представления в народе, что неважно, когда ты бросил курить, — раз ты курил, то заболеешь раком с большей вероятностью. Это верно — или нужно оценивать стаж курильщика, возраст?
— Для оценки рисков возникновения рака легкого важно, сколько человек курил и в каком возрасте он находится. Исходя из этого ему назначаются или не назначаются дополнительные обследования. Например, у курильщиков, которые бросили менее 10 лет назад и достигли 50-летнего возраста, в США выполняют компьютерную томографию легких, дабы поймать момент, когда образовалась опухоль. Если человек бросил курить больше 20 лет назад, то уже риски минимальны, ему такое обследование не надо проводить.
Соответственно, это влияет на выбор ранней диагностики. То же самое у женщин с маммографией. Если есть наследственный анамнез или какие-то образования в молочной железе, мы посылаем на маммографию.
Но именно для профилактики — никому не надо курить, я бы так сказал. И я также призываю вакцинироваться от вируса папилломы человека — в данном случае речь идет о детях, девочках и мальчиках. В календаре прививок некоторых стран это уже есть, но в России нет, поэтому делайте их самостоятельно. Это существенно снизит риск развития рака шейки матки, на этот счет есть всё более и более надежные данные. По нашим прогнозам, Бюро по изучению рака, рак шейки матки войдет в топ-5 опухолей у женщин в 2035 году. Если мы будем вакцинироваться, мы будем этот риск снижать, но не к 2035 году. Мы должны понимать, что все меры профилактики и ранней диагностики — это всё меры длительного влияния. То есть эффект мы получим через 20–30 лет, соответственно, это надо делать уже сейчас. Алкоголь в умеренных дозах, если мы говорим о циррозах, о раках печени. ASCO, Американское сообщество клинических онкологов, выпустило недавно рекомендации на это тему: безопасно употреблять бокал вина для женщин в день либо два бокала для мужчины в день (пропорции в виде водки можно посчитать). Выше этих норм — уже риски рака печени, пищевода и опухолей ЖКТ в целом.
Конечно, надо вакцинироваться от гепатита В, это есть уже в календарях прививок многих стран. Если мы говорим про гепатит С, который как раз приводит к раку печени в основном, то его надо не профилактировать, а лечить, он излечивается в 96–99 % случаев.
— Но его прежде надо выявить, он не всегда же проявляется?
— Тут хочу отметить, что Россия — на передовых позициях. При госпитализациях, диспансерных наблюдениях у нас обязательно делают три анализа — ВИЧ, гепатиты и сифилис. Они обычно делаются всем — то есть мы знаем, сколько больных у нас с гепатитом живет. Конечно, тут должно «повезти» — вы должны попасть в больницу. Но если мы возьмем другие страны, там даже на стадии госпитализации или диспансерного наблюдения нет обязательного тестирования. Еще одно простое направление профилактики — борьба с ожирением. Например, рак почки ассоциирован с двумя факторами: это курение и ожирение — они вообще являются негативным фактором для большинства опухолей. Рак молочной железы тоже связан с ожирением.
— Профилактические меры, о которых вы говорили, статистически достоверны? Как это происходит — на основе исследований, которые во времени отслеживали развитие этих заболеваний и искали корреляцию с образом жизни человека?
— Абсолютно. Можно утверждать, что это действительно факторы, которые приводят к развитию рака. Конечно, мы можем фантазировать на эту тему, но если курит человек, то риск развития рака существенно увеличивается, это надо понимать.
— Вы хирургией не занимаетесь?
— Нет, я химиотерапевт, но в плане научном у нас есть исследования с хирургией и с лучевой терапией, которая сделала новый виток. Я вообще верю в лекарственное лечение. Когда-то туберкулез лечился хирургически, теперь мы его лечим лекарствами. Моя организация, Бюро, провела интересное исследование. У пациента маленькая опухоль в почке, нет метастазов, и стандартом сейчас является удалить почку или ее часть. Дедовский метод, отрезать. Мы попробовали применить иммунные препараты в надежде, что они активируют иммунную систему и убьют эту первичную опухоль, чтобы не надо было ничего удалять. Могу сказать, что у нас не получилось, — опухоль не ушла, хотя болезнь стабилизировалась, она не развивалась дальше. Но я всё равно верю, что в будущем новые виды лечения позволят уходить от хирургического лечения, убирающего орган.
— Абсолютно. Можно утверждать, что это действительно факторы, которые приводят к развитию рака. Конечно, мы можем фантазировать на эту тему, но если курит человек, то риск развития рака существенно увеличивается, это надо понимать.
— Вы хирургией не занимаетесь?
— Нет, я химиотерапевт, но в плане научном у нас есть исследования с хирургией и с лучевой терапией, которая сделала новый виток. Я вообще верю в лекарственное лечение. Когда-то туберкулез лечился хирургически, теперь мы его лечим лекарствами. Моя организация, Бюро, провела интересное исследование. У пациента маленькая опухоль в почке, нет метастазов, и стандартом сейчас является удалить почку или ее часть. Дедовский метод, отрезать. Мы попробовали применить иммунные препараты в надежде, что они активируют иммунную систему и убьют эту первичную опухоль, чтобы не надо было ничего удалять. Могу сказать, что у нас не получилось, — опухоль не ушла, хотя болезнь стабилизировалась, она не развивалась дальше. Но я всё равно верю, что в будущем новые виды лечения позволят уходить от хирургического лечения, убирающего орган.
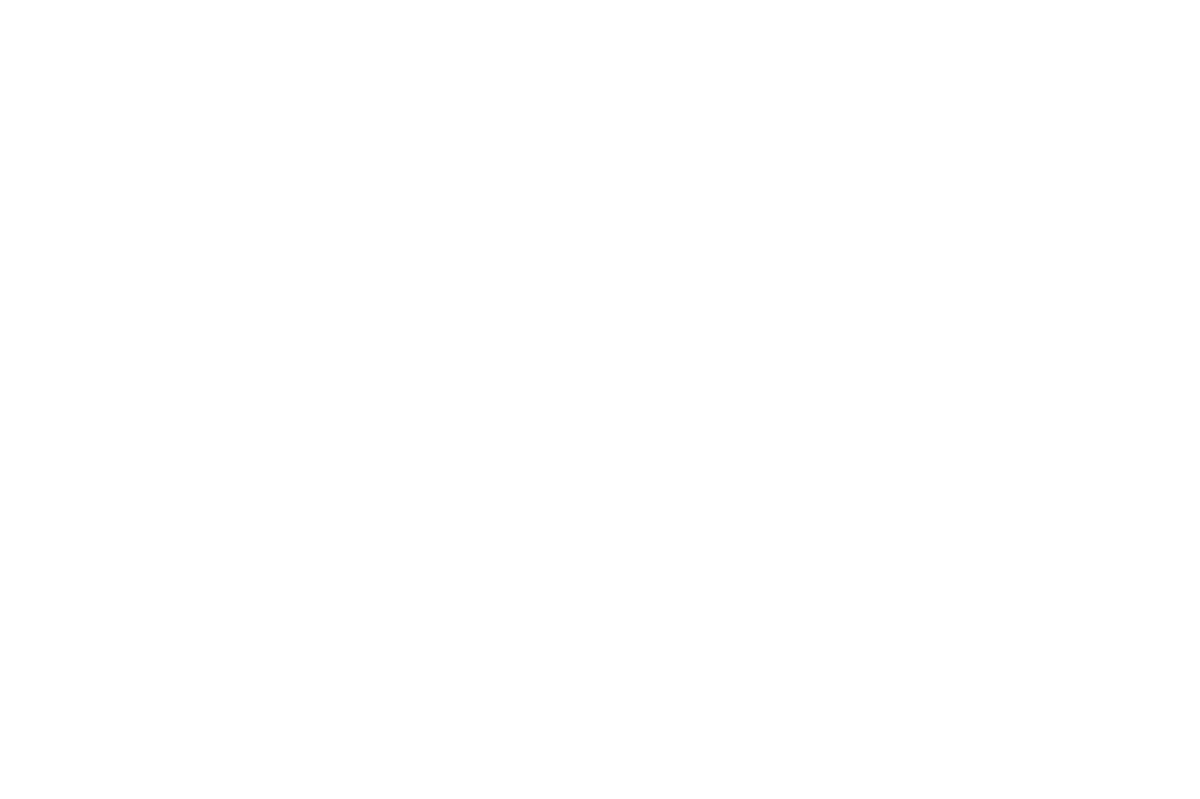
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Расскажите немного о вашем Бюро. Как организована работа — вы сотрудничаете с конкретными клиниками или к вам обращаются медицинские центры? Как вы функционируете?
— Изначально, когда мы создали Бюро, мы решили использовать принцип кооперированной группы. В мире существуют крупные кооперированные группы — когда задумывается исследование в этой группе, авторами-исследователями, в нашем случае — Бюро, заключаются договоры или взаимодействие происходит с различными центрами. Соответственно, эту организацию можно назвать виртуальной в режиме онлайн, но она является при этом практической, так как у нас идут практические исследования на базе различных центров. Один центр специализируется на раке почки, другой — на раке желудка. Мы считаем, что такая структура позволяет проводить исследования быстро и наиболее эффективно, так как мы взаимодействуем с лучшими специалистами в данной области. Таким образом мы проводим.
— То есть ваша функция — координирующая?
— Не могу так сказать. Мы начинаем от идеи, то есть наша функция — это придумать задачу, превратить это в протокол исследования, а дальше уже организовать его с помощью других центров. Это не только мы, сотрудники Бюро, — так же любой исследователь, который хочет сотрудничать с нами, может прийти к нам со своей идеей, и его идею мы попробуем организовать.
— Изначально, когда мы создали Бюро, мы решили использовать принцип кооперированной группы. В мире существуют крупные кооперированные группы — когда задумывается исследование в этой группе, авторами-исследователями, в нашем случае — Бюро, заключаются договоры или взаимодействие происходит с различными центрами. Соответственно, эту организацию можно назвать виртуальной в режиме онлайн, но она является при этом практической, так как у нас идут практические исследования на базе различных центров. Один центр специализируется на раке почки, другой — на раке желудка. Мы считаем, что такая структура позволяет проводить исследования быстро и наиболее эффективно, так как мы взаимодействуем с лучшими специалистами в данной области. Таким образом мы проводим.
— То есть ваша функция — координирующая?
— Не могу так сказать. Мы начинаем от идеи, то есть наша функция — это придумать задачу, превратить это в протокол исследования, а дальше уже организовать его с помощью других центров. Это не только мы, сотрудники Бюро, — так же любой исследователь, который хочет сотрудничать с нами, может прийти к нам со своей идеей, и его идею мы попробуем организовать.
— Мы затронули разные аспекты разработки методов лечения, а теперь хочется коснуться практики. Сейчас много говорят, что современная медицина — это не место для героев-одиночек, в ней главное — команда и владение протоколами. Можно ли говорить о том, что весь цивилизованный мир оказывает помощь по единым стандартам?
—Можно так говорить, да.
Весь цивилизованный мир, включая и Россию, работает по очень похожим стандартам. И эти стандарты стали очень мобильны в последнее время. Если возьмем, например, рак легкого, то стандарты международные за год были пересмотрены пять раз. Раньше их пересматривали раз в 5 лет, а сейчас прогресс идет так быстро, появляется столько новых опций, что приходится часто пересматривать стандарты, чтобы их внедрить.
Россия следует за этими стандартами, Российское общество клинической онкологии создало российские стандарты — практические рекомендации они называются, которые являются основой стандарта Минздрава и других профессиональных сообществ. Могу сказать, что они очень похожи, — отличаются, может быть, только на опции, которые в России еще не зарегистрированы, хотя и с этим огромный прогресс. Другой вопрос — доступ и реализация. Это вопрос, который требует обсуждения.
— Полагаю, обсуждения не на нашем уровне?
— Да. Доступ к новым опциям — финансовая проблема, Стоимость хорошего лекарственного лечения в месяц — порядка 600–700 тысяч рублей, бывает и миллион. Не все регионы могут обеспечить пациентов этими препаратами, но мы наблюдаем, что существенно увеличилось количество пациентов, получающих новые опции. Если мы говорим о Москве, практически все пациенты могут получить современное лечение. Есть регионы лучше, хуже, но всё это определяется КСГ (клинико-статистическими группами). Я думаю, это отдельная тема, не научная.
— Существенна ли разница между частной и государственной онкологической помощью у нас и в других странах?
— 10 лет назад на частную онкологическую помощь в России было наложено табу, потому что считалось, что частные центры не смогут оказать помощь в полном объеме, по сравнению с государственными. Но в последнее время мы видим всплеск появления новых частных центров. Мне довелось быть директором Института онкологии Хадассе, это израильская клиника, но, даже наблюдая российские клиники (не буду их перечислять), я могу сказать, что существенно улучшилась ситуация. Есть частные клиники, которые, конечно, страдают от разных проблем, но есть весьма успешные, скажем так, правильные частные клиники, которые оказывают помощь не хуже, чем государственные.
—Можно так говорить, да.
Весь цивилизованный мир, включая и Россию, работает по очень похожим стандартам. И эти стандарты стали очень мобильны в последнее время. Если возьмем, например, рак легкого, то стандарты международные за год были пересмотрены пять раз. Раньше их пересматривали раз в 5 лет, а сейчас прогресс идет так быстро, появляется столько новых опций, что приходится часто пересматривать стандарты, чтобы их внедрить.
Россия следует за этими стандартами, Российское общество клинической онкологии создало российские стандарты — практические рекомендации они называются, которые являются основой стандарта Минздрава и других профессиональных сообществ. Могу сказать, что они очень похожи, — отличаются, может быть, только на опции, которые в России еще не зарегистрированы, хотя и с этим огромный прогресс. Другой вопрос — доступ и реализация. Это вопрос, который требует обсуждения.
— Полагаю, обсуждения не на нашем уровне?
— Да. Доступ к новым опциям — финансовая проблема, Стоимость хорошего лекарственного лечения в месяц — порядка 600–700 тысяч рублей, бывает и миллион. Не все регионы могут обеспечить пациентов этими препаратами, но мы наблюдаем, что существенно увеличилось количество пациентов, получающих новые опции. Если мы говорим о Москве, практически все пациенты могут получить современное лечение. Есть регионы лучше, хуже, но всё это определяется КСГ (клинико-статистическими группами). Я думаю, это отдельная тема, не научная.
— Существенна ли разница между частной и государственной онкологической помощью у нас и в других странах?
— 10 лет назад на частную онкологическую помощь в России было наложено табу, потому что считалось, что частные центры не смогут оказать помощь в полном объеме, по сравнению с государственными. Но в последнее время мы видим всплеск появления новых частных центров. Мне довелось быть директором Института онкологии Хадассе, это израильская клиника, но, даже наблюдая российские клиники (не буду их перечислять), я могу сказать, что существенно улучшилась ситуация. Есть частные клиники, которые, конечно, страдают от разных проблем, но есть весьма успешные, скажем так, правильные частные клиники, которые оказывают помощь не хуже, чем государственные.
— То есть частные — как бы второй эшелон?
— Только потому, что они лимитированы возможностью назначать препараты и методы по ОМС. Им выделяется определенный объем, и в рамках него они не второй эшелон, а даже первый, потому что за те же деньги, скажем, ОМС пациент получает условия, возможно, не лучшие в плане лечения, но комфортнее. Но когда заканчиваются эти объемы ОМС, они становятся вторым эшелоном, так как они не могут предоставить всю помощь согласно стандартам — пациенты вынуждены платить за это. Но я думаю, что в будущем частную онкологию в России надо развивать, потому что она в России возьмет на себя большую нагрузку. Государство должно делиться государственными деньгами с государственными клиниками и частными, ведь в частные клиники полностью вкладывается инвестор, а это очень дорого. Один аппарат КТ может приближаться к миллиону долларов. Инвестор сам вкладывается, государству не надо тратить на это деньги. А количество пациентов, как мы уже поговорили, сильно возрастет уже в ближайшем будущем. И государственные клиники просто не смогут справиться с этим объемом — соответственно, нагрузку надо разделить. Если возьмем, например, другие страны — в США это только частные клиники, которые работают по страховкам, условно по тому же ОМС, и проблем нет. В европейских странах — фифти-фифти, но частный сектор преобладает. Не стоит этого бояться.
— Что нужно для того, чтобы онкологические заболевания окончательно утратили свой устрашающий подтекст?
— Для этого нужно развивать науку. Казалось бы, это что-то такое виртуальное — но на самом деле это абсолютно реальная вещь. Мы уже поговорили о нобелевских лауреатах. Да и пандемия показала, что наука таки нужна, хотя она и работает неочевидным для обывателя образом. Национальный институт рака (это условное «министерство онкологии» США) вкладывается миллиардами долларов в науку — и они понимают, что 96 % этих денег идет впустую в том смысле, что они ничего не дадут, результаты будут негативные. Но 4 % дадут всходы. Проблема в том, что до выделения средств и проведения работ никто не знает, какие именно 4 % буду успешными. Соответственно, науку надо финансировать и развивать, и тогда мы справимся с онкологией. Мы видим за 5 лет, какой прогресс произошел в онкологии благодаря науке. А если мы не будем вкладываться в науку и ее развивать — соответственно, мы будем иметь те показатели, которые имеем.
— И еще немного о страхе. До какой степени должны быть врачи откровенны с родственниками онкологического больного и с ним самим? Я знаю, что до недавнего времени существовали разные подходы к этому на Западе и у нас.
— Это для меня очень практический вопрос: я работаю с пациентами как врач-химиотерапевт. И мне приходится говорить, в отличие от хирургов, что «у вас есть метастазы». А это прогностически более неблагоприятная группа — и как такое обсуждать с пациентами? По закону мы должны говорить, потому что пациент подписывает информированное согласие на свое лечение и он должен обо всём знать.
Вопрос в том, как сказать пациенту. Его можно огорошить, его можно подвести, а потом создать надежду на то, что это лечится, и вот ровно так, как говорю я с вами, так я говорю и с пациентом — что есть вот такие опции, что да, болезнь пришла, но мы будем бороться, мы будем революционными методами пытаться остановить эту болезнь. Но говорить совершенно точно надо. И меня радует, что в Москве появились даже в центрах амбулаторной помощи кабинеты психолога, — а раньше этого не было.
Я был в Боткинской больнице недавно и видел там кабинет психолога: вы как будто приходите в частную клинику с диванчиком, где пациент лежит, с опытным профессионалом — вот они должны нам помогать, это изменит ситуацию. Еще несколько лет назад такое было только в элитных частных клиниках.
Недавно в рамках Всемирного дня борьбы против рака почки Международная ассоциация пациентов по раку почки проводила исследование именно о психологическом измерении болезни: как пациенты ощущают себя со своим диагнозом и кому они готовы сказать о нём. Бюро по изучению рака участвовало в нём от России. И что интересно: за границей часто пациент хочет обсудить свой диагноз, свою проблему с семьей, родственниками или пациентской группой, а в России пациент хочет обсудить это с врачом! Он чаще закрывается от семьи, от друзей и не хочет об этом говорить — а вот с врачом он готов. Соответственно, — как раз к вопросу о психологии — мы должны это поддерживать.
— Только потому, что они лимитированы возможностью назначать препараты и методы по ОМС. Им выделяется определенный объем, и в рамках него они не второй эшелон, а даже первый, потому что за те же деньги, скажем, ОМС пациент получает условия, возможно, не лучшие в плане лечения, но комфортнее. Но когда заканчиваются эти объемы ОМС, они становятся вторым эшелоном, так как они не могут предоставить всю помощь согласно стандартам — пациенты вынуждены платить за это. Но я думаю, что в будущем частную онкологию в России надо развивать, потому что она в России возьмет на себя большую нагрузку. Государство должно делиться государственными деньгами с государственными клиниками и частными, ведь в частные клиники полностью вкладывается инвестор, а это очень дорого. Один аппарат КТ может приближаться к миллиону долларов. Инвестор сам вкладывается, государству не надо тратить на это деньги. А количество пациентов, как мы уже поговорили, сильно возрастет уже в ближайшем будущем. И государственные клиники просто не смогут справиться с этим объемом — соответственно, нагрузку надо разделить. Если возьмем, например, другие страны — в США это только частные клиники, которые работают по страховкам, условно по тому же ОМС, и проблем нет. В европейских странах — фифти-фифти, но частный сектор преобладает. Не стоит этого бояться.
— Что нужно для того, чтобы онкологические заболевания окончательно утратили свой устрашающий подтекст?
— Для этого нужно развивать науку. Казалось бы, это что-то такое виртуальное — но на самом деле это абсолютно реальная вещь. Мы уже поговорили о нобелевских лауреатах. Да и пандемия показала, что наука таки нужна, хотя она и работает неочевидным для обывателя образом. Национальный институт рака (это условное «министерство онкологии» США) вкладывается миллиардами долларов в науку — и они понимают, что 96 % этих денег идет впустую в том смысле, что они ничего не дадут, результаты будут негативные. Но 4 % дадут всходы. Проблема в том, что до выделения средств и проведения работ никто не знает, какие именно 4 % буду успешными. Соответственно, науку надо финансировать и развивать, и тогда мы справимся с онкологией. Мы видим за 5 лет, какой прогресс произошел в онкологии благодаря науке. А если мы не будем вкладываться в науку и ее развивать — соответственно, мы будем иметь те показатели, которые имеем.
— И еще немного о страхе. До какой степени должны быть врачи откровенны с родственниками онкологического больного и с ним самим? Я знаю, что до недавнего времени существовали разные подходы к этому на Западе и у нас.
— Это для меня очень практический вопрос: я работаю с пациентами как врач-химиотерапевт. И мне приходится говорить, в отличие от хирургов, что «у вас есть метастазы». А это прогностически более неблагоприятная группа — и как такое обсуждать с пациентами? По закону мы должны говорить, потому что пациент подписывает информированное согласие на свое лечение и он должен обо всём знать.
Вопрос в том, как сказать пациенту. Его можно огорошить, его можно подвести, а потом создать надежду на то, что это лечится, и вот ровно так, как говорю я с вами, так я говорю и с пациентом — что есть вот такие опции, что да, болезнь пришла, но мы будем бороться, мы будем революционными методами пытаться остановить эту болезнь. Но говорить совершенно точно надо. И меня радует, что в Москве появились даже в центрах амбулаторной помощи кабинеты психолога, — а раньше этого не было.
Я был в Боткинской больнице недавно и видел там кабинет психолога: вы как будто приходите в частную клинику с диванчиком, где пациент лежит, с опытным профессионалом — вот они должны нам помогать, это изменит ситуацию. Еще несколько лет назад такое было только в элитных частных клиниках.
Недавно в рамках Всемирного дня борьбы против рака почки Международная ассоциация пациентов по раку почки проводила исследование именно о психологическом измерении болезни: как пациенты ощущают себя со своим диагнозом и кому они готовы сказать о нём. Бюро по изучению рака участвовало в нём от России. И что интересно: за границей часто пациент хочет обсудить свой диагноз, свою проблему с семьей, родственниками или пациентской группой, а в России пациент хочет обсудить это с врачом! Он чаще закрывается от семьи, от друзей и не хочет об этом говорить — а вот с врачом он готов. Соответственно, — как раз к вопросу о психологии — мы должны это поддерживать.
Интервью звучало в эфире «Эха Москвы» 16.02.2022 и 23.02.2022
