РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Александр Апт:
«В биологии нет ничего сложнее взаимодействия паразита и хозяина»
«В биологии нет ничего сложнее взаимодействия паразита и хозяина»
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Александр Апт:
«В биологии нет ничего сложнее взаимодействия паразита и хозяина»
«В биологии нет ничего сложнее взаимодействия паразита и хозяина»
Почему аллели генов, позволяющие развиться туберкулезной инфекции, не вычистились из ДНК человека? Какой сценарий кампании вакцинации от коронавируса был бы наилучшим и почему в России важно вести фундаментальные,а не только прикладные исследования? Об этом и многом другом Михаил Гельфанд поговорил с Александром Аптом.
«Мышь так же разнообразна, как и мы»
Александр Соломонович Апт — доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИ туберкулеза.
— Начнем с банального. Вы происходите из литературно-гуманитарной семьи.
— Совершенно верно.
— Как вас отнесло в биологию?
— Я знал, что буду биологом, еще когда я не понимал, из какой я семьи, примерно с пяти-шести лет.
— Что вы при этом имели в виду?
— Энтомологию. Потом я ходил в энтомологический кружок, а когда поступал на биофак в 1968 году, имел в виду эту кафедру. Но мне на одну ночь была выдана стенограмма сессии ВАСХНИЛ 1948 года, и я поступил на кафедру генетики.
— Просто из чувства протеста?
— Да.
— Замечательно. А какая это была энтомология? Вся в целом? Или Coleoptera? Или Lepidoptera?
— Поскольку это было в детстве — классика, да, жуки и бабочки. Так и осталось. Вот тут на стенах — купленное для красоты, а на даче у меня основательная коллекция.
— Из местных?
— Только из одной деревни.
— Хорошо. И вот вы закончили кафедру генетики…
— Я ее не закончил — меня благополучно исключили с четвертого курса.
— За неправильное чтение?
— Нет, там была сложная комбинация несданной ботаники на практике в Чашниково, что, впрочем, позволяло учиться до четвертого курса и даже закончить большой практикум, и телеграммы — поздравления с пятидесятилетием Солженицына… И после моих действий такого рода в университете решили, что это надо прекращать, поэтому я в итоге закончил педагогический.
— Перевелись?
— Я пошел работать и потом поступил в педагогический, причем это уникальный институт — МГЗПИ, Московский заочный пединститут, который для москвичей имел статус вечернего, и я заканчивал там полтора курса десять лет.
— Как вы потом вернулись в науку?
— Я ее не бросал. Я работал в Институте общей генетики АН СССР.
— У кого?
— У Игоря Егорова в лаборатории генетики совместимости тканей, а когда в 1978 году он сбежал в Штаты, нас расформировали. Но к тому времени я уже нацелился на работу в Институте туберкулеза, потому что меня очень ловко заманили заняться генетикой туберкулеза. Не возбудителя, а человека, точнее даже модельных организмов.
— Совершенно верно.
— Как вас отнесло в биологию?
— Я знал, что буду биологом, еще когда я не понимал, из какой я семьи, примерно с пяти-шести лет.
— Что вы при этом имели в виду?
— Энтомологию. Потом я ходил в энтомологический кружок, а когда поступал на биофак в 1968 году, имел в виду эту кафедру. Но мне на одну ночь была выдана стенограмма сессии ВАСХНИЛ 1948 года, и я поступил на кафедру генетики.
— Просто из чувства протеста?
— Да.
— Замечательно. А какая это была энтомология? Вся в целом? Или Coleoptera? Или Lepidoptera?
— Поскольку это было в детстве — классика, да, жуки и бабочки. Так и осталось. Вот тут на стенах — купленное для красоты, а на даче у меня основательная коллекция.
— Из местных?
— Только из одной деревни.
— Хорошо. И вот вы закончили кафедру генетики…
— Я ее не закончил — меня благополучно исключили с четвертого курса.
— За неправильное чтение?
— Нет, там была сложная комбинация несданной ботаники на практике в Чашниково, что, впрочем, позволяло учиться до четвертого курса и даже закончить большой практикум, и телеграммы — поздравления с пятидесятилетием Солженицына… И после моих действий такого рода в университете решили, что это надо прекращать, поэтому я в итоге закончил педагогический.
— Перевелись?
— Я пошел работать и потом поступил в педагогический, причем это уникальный институт — МГЗПИ, Московский заочный пединститут, который для москвичей имел статус вечернего, и я заканчивал там полтора курса десять лет.
— Как вы потом вернулись в науку?
— Я ее не бросал. Я работал в Институте общей генетики АН СССР.
— У кого?
— У Игоря Егорова в лаборатории генетики совместимости тканей, а когда в 1978 году он сбежал в Штаты, нас расформировали. Но к тому времени я уже нацелился на работу в Институте туберкулеза, потому что меня очень ловко заманили заняться генетикой туберкулеза. Не возбудителя, а человека, точнее даже модельных организмов.
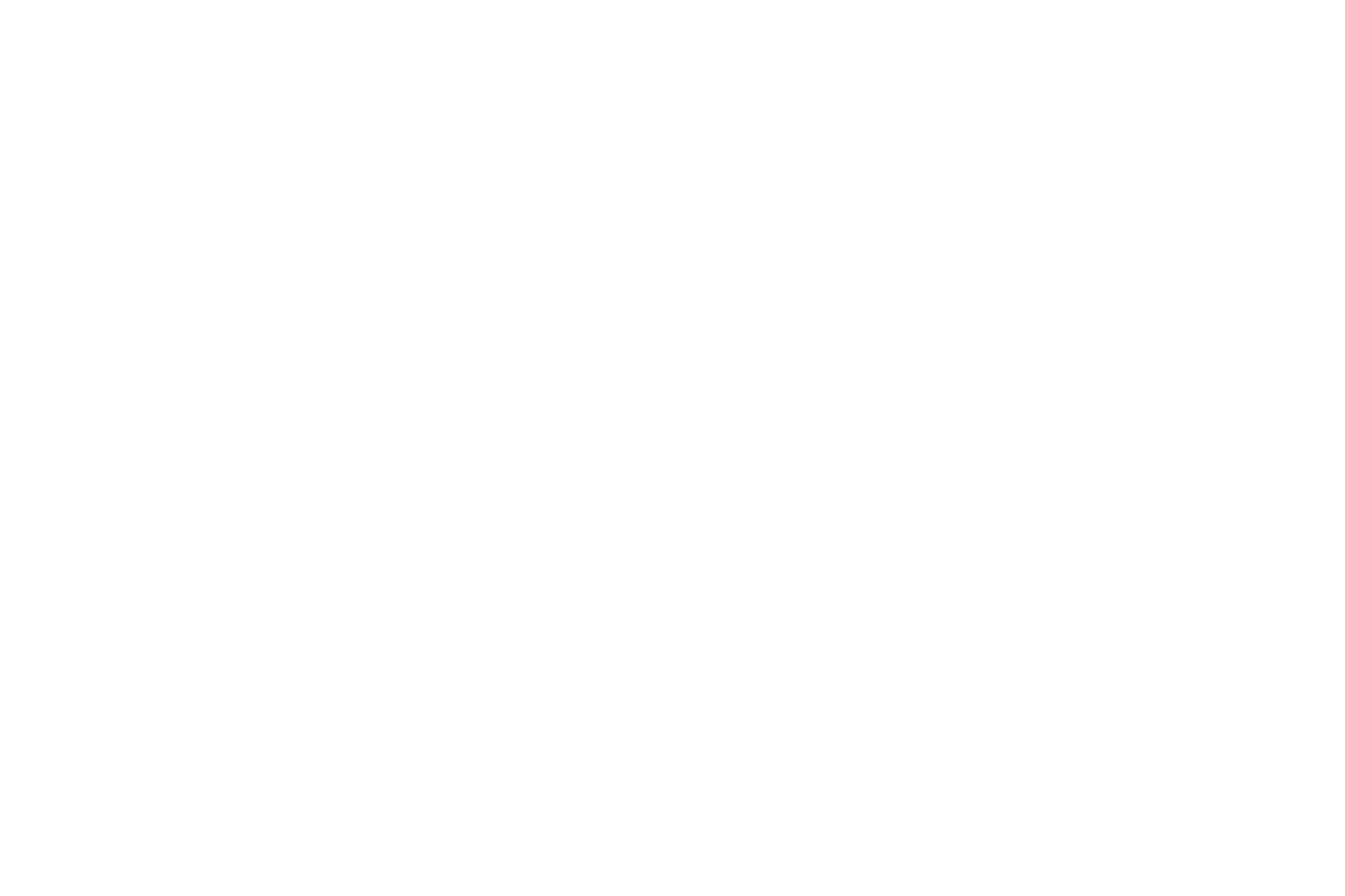
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— До какой степени генетическая модель туберкулеза мыши имеет отношение к человеку?
— Эта модель очень хороша. Если взять правильных мышей и сравнить с заболевшим туберкулезом человеком, то там будет очень похожая картинка, от патологии и иммунного ответа до сроков и доз, от которых заболевают, погибают и т. п. Но это при учете одной очень важной вещи, с которой почему-то почти никто не считается. Огромное число людей, в том числе и биологов, считают, что Homo sapiens — генетически гетерогенный вид, а Mus musculus — просто мышь и представляет всех мышей. А мышь так же разнообразна, как и мы.
Я начал с того, что сорок лет назад взял тридцать инбредных линий мышей, которые у нас были благодаря коллекции Института общей генетики, точнее Игоря Егорова, и мы их всех одинаково заразили туберкулезом. И увидели колоссальное разнообразие: сколько у них микобактерий в органах, за какой срок они погибают, какие они разные по чувствительности: есть очень чувствительные, а есть очень резистентные.
При этом весь мир, за исключением, наверное, трех- четырех лабораторий, работает на одной из самых резистентных к туберкулезу линий мышей — C57BL/6. Это дешево и сердито, они везде есть, продаются миллионами особей через Джексоновскую лабораторию, например. А потом мы анализируем человеческую популяцию, в которой из числа зараженных (25% от всего населения Земли) заболевают туберкулезом никак не более доли процента. И потом заболевших людей, по определению чувствительных, мы сравниваем с мышами, как я уже сказал, одной из самых резистентных к туберкулезу линий. Эти мыши вообще заболевают только потому, что в них вкатывают очень серьезные дозы микобактерий, а мы на таких сравнениях пытаемся что-то понять про генетику контроля инфекции.
Такой подход к изучению туберкулеза, на мой взгляд, никуда не годится, потому что ничего не моделирует. Надо, напротив, взять очень чувствительную мышь и заразить ее низкой дозой, тогда это моделирует происходящее в популяции человека, потому что считается, что человек заражается от одной до трех микобактерий, такой комочек — кто-то его выкашливает или выделяет при чихании, а другой его вдыхает.
— Достаточно трех микобактерий, чтобы образовался очаг заболевания?
— Да. Туберкулез — социальная болезнь, с этим ничего не поделать; нужно жить чисто, нужно не есть грязно, не сморкаться друг в друга, при кашле закрывать рот, мыть руки перед едой, хотя это не имеет к туберкулезу прямого отношения, это другие болезни.
— Эта модель очень хороша. Если взять правильных мышей и сравнить с заболевшим туберкулезом человеком, то там будет очень похожая картинка, от патологии и иммунного ответа до сроков и доз, от которых заболевают, погибают и т. п. Но это при учете одной очень важной вещи, с которой почему-то почти никто не считается. Огромное число людей, в том числе и биологов, считают, что Homo sapiens — генетически гетерогенный вид, а Mus musculus — просто мышь и представляет всех мышей. А мышь так же разнообразна, как и мы.
Я начал с того, что сорок лет назад взял тридцать инбредных линий мышей, которые у нас были благодаря коллекции Института общей генетики, точнее Игоря Егорова, и мы их всех одинаково заразили туберкулезом. И увидели колоссальное разнообразие: сколько у них микобактерий в органах, за какой срок они погибают, какие они разные по чувствительности: есть очень чувствительные, а есть очень резистентные.
При этом весь мир, за исключением, наверное, трех- четырех лабораторий, работает на одной из самых резистентных к туберкулезу линий мышей — C57BL/6. Это дешево и сердито, они везде есть, продаются миллионами особей через Джексоновскую лабораторию, например. А потом мы анализируем человеческую популяцию, в которой из числа зараженных (25% от всего населения Земли) заболевают туберкулезом никак не более доли процента. И потом заболевших людей, по определению чувствительных, мы сравниваем с мышами, как я уже сказал, одной из самых резистентных к туберкулезу линий. Эти мыши вообще заболевают только потому, что в них вкатывают очень серьезные дозы микобактерий, а мы на таких сравнениях пытаемся что-то понять про генетику контроля инфекции.
Такой подход к изучению туберкулеза, на мой взгляд, никуда не годится, потому что ничего не моделирует. Надо, напротив, взять очень чувствительную мышь и заразить ее низкой дозой, тогда это моделирует происходящее в популяции человека, потому что считается, что человек заражается от одной до трех микобактерий, такой комочек — кто-то его выкашливает или выделяет при чихании, а другой его вдыхает.
— Достаточно трех микобактерий, чтобы образовался очаг заболевания?
— Да. Туберкулез — социальная болезнь, с этим ничего не поделать; нужно жить чисто, нужно не есть грязно, не сморкаться друг в друга, при кашле закрывать рот, мыть руки перед едой, хотя это не имеет к туберкулезу прямого отношения, это другие болезни.
«Надо было сразу пустить на рынок все возможные вакцины»
— Тем самым мы плавно перетекли в обсуждение другой, более популярной нынче болезни. Вирусология, иммунология и эволюционная биология внезапно оказались чуть ли не главными науками на свете.
— И это правильно.
— Мода не пройдет?
— Мода пройдет, как и любая мода, но я надеюсь, что осадочек останется, потому что все-таки полагаю, что к эпидемиям будущего будут относиться не как к страшилкам, а как к реальности.
— После первой атипичной пневмонии 2003 года можно было бы сообразить, что это не в последний раз.
— Я стараюсь довольно далеко держаться от проблемы коронавируса.
— Как вам это удается? По-моему, всякого человека, у которого в паспорте написано «биолог», просто хватают на улице и велят немедленно дать комментарий по этой теме.
— Я не всем даю комментарии. Комментировать меня просили много раз, но чаще всего я отвечал, что я не эпидемиолог, или что-то такое. Пусть всяк знает свое место.
— С одной стороны, это хорошо, что люди сознают границы компетентности и не дают комментариев, где некомпетентны. С другой стороны, есть другие люди, с такими же регалиями, которых это не останавливает.
— Их громадное большинство. Вы не согласны с общим тезисом, что среди человечества примерно 2% говорят о том, что знают, а все остальные несут ахинею?
— Что в этом случае делать несчастному налогоплательщику…
— Ой, плохо ему!
— …которому надо решать, вакцинироваться или нет?
— Вакцинироваться.
— Замечательно. «Вакцинироваться», — сказал профессор Апт, специалист по генетике человека, но на самом деле мыши. А какой-нибудь профессор Пилюлькин, между прочим доктор медицинских наук, сказал, что вакцины — это яд, а вместо того надо развивать собственный иммунитет.
— Все-таки я еще и инфекционист.
— А доктор Пилюлькин — акушер- гинеколог.
— Это хуже в смысле вакцинации.
— Зато ближе к народу.
— Намного ближе к народу, но я бы все-таки спросил совета у иммунолога.
— Так вы же только что сказали, что не комментируете.
— Чаще всего не комментирую. Но вы спросили о вакцинации, а не про ковид.
— От ковида надо вакцинироваться?
— Именно от ковида и надо. Мне, в общем, достаточно убедительными показались данные по Аргентине и по Сан-Марино (теперь к ним добавилась Венгрия) — я сейчас говорю в узком смысле про «Спутник», хотя «Пфайзер» мне кажется лучшей вакциной. На довольно больших выборках достаточно надежно показано хотя бы то, что люди так густо не умирают, как без вакцинации. А это, по-моему, в общем, хорошо.
— Что люди не помирают — это хорошо. А побочки?
— Я очень долго сам решался на вакцинацию по очень простой причине. Нам с женой обоим за семьдесят, у меня диабет, у нее хронический бронхиолит. Отличный букет, чтобы прививаться от респираторных заболеваний; и тем не менее мы вакцинировались, потому что оба хотим еще какое-то время позаниматься своей биологией.
— То, что нет данных по России, вас не насторожило?
— Меня всегда настораживает, что по России, как чего ни хватишься, ничего нет… Конечно, насторожило, но я готов мыслить широко, мне Аргентины достаточно.
— Не все готовы. Когда половина населения из абсолютно мракобесных соображений вакцинироваться не собирается, правильно ли их принуждать административно?
— Это очень сложный вопрос. Я бы сказал, что условием для того, чтобы можно было на чем-то настаивать по-настоящему, является отсутствие глупостей с проведением массовых мероприятий в период пандемии. Кроме того, необходимо кардинально изменить то, что происходит в общественном транспорте, — полное пренебрежение простейшими правилами ношения масок и соблюдения дистанции между людьми. Тогда можно было бы сделать некий противовес в виде неприятного давления на тех, кто не желает вакцинироваться. Но только в этом случае.
— И это правильно.
— Мода не пройдет?
— Мода пройдет, как и любая мода, но я надеюсь, что осадочек останется, потому что все-таки полагаю, что к эпидемиям будущего будут относиться не как к страшилкам, а как к реальности.
— После первой атипичной пневмонии 2003 года можно было бы сообразить, что это не в последний раз.
— Я стараюсь довольно далеко держаться от проблемы коронавируса.
— Как вам это удается? По-моему, всякого человека, у которого в паспорте написано «биолог», просто хватают на улице и велят немедленно дать комментарий по этой теме.
— Я не всем даю комментарии. Комментировать меня просили много раз, но чаще всего я отвечал, что я не эпидемиолог, или что-то такое. Пусть всяк знает свое место.
— С одной стороны, это хорошо, что люди сознают границы компетентности и не дают комментариев, где некомпетентны. С другой стороны, есть другие люди, с такими же регалиями, которых это не останавливает.
— Их громадное большинство. Вы не согласны с общим тезисом, что среди человечества примерно 2% говорят о том, что знают, а все остальные несут ахинею?
— Что в этом случае делать несчастному налогоплательщику…
— Ой, плохо ему!
— …которому надо решать, вакцинироваться или нет?
— Вакцинироваться.
— Замечательно. «Вакцинироваться», — сказал профессор Апт, специалист по генетике человека, но на самом деле мыши. А какой-нибудь профессор Пилюлькин, между прочим доктор медицинских наук, сказал, что вакцины — это яд, а вместо того надо развивать собственный иммунитет.
— Все-таки я еще и инфекционист.
— А доктор Пилюлькин — акушер- гинеколог.
— Это хуже в смысле вакцинации.
— Зато ближе к народу.
— Намного ближе к народу, но я бы все-таки спросил совета у иммунолога.
— Так вы же только что сказали, что не комментируете.
— Чаще всего не комментирую. Но вы спросили о вакцинации, а не про ковид.
— От ковида надо вакцинироваться?
— Именно от ковида и надо. Мне, в общем, достаточно убедительными показались данные по Аргентине и по Сан-Марино (теперь к ним добавилась Венгрия) — я сейчас говорю в узком смысле про «Спутник», хотя «Пфайзер» мне кажется лучшей вакциной. На довольно больших выборках достаточно надежно показано хотя бы то, что люди так густо не умирают, как без вакцинации. А это, по-моему, в общем, хорошо.
— Что люди не помирают — это хорошо. А побочки?
— Я очень долго сам решался на вакцинацию по очень простой причине. Нам с женой обоим за семьдесят, у меня диабет, у нее хронический бронхиолит. Отличный букет, чтобы прививаться от респираторных заболеваний; и тем не менее мы вакцинировались, потому что оба хотим еще какое-то время позаниматься своей биологией.
— То, что нет данных по России, вас не насторожило?
— Меня всегда настораживает, что по России, как чего ни хватишься, ничего нет… Конечно, насторожило, но я готов мыслить широко, мне Аргентины достаточно.
— Не все готовы. Когда половина населения из абсолютно мракобесных соображений вакцинироваться не собирается, правильно ли их принуждать административно?
— Это очень сложный вопрос. Я бы сказал, что условием для того, чтобы можно было на чем-то настаивать по-настоящему, является отсутствие глупостей с проведением массовых мероприятий в период пандемии. Кроме того, необходимо кардинально изменить то, что происходит в общественном транспорте, — полное пренебрежение простейшими правилами ношения масок и соблюдения дистанции между людьми. Тогда можно было бы сделать некий противовес в виде неприятного давления на тех, кто не желает вакцинироваться. Но только в этом случае.
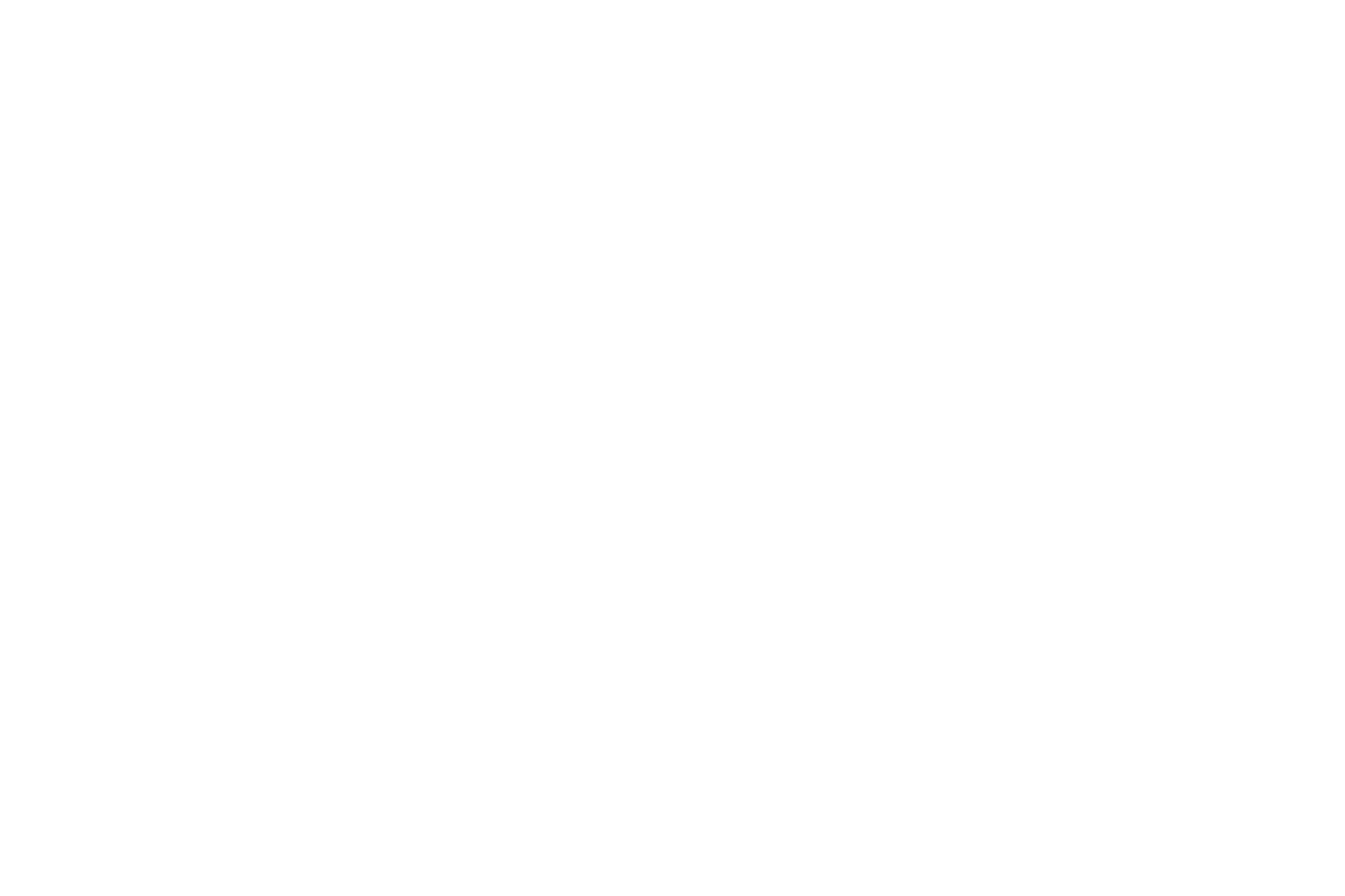
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Что делать не с принципиальными антивакцинаторами, а вот с такими… долбоклювами? И что делать с носителями? Говорят, в Китае, если кто-то заболел в подъезде ковидом, то заваривают дверь подъезда. Где та грань, которую мы явно не хотим перейти, но, с другой стороны, не хотим и развития эпидемии?
— Вы понимаете, что вопрос безумно сложный…
— Зачем же я буду задавать вам простые вопросы?
— Никто не знает, как на него ответить, на самом деле.
— Поэтому всех интересует мнение профессора Апта.
— Профессор Апт в данном случае не имеет мнения.
— Погодите, вы только что сказали, что вы эпидемиолог…
— Я сказал, что инфекционист, это некоторая разница. Я считаю, что провал кампании по вакцинации, во всяком случае в начале пандемии, — абсолютно на совести властей. Ничего более идиотского я в своей жизни не видел. Хотя нет, виноват, я давно живу в стране… Надо было сразу пустить на рынок все возможные вакцины и сказать, что прививаться «Спутником» можно бесплатно, а зарубежные можно покупать. Кстати, мы бы посмотрели на еще один очень интересный замер… Но когда на высшем уровне, как всегда, решили выигрывать олимпиаду по созданию вакцин, то и получилось, как на олимпиаде.
— Возможно, есть еще чисто психологическое явление. Про вакцины «Пфайзера» и «Астра- Зенеки» всё время говорили в телевизоре, что от них бывают сильные побочные последствия, и, по-видимому, естественное восприятие состоит в том, что…
— …если уж эти плохи…
— …то наша — вообще шмурдяк.
— Вы понимаете, что вопрос безумно сложный…
— Зачем же я буду задавать вам простые вопросы?
— Никто не знает, как на него ответить, на самом деле.
— Поэтому всех интересует мнение профессора Апта.
— Профессор Апт в данном случае не имеет мнения.
— Погодите, вы только что сказали, что вы эпидемиолог…
— Я сказал, что инфекционист, это некоторая разница. Я считаю, что провал кампании по вакцинации, во всяком случае в начале пандемии, — абсолютно на совести властей. Ничего более идиотского я в своей жизни не видел. Хотя нет, виноват, я давно живу в стране… Надо было сразу пустить на рынок все возможные вакцины и сказать, что прививаться «Спутником» можно бесплатно, а зарубежные можно покупать. Кстати, мы бы посмотрели на еще один очень интересный замер… Но когда на высшем уровне, как всегда, решили выигрывать олимпиаду по созданию вакцин, то и получилось, как на олимпиаде.
— Возможно, есть еще чисто психологическое явление. Про вакцины «Пфайзера» и «Астра- Зенеки» всё время говорили в телевизоре, что от них бывают сильные побочные последствия, и, по-видимому, естественное восприятие состоит в том, что…
— …если уж эти плохи…
— …то наша — вообще шмурдяк.
Слабость отбора
— Понятно, что самое актуальное в биологии — это эпидемия: она происходит на наших глазах и кучу чудесной науки можно делать прямо сейчас, потому что накоплен огромный массив данных. А если вернуться на пару лет назад, что самое интересное происходило в вашей науке?
— В моей области исследований всегда происходит что-то интересное, причем на серьезном уровне.
— Наука, в которой десять лет не происходит ничего интересного, наукой быть перестает.
— Это справедливо, но я еще хотел подчеркнуть, что занимаюсь взаимодействием паразита и хозяина. Более сложной биологии я не знаю и даже представить себе не могу. Там любые более-менее серьезные шаги — это всегда что-то такое, от чего отвисает челюсть.
— Нейрофизиология?
— Может быть.
Меня уже лет пятнадцать, по мере того как становился понятен генетический контроль внутриклеточных инфекций, потрясает, как разнится то, что приносила обратная генетика и что — прямая. В обратной генетике подход таков: мы нокаутировали гены для цитокинов, их рецепторов, нокаутировали сигнальные пути, получили на выходе, что бывает, когда испортишь, и на основании этого сделали выводы. В прямой генетике, более классической, идущей от Менделя, исследования идут по-другому: давайте найдем фенотипы, которые можно мерить, с которыми можно иметь дело, и посмотрим, какие гены ответственны за эти фенотипы; сначала было полногеномное картирование, потом — полногеномное секвенирование.
Эти два подхода доминировали в моей науке на протяжении десятков лет и принесли совершенно разные результаты. Предварительные физиологические данные про последствия выключения генов подтвердились. Если что- то сломать, это, скорее всего, приведет к печальным последствиям при заражении туберкулезом или другой бактериальной или вирусной инфекцией. Но в популяциях, сами понимаете, не остается существ, у которых вырублен, скажем, гамма- интерферон или рецепторы к нему. И вот когда начали анализировать, какие гены реально работают в популяциях среди тех живых существ, которые болеют сильно или слабо или вообще не болеют, что у них происходит во взаимодействии многих генов, то оказалось, что полезли транскрипционные факторы, факторы миграции клеток, аллельные варианты главного комплекса гистосовместимости — с обычными заменами, с чисто количественным проявлением. Мы увидели, что ничего грубо не нарушено, ничего радикально не ломается, только константа связывания лигандов с рецепторами варьирует.
— Почему аллель главного комплекса гистосовместимости, который плох с точки зрения заболеваемости туберкулезом, не вычистился из популяции, где в среднем 25% заражено туберкулезом?
— Эффект этих аллелей обычно не более 20% — такой вклад этот аллель вносит в общий фено тип. Притом что 97% популяции резистентны к туберкулезу вообще по причинам, которых мы не знаем, — отбор слаб.
— Может быть, этот аллель полезен для чего-то другого?
— Такой вариант возможен, и сейчас аллели резистентности ищут даже активнее аллелей чувствительности, что, вообще-то, логично: мы все-таки должны понять не только почему болеем, но и как защищаемся.
— В моей области исследований всегда происходит что-то интересное, причем на серьезном уровне.
— Наука, в которой десять лет не происходит ничего интересного, наукой быть перестает.
— Это справедливо, но я еще хотел подчеркнуть, что занимаюсь взаимодействием паразита и хозяина. Более сложной биологии я не знаю и даже представить себе не могу. Там любые более-менее серьезные шаги — это всегда что-то такое, от чего отвисает челюсть.
— Нейрофизиология?
— Может быть.
Меня уже лет пятнадцать, по мере того как становился понятен генетический контроль внутриклеточных инфекций, потрясает, как разнится то, что приносила обратная генетика и что — прямая. В обратной генетике подход таков: мы нокаутировали гены для цитокинов, их рецепторов, нокаутировали сигнальные пути, получили на выходе, что бывает, когда испортишь, и на основании этого сделали выводы. В прямой генетике, более классической, идущей от Менделя, исследования идут по-другому: давайте найдем фенотипы, которые можно мерить, с которыми можно иметь дело, и посмотрим, какие гены ответственны за эти фенотипы; сначала было полногеномное картирование, потом — полногеномное секвенирование.
Эти два подхода доминировали в моей науке на протяжении десятков лет и принесли совершенно разные результаты. Предварительные физиологические данные про последствия выключения генов подтвердились. Если что- то сломать, это, скорее всего, приведет к печальным последствиям при заражении туберкулезом или другой бактериальной или вирусной инфекцией. Но в популяциях, сами понимаете, не остается существ, у которых вырублен, скажем, гамма- интерферон или рецепторы к нему. И вот когда начали анализировать, какие гены реально работают в популяциях среди тех живых существ, которые болеют сильно или слабо или вообще не болеют, что у них происходит во взаимодействии многих генов, то оказалось, что полезли транскрипционные факторы, факторы миграции клеток, аллельные варианты главного комплекса гистосовместимости — с обычными заменами, с чисто количественным проявлением. Мы увидели, что ничего грубо не нарушено, ничего радикально не ломается, только константа связывания лигандов с рецепторами варьирует.
— Почему аллель главного комплекса гистосовместимости, который плох с точки зрения заболеваемости туберкулезом, не вычистился из популяции, где в среднем 25% заражено туберкулезом?
— Эффект этих аллелей обычно не более 20% — такой вклад этот аллель вносит в общий фено тип. Притом что 97% популяции резистентны к туберкулезу вообще по причинам, которых мы не знаем, — отбор слаб.
— Может быть, этот аллель полезен для чего-то другого?
— Такой вариант возможен, и сейчас аллели резистентности ищут даже активнее аллелей чувствительности, что, вообще-то, логично: мы все-таки должны понять не только почему болеем, но и как защищаемся.
Без науки — не по себе
— Зачем вообще заниматься биологией?
— Это вопрос не ко мне, потому что я всё слишком рано для себя решил. В то героическое время я не знал, зачем люди занимаются наукой, мне просто всегда это было интересно. А потом мне стало более-менее понятно, что ничего сложнее биологии нет, и появился такой challengе.
— А зачем человечеству нужны люди, которые занимаются биологией? Почему налогоплательщики должны оплачивать ваш challenge?
— Меня крайне мало это волнует.
— Погодите, вот если к вам придет налоговая инспекция и скажет: профессор Апт, мы вас кормили сорок лет…
— Они меня не кормили.
— А кто?
— Во всяком случае, не налоговая инспекция.
— Налоговая инспекция в данном случае является представителем налогоплательщиков.
— На это существует множество ответов.
— Я знаю, мне интересен ваш ответ.
— Во-первых, те, кто меня сначала кормил, они больше не представляют власть, так что, когда они кормили меня за казенный счет, это был другой общественный строй.
— Давайте общественный строй вынесем за скобки. А вот обществу — зачем?
— Общество, думаю, в достаточной степени, хотя и очень медленно, убедилось, что, если науки совсем нет, оно замирает в довольно-таки плохом состоянии развития, ему становится совсем не по себе. А зачем вообще развиваться обществу — это вопрос философский.
— Застревает общество, в котором нет науки или недостаточно технологий?
— Я никаких технологий без науки не знаю.
— Например, сделанные в соседнем государстве. Все достижения науки приведены в публикациях, а мы будем просто ими пользоваться.
— Где это сделано — меня не интересует совершенно.
— Вы же сказали, что общество замирает без науки — по-видимому, вы имеете в виду общество как страну, а не в смысле всё человечество.
— Я имею в виду и страну, и человечество.
— Ого! Давайте вернемся к стране. Почему плоха модель, когда в стране есть технологии, которые основаны на свободно опубликованной науке, сделанной где-то еще?
— Я с трудом представляю себе такую страну.
— Сингапур? Южная Корея? Финляндия?
— У них и наука сейчас прекрасно развивается. Как только начинает развиваться что-то технологическое на основе тех достижений, которые сделаны вне здешних географических пределов, то в стране непременно найдется человек, который захочет расширить то, что сделано, — это же всегда так.
— Можно не давать ему денег. Выдавать гранты только на технологические проекты.
— Этим у нас вполне успешно занимаются.
— Я и пытаюсь добиться, чтобы вы объяснили, почему это неправильно.
— Во-первых, потому что у меня, как было сказано не мной, много эстетических различий с властью, и если государство не хочет оплачивать труд ученых, то мне такой подход кажется эстетически неправильным.
— Власти, между прочим, наплевать, что профессор Апт имеет с ней эстетические различия.
— Это точно, но это довольно далеко уводит нас от темы разговора.
— Извините. Я от вас хочу простого и убедительного довода, почему неправилен способ пользоваться тем, что уже опубликовано другими учеными во всяких Nature и Science, и делать на основе этих публикаций свои разработки, а при этом самим ничего не публиковать, ведь тогда разработки сделает кто-то еще.
— Такой подход заведет нас в тупик. Дело в том, что если в России не будет исследователей, которые публикуются в Nature и Science, то скоро в стране не останется и читателей этих журналов.
— Чудесно. Вы повторили мою фразу, которая даже вошла в «Стратегию‑2020» — помните, был такой документ?
— Я к нему не имел отношения.
— Я тоже. Но один из ее авторов со мной разговаривал, и я ему сказал, что трагедия наступит не тогда, когда некому будет писать в Nature, а тогда, когда некому будет читать Nature.
— Это вопрос не ко мне, потому что я всё слишком рано для себя решил. В то героическое время я не знал, зачем люди занимаются наукой, мне просто всегда это было интересно. А потом мне стало более-менее понятно, что ничего сложнее биологии нет, и появился такой challengе.
— А зачем человечеству нужны люди, которые занимаются биологией? Почему налогоплательщики должны оплачивать ваш challenge?
— Меня крайне мало это волнует.
— Погодите, вот если к вам придет налоговая инспекция и скажет: профессор Апт, мы вас кормили сорок лет…
— Они меня не кормили.
— А кто?
— Во всяком случае, не налоговая инспекция.
— Налоговая инспекция в данном случае является представителем налогоплательщиков.
— На это существует множество ответов.
— Я знаю, мне интересен ваш ответ.
— Во-первых, те, кто меня сначала кормил, они больше не представляют власть, так что, когда они кормили меня за казенный счет, это был другой общественный строй.
— Давайте общественный строй вынесем за скобки. А вот обществу — зачем?
— Общество, думаю, в достаточной степени, хотя и очень медленно, убедилось, что, если науки совсем нет, оно замирает в довольно-таки плохом состоянии развития, ему становится совсем не по себе. А зачем вообще развиваться обществу — это вопрос философский.
— Застревает общество, в котором нет науки или недостаточно технологий?
— Я никаких технологий без науки не знаю.
— Например, сделанные в соседнем государстве. Все достижения науки приведены в публикациях, а мы будем просто ими пользоваться.
— Где это сделано — меня не интересует совершенно.
— Вы же сказали, что общество замирает без науки — по-видимому, вы имеете в виду общество как страну, а не в смысле всё человечество.
— Я имею в виду и страну, и человечество.
— Ого! Давайте вернемся к стране. Почему плоха модель, когда в стране есть технологии, которые основаны на свободно опубликованной науке, сделанной где-то еще?
— Я с трудом представляю себе такую страну.
— Сингапур? Южная Корея? Финляндия?
— У них и наука сейчас прекрасно развивается. Как только начинает развиваться что-то технологическое на основе тех достижений, которые сделаны вне здешних географических пределов, то в стране непременно найдется человек, который захочет расширить то, что сделано, — это же всегда так.
— Можно не давать ему денег. Выдавать гранты только на технологические проекты.
— Этим у нас вполне успешно занимаются.
— Я и пытаюсь добиться, чтобы вы объяснили, почему это неправильно.
— Во-первых, потому что у меня, как было сказано не мной, много эстетических различий с властью, и если государство не хочет оплачивать труд ученых, то мне такой подход кажется эстетически неправильным.
— Власти, между прочим, наплевать, что профессор Апт имеет с ней эстетические различия.
— Это точно, но это довольно далеко уводит нас от темы разговора.
— Извините. Я от вас хочу простого и убедительного довода, почему неправилен способ пользоваться тем, что уже опубликовано другими учеными во всяких Nature и Science, и делать на основе этих публикаций свои разработки, а при этом самим ничего не публиковать, ведь тогда разработки сделает кто-то еще.
— Такой подход заведет нас в тупик. Дело в том, что если в России не будет исследователей, которые публикуются в Nature и Science, то скоро в стране не останется и читателей этих журналов.
— Чудесно. Вы повторили мою фразу, которая даже вошла в «Стратегию‑2020» — помните, был такой документ?
— Я к нему не имел отношения.
— Я тоже. Но один из ее авторов со мной разговаривал, и я ему сказал, что трагедия наступит не тогда, когда некому будет писать в Nature, а тогда, когда некому будет читать Nature.
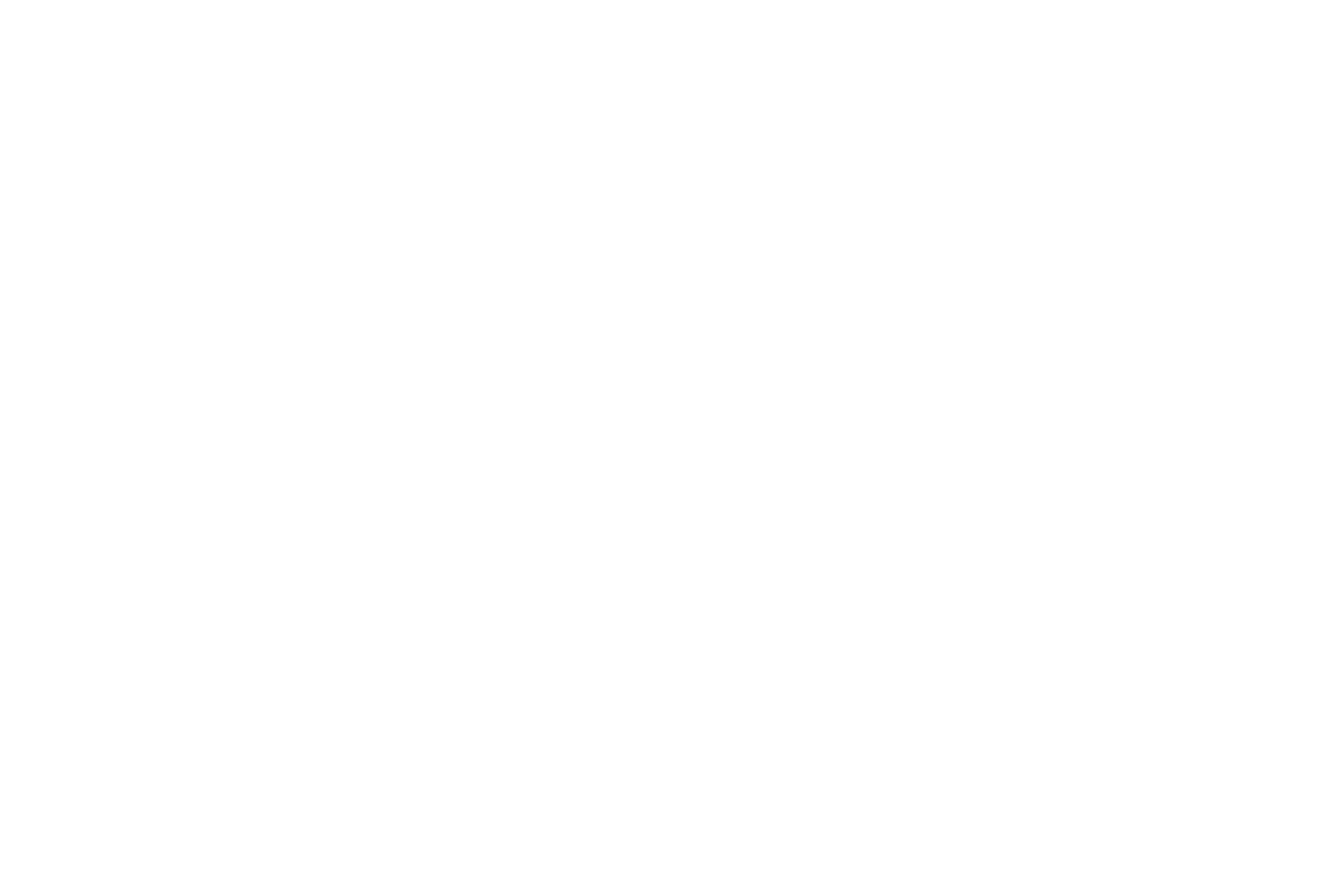
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
P.S. Вопросы от выпускающих редакторов
— Какая главная удача и потеря 2021 года для вас — в науке и не только?
— Мне всегда трудно отвечать на подобные вопросы, поскольку наука вообще-то не дискретна, на отрезки не разделяется. Что мне всегда интересно, помимо профессии, так это всякие штуки из эволюции человека (прежде всего на стыке генетики, антропологии, истории и лингвистики).
Главные потери для меня — это нарастающий бардак в геополитике (в России и не только, в этом году и не только), во многом зависящий от постоянно нарастающего отупения среди принимающих решения. Люди оказались не готовы жить одновременно и по-настоящему, и в компьютере, а выхода не видно, тем более что переход между поколениями неизбежно становится сильно резче.
— Скажите, пожалуйста, какие переводы Соломона Константиновича Апта вы перечитываете и цените больше всего? Как менялось ваше отношение к этим книгам со временем? Что вы любите в принципе из художественной литературы, театра, кино, музыки? Или свободного времени на эти вещи слишком мало?
— Проще всего ответить на вопросы о чтении. Из переводов отца очень люблю «Избранника» Томаса Манна, иногда листаю «Трехгрошовую оперу» Брехта (хотя зонги знаю наизусть), нахожу удовольствие в «Птицах» Аристофана. Раньше список был шире, но Гессе, Музиль, Кафка как-то постепенно выпали из круга чтения.
Разумеется, русская классика первого ряда, включая чтение Пушкина, Гоголя, Алексея Константиновича Толстого вслух с женой на даче. «Мертвые души», «Братья Карамазовы» и «Война и мир» — непременно раз в несколько лет. Нового читаю немного, ценю Гузель Яхину, сейчас читаю «Немого Онегина» Минкина — есть отличные места. На ночь часто читаю любимые «детские» книги — от «Крестоносцев» Сенкевича до «Ходжи Насреддина» Соловьёва. Постоянно перечитываю The Jungle Book Киплинга по-английски — считаю замечательно умной книгой.
К театру равнодушен, кино — только мировая классика 1960–1970-х, или «хлоп по морде», или «всех убили, одного ранили». Музыка — разная, от Моцарта и Гайдна до Beatles, хорошего рока, Эллы Фицджеральд и цыган.
— Мне всегда трудно отвечать на подобные вопросы, поскольку наука вообще-то не дискретна, на отрезки не разделяется. Что мне всегда интересно, помимо профессии, так это всякие штуки из эволюции человека (прежде всего на стыке генетики, антропологии, истории и лингвистики).
Главные потери для меня — это нарастающий бардак в геополитике (в России и не только, в этом году и не только), во многом зависящий от постоянно нарастающего отупения среди принимающих решения. Люди оказались не готовы жить одновременно и по-настоящему, и в компьютере, а выхода не видно, тем более что переход между поколениями неизбежно становится сильно резче.
— Скажите, пожалуйста, какие переводы Соломона Константиновича Апта вы перечитываете и цените больше всего? Как менялось ваше отношение к этим книгам со временем? Что вы любите в принципе из художественной литературы, театра, кино, музыки? Или свободного времени на эти вещи слишком мало?
— Проще всего ответить на вопросы о чтении. Из переводов отца очень люблю «Избранника» Томаса Манна, иногда листаю «Трехгрошовую оперу» Брехта (хотя зонги знаю наизусть), нахожу удовольствие в «Птицах» Аристофана. Раньше список был шире, но Гессе, Музиль, Кафка как-то постепенно выпали из круга чтения.
Разумеется, русская классика первого ряда, включая чтение Пушкина, Гоголя, Алексея Константиновича Толстого вслух с женой на даче. «Мертвые души», «Братья Карамазовы» и «Война и мир» — непременно раз в несколько лет. Нового читаю немного, ценю Гузель Яхину, сейчас читаю «Немого Онегина» Минкина — есть отличные места. На ночь часто читаю любимые «детские» книги — от «Крестоносцев» Сенкевича до «Ходжи Насреддина» Соловьёва. Постоянно перечитываю The Jungle Book Киплинга по-английски — считаю замечательно умной книгой.
К театру равнодушен, кино — только мировая классика 1960–1970-х, или «хлоп по морде», или «всех убили, одного ранили». Музыка — разная, от Моцарта и Гайдна до Beatles, хорошего рока, Эллы Фицджеральд и цыган.
Материал был опубликован в газете «Троицкий вариант — Наука»* №25 (344) от 21 декабря 2021 г.
*СМИ признано в России иностранным агентом
*СМИ признано в России иностранным агентом
Отец Александра Соломоновича — знаменитый советский филолог, переводчик античной и немецкой литературы Соломон Константинович Апт. Мать — Екатерина Васильевна Старикова — литературовед, специалист по русской прозе.
